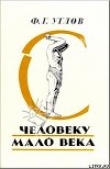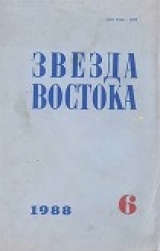
Текст книги "Черная радуга"
Автор книги: Леонид Шорохов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
13.
И вот сегодня утром Лиза будет впервые кормить малышку и, как все остальные молодые мамаши, конечно покажет ему дочку в окно.
Семен волновался.
Ведь по всем писаным и неписаным обычаям ему полагалось захлебываться от радости, парить, ног под собой не чуя. Он же пока еще, хоть убей, не испытывал к дочери никакого, даже самого коротенького чувства. И любопытства-то особого не было: ну покажет ему Лиза сверху эдакий сплошь забинтованный сверток, ну и что? Не будет же он всерьез подпрыгивать от восторга, как прочие молодые отцы; ведь еще если бы сын был, тогда как-то можно было понять и оправдать эту неприличную мужчине трясучку! Ну а девка – что?
В день первого кормления и показа приходили все заинтересованные отцы, и Семену показалось неприличным отстать от остальных. Неловко выйдет: все идут – стало быть, надо идти. Ну надо и надо – пойдет и он.
– Эх, жизнь! – вздохнул Углов, переходя улицу.
Жизнь, действительно, мало благоприятствовала.
Он подошел к роддому как раз вовремя. Возле двухэтажного белого здания, расположенного в центре большого ухоженного сада, уже кучковался десяток мужчин. Углов подошел к ним и тоже задрал голову вверх. Рядом с Семеном затухали и вновь вспыхивали короткие, понятные всем с полуслова разговоры.
– Четыре девятьсот! – небрежно бросил невысокий, ладный крепыш. Трудно сдерживаемая гордость так и сочилась из него, так и распирала всю его огневой силы натуру.
– Да, богатырь! – с заметной завистью отозвался сосед.
Углов стыдливо потупился. Дочка его потянула три килограмма ровно. Девка. Ясно, что своего голоса среди настоящих, среди путевых мужиков он не имел.
Пришел еще десяток томительных для Углова минут. Потом за стеклом мелькнуло белое, и Семен увидел Лизу. В глаза ему бросились темные веки и странно изменившийся овал похудевшего лица. Сердце его дрогнуло и остановилось. Глаза Лизы сияли. Вся она словно светилась за туманным ореолом стекла. Никогда не свойственная ей раньше горделивая осанка выпрямила в струну ее хрупкую фигуру и круто развернула узкие, покатые плечи. Движением, полным невыразимой грации и благородства, она подняла маленький белый сверток и показала его Семену.
Углов глянул на сверток и онемел.
Из середины плотного белого свертка смотрело на него сморщенное красное личико, бессмысленное и жалкое. Ничего мало-мальски человеческого не уловил Семен в этой маске лица. Он невольно отступил от окошка. «Как?! – молнией пронеслась в его голове испуганная мысль. – Вот это и все?» Страшное разочарование охватило Семена. Он с испугом оглянулся по сторонам. Боже, все наверняка уже увидели этого маленького уродца и, конечно, тоже охвачены чувством невольного отвращения! Срам-то какой! А Лиза – что ж, она не видит разве, чего они вместе наделали? Он чуть было не крикнул во все горло: «Да спрячь ты это, ради бога!» – но вовремя опомнился. Да и к тому же никто вокруг него не проявлял к угловскому чаду особенного внимания; все были плотно заняты созерцанием собственных созданий, Семен исподтишка глянул на чужих. Они показались ему терпимыми – младенцы как младенцы. Только его дочка почему-то показалась ему не такой. Впрочем, взглянуть на нее еще раз Семен не решился.
Через пару минут он шел по веселой утренней улице, направляясь на работу. Глубокая задумчивость вмиг состарила Семеново лицо. Всегда энергичная пружинистая походка стала шаркающей. Никогда еще за всю свою жизнь не ощущал он такого разброда мыслей и чувств. «Господи, да какое же оно противное, ни на что на свете не похожее! – с отчаянием думал он. – А Лизка – будто ослепла!» Она Семена страшно поразила: как жена, такая чуткая, такая отзывчивая к малейшей красоте, может не видеть всего трагизма их нового положения. Лиза явно гордилась этим крохотным уродцем, а ведь оно наверняка навсегда останется таким же, таким… Не находя слов, он вылепил в воздухе руками нечто бесформенное.
Углов ничего, ну решительно ничего, не испытывал к бессмысленному кусочку, показанному в окошко. Впрочем, нет, испытывал, да, да, испытывал невыносимо горькое чувство. «Да почему я должен любить это существо?» – вдруг остановившись, спросил он себя. И сам же ответил: «Потому что это моя дочь. Моя дочь? Да, моя дочь, а человек обязан любить своих детей». Обязан? Как можно любить по обязанности? По обязанности можно отдавать долги, учиться, работать, наконец по обязанности можно даже пожертвовать жизнью, но почувствовать – по обязанности, но полюбить – по обязанности?! Этого Семен никак не мог уразуметь. Обязанность никак не вязалась с его представлениями о чувствах.
«Может, я один только такой? – подумал он с невольным испугом. – Вон все другие отцы как радуются. Но что же мне делать, если я не могу ничего испытывать к этому крохотному существу?»
В голову закралось слабое подозрение, что, может быть, и другие отцы в своих думах и чувствах недалеки от него и что, может быть, они только притворяются небывало счастливыми, как только что притворялся он, глядя на дочку и усилием воли растягивая губы в фальшивой улыбке.
Вот если бы дело касалось Лизы – тут бы он понял.
Семен любил жену без всяких рассуждений. Здесь ему не надо было ни в чем себя уговаривать. Стоило Лизе хоть ненадолго отлучиться, вот как, например, сейчас, – и Семен начинал мучиться и тосковать. Все вокруг становилось враждебным и раздражающим. Характер его моментально портился и каждый пустяк начинал выводить из равновесия.
Но разве это хоть в самой малой мере зависело от долга, от обязанности или от Лизиного по отношению к нему положения? Отнюдь! Дико прозвучало бы: «Я люблю Лизу потому, что она моя жена». Да это было глубоко второстепенное – жена или не жена. И было только очень справедливо, что любимая женщина и формально принадлежала ему, и было справедливо, что чувства его не нуждались ни в каких искусственных теориях. В любви к Лизе он был самим собой и, ничем здесь не отличаясь от прочих, чувствовал себя спокойно до сегодняшнего дня. Страшным, потрясающим диссонансом ворвалось в его душу первое знакомство с собственной дочерью.
Углов шел по улице, не замечая ничего вокруг. Мучаясь и казня себя за зверскую бесчувственность, он не знал еще, что чувства и переживания его есть чувства и переживания многих людей, что нет нравственности в любви так же, как нет в ней и безнравственности, что сердце, способное страдать, способно и полюбить, что самая лучшая, прекраснейшая пора расцвета его отцовства вся еще впереди.
14.
Сегодня Семен подъехал к управлению раньше шести. В «стекляшке» на берегу Акдарьи он не был по причине уважительной – в его кармане вот уж неделю свистел вольный ветер. Пришлось поневоле вести трезвую жизнь.
У дверей управления одиноко скучал Никола, прораб соседнего участка. Углов удивился:
– До планерки-то еще почти час. Ты чего так рано, Никола? А-а, «стекляшка»?
Никола махнул рукой.
– Надоело! На участке дела кубарем идут, не до «стекляшек». У тебя как с планом?
Углов пожал плечами:
– Как у всех, так и у меня. Шуму много, толку чуть.
Он подошел поближе. Разговор наклевывался интересный.
– Слушай, Никола, – сказал Семен, – ты ведь по стройкам полтора десятка лет кантуешься, так што, неужели везде такой же бардак, как у нас в управлении? Или, может, только мы так работаем?
– А как мы работаем? – невесело усмехнулся Никола.
– Тебе, что ль, объяснять?! – взвился Углов. – А то не знаешь как! По три раза на дню заседаем – это что? Ведь на толковищах-то этих только лапшу на уши вешаем – мы начальству, начальство нам. Что-то мы не то делаем, как видно, а, Никол? Ты как думаешь?
– Как думаю? – В глазах мелькнул яркий желтый огонь. Мелькнул и погас. – А никак не думаю. Привык.
– Да ты погоди, привык… – заволновался Углов. – Я же всерьез, а ты дуру гонишь. Нет, чтоб по совести…
– Ишь, заныл. Думаешь, тебе одному поперек горла такие порядки? Эх ты, Угол, Угол! Если уж такому тюфяку, как ты, тошно стало, то каково мне? Уже и тебя прошибло, а ты ведь только по пятому году прораб, еще толком не оперился, а у меня за горбом семнадцать прорабских лет – легко ли? Слезами кровавыми плачу последние годы. Знаю я вас, шептунов! Вы думаете, Никола ушляк, Никола свое из горла вырвет, ему што, лишь бы пенки сорвать, а все остальное до фени!
Лицо его перекосилось.
Углов смотрел на него и не узнавал. Иной стороной повернулся к нему жох-парень, прораб Никола, и вид этой новой стороны резко поломал все прежние угловские о нем представления.
Никола с трудом совладал с болезненной судорогой, изуродовавшей его щеки, и продолжал с тихим, едва сдерживаемым бешенством:
– Думаешь, я всегда таким был – склизким да покладистым? Врешь! Я ведь тоже вроде тебя на стройку пришел: ах по науке, ох по закону! А мне стройка-то в ответ свой закон и свою науку преподала: построить можешь и не построить, а вот не доложить, что построил, – не моги! На деле что хочешь твори, там твоя вольная юля, а вот на бумаге – здесь оно, брат, другое дело. На бумаге ты что начальству нужно нарисуй! Потому как та бумага, тобой нарисованная, она ведь не просто бумага, она свое течение по жизни имеет. Она шибко в гору идет, аж до самого верха. Идет что добрая коняга – и волокет за собой громадную телегу. И на той телеге кто-кто только не сидит! И мы, ее первые сочинители, там, и кто над нами там, и кто над теми, кто над нами. А там уж такие тузы видны – дух захватывает!
Семен поежился.
– А не подписать? – спросил он робко, сам ощущая всю беспредельную наивность вопроса.
– Не подписа-ать? – с насмешливым сожалением протянул Никола. – А народ куда? Всех вот этих, что она на себе везет? Ты бумагу ту не подписать хочешь. Шалишь, брат, подпишешь! Ввод – дай! Метры – покажи! Объект – нарисуй! Под каждым тем тележным ездоком кресло, и никто из-за твоей раздолбанной совести из него вылезать не станет! Не для того залезали. – Никола усмехнулся. – Эх, Семен, если б ты знал, какую страшную силу дармовой кусок имеет! И кого он только на лопатки не укладывал. Я вот тоже, вроде тебя, артачился спервоначалу – мол, не по совести! А мне в ответ: что ж, у тебя у одного совесть-то имеется? И так ласково: а мы-то, что же, выходит, ироды? Смотрю – мать честная, на кого бочку качу! Я пацан после техникума, а тут что ни дядя, то министр – шляпы, должности, галстуки! Куда мне против них. Поежился-поежился, да и подписал. Ну а после стал я не глядя всякую липу подмахивать. Как все – так и я, как все – так и я!
Он замолчал, порылся в карманах и, вытянув мятую пачку «Примы», закурил. Углов не решался продолжить разговор. Никола в три длинные затяжки сжег сигарету до середины и начал снова:
– А ведь я до того, веришь, брат, на стройку, на работу свою как на праздник ходил. Иду утречком, по холодку, а ноги мои вперед меня бегут и сердце в башку стукает – чего же это я сегодня еще придумаю, чтобы дело у меня половчее шло? Так и подмывало. А как подмахнул впервой липу-то, как отчитался за то, чего не построил, да как получил за это в кассе свои первые нетрудовые денежки… И вот, значит, как получил, как глянул – и нехорошо мне стало и муторно, что с похмелья. И с той самой поры никогда мне, Семен, толком не легчало. Все какая-то муть так в горле и стоит.
Углов задумался. Он и сам давно заметил неладное. Когда он еще только начал работать прорабом и впервые плотно, с полной ответственностью вошел в дело, ему показалось удивительным, что при такой постановке работы вообще можно хоть что-то построить. Тогда он еще думал, что все дело в них самих. Пацан, он увидел только верхушку айсберга. Теперь, организовывая работу, он уже знал: коли за день удается выполнить четверть намеченного, то уже и это замечательно! И дело тут было не только и не столько в нем или в том же Николе. Ведь большую часть своего рабочего времени он был не прорабом, не строителем, не инженером, а доставалой! То не было того, то не было этого, то не было и того и этого, и приходилось изворачиваться ужом, чтобы люди на объектах не простаивали. Как тут было не приписывать? «Эх, Семен, Семен, – безнадежно говорил ему тогда битый волк Никола. – Ты только погляди, чем нынче строят? Это ведь раньше, когда я был помоложе, строили мы лесом, кирпичом да цементом. А нынче? Норовят деньгами! План дадут, счет в банке откроют – паши! А леса – нет! Металла – нет! Цемента – нет! Одних разрисованных бумажек вдоволь. А что из них построишь?»
Семен, послушав опытного человека, стал внимательно присматриваться. Он быстро обнаружил, что под новые объекты действительно споро и без всяких задержек выделяли деньги. С поставками же стройматериалов творилось мистическое. Главным хозяином любого строительства оказывался поставщик. Он мог завалить стройку сверх всяких потребностей одними материалами и годами не завозить других. Во всем была его вольная волюшка и все управы на него существовали лишь в воспаленном воображении строительных законодателей. На деле же поставщик был совершенно неуязвим. К тому же он и находился обычно в чертовой дали от стройплощадки. Где тут его укусить?
Большей неразберихи, чем та, которая происходила со снабжением, Углов никогда не смог бы себе и вообразить. Тут был великий простор для оборотистых дельцов, но тут же лежало и горе рядовых линейщиков. Необходимые материалы обнаруживались только тогда, когда у строителей начинали хрустеть в руках живые купюры. Платить приходилось за все – за обещание, за подпись, за погрузку, за выгрузку, за недомер, за недогруз, за недочет! Маклаки сидели повсюду – и на погрузке, и на выгрузке, и в конторах, и на складах, и даже в огромных престижных, оковеренных кабинетах встречались такие ушлецы, что Углов только чесал в затылке и разводил руками. Что тут было делать? Не дать означало бы с треском завалить дело. Ведь у тех, от кого это зависело, нашлись бы тысячи причин, чтобы оставить прораба без стройматериалов. И Углов давал, как давали и все остальные, оказавшиеся в его шкуре. А давать неизбежно означало и брать самому. Семен не печатал денег, и приходилось добывать их явно криминальным способом. Кроме того, невозможно было не подкармливать и родной трест.
…И цвела и жирела под роскошным солнцем этим пышная бабеха – приписка!
15.
Семен начал просыпаться среди ночи и лежать с закрытыми глазами, мучительно переворачивая в мозгу тяжелые жернова мыслей. Лиза ровно дышала рядом, закинув на него пышущую жаром руку. За изголовьем посапывала в своей кроватке Аленка. Редко пробегающие по улице ночные машины высвечивали фарами переплет окна. Стараясь не разбудить жену, Семен осторожно снимал с груди ее руку и отодвигался. Чувство непереносимого одиночества охватывало его. Казалось, что он чужд всему и всем на свете. «Вот лежит рядом молодая, красивая женщина, – думал он, – и доверчиво прижимается, и ласкает, и говорит, что любит, а что она знает обо мне? Ей непонятно, что можно быть с виду благополучным и в то же время находиться на самой грани самоубийства. Ей непонятно, что, имея все, можно не иметь чем и зачем жить!»
Страшный душевный непокой не давал ему лежать. Семен тихо вставал и шел в гостиную. Красной точкой, сигналом беды горел в темноте огонек его сигареты, но никто в мире не спешил откликнуться на этот сигнал. «Разбуди я Лизу сейчас и скажи, что не могу заснуть, заживо съедаемый мыслями, – что она сделает? Я знаю, что сделает, – мрачно усмехнулся Семен, – закудахтает, заволнуется. Нет, она не останется равнодушной, она поможет мне – но только по-своему. Валерьянкой, или пилюлей снотворного, или убаюкает ласками и назавтра забудет обо всем. Нет уж, тогда лучше мое лекарство – выпил пол-литра и никаких проблем! Лиза, я не могу и не хочу больше жить, потому что не вижу перед собой никакой цели. Я разлюбил свою работу, я разлюбил быть мужем, я разлюбил быть отцом, и я не знаю, почему произошла со мной такая беда. Я стал равнодушен ко всем на свете и вместе с тем неспокоен. Почему я так неспокоен? Почему внутри меня все нарастает и нарастает страшный разброд? Ведь единственное время, когда я относительно спокоен, – это те часы, что я провожу в парке, забыв о семье, работе и всех своих больших и малых обязанностях! Там я свободен и там я спокоен, и мне хорошо. И такие же, как я, чужие, незнакомые люди пьют со мной вино и не желают никому зла, и просят только одного – чтоб их, наконец, оставили в покое! У нас нет прошлого и нет будущего, у нас есть одно лишь настоящее – вот этот кусочек милой природы вокруг, небо над головой и вино, расковывающее душу. Мы никого не зовем к себе и никого не гоним. В эти минуты мне не нужен никто, но я не ощущаю себя одиноким, потому что знаю, что эти случайные люди думают и чувствуют то же, что и я. И какая мне при этом разница, кто из них есть кто?»
Он сразу ожесточился, подумав, каким презрением наполнилась бы Лиза, увидев его компанию. «Ты пьянствуешь со всякими подонками…» – сказала бы она. «Да ты-то чем лучше?! – прорычал бы Семен в вязкую темноту. – Что ты, придет время, сдохнешь, что они, – так какая же между вами разница? Скажешь, жили по-разному? Ну, жили. Вот и живите, а смерть все равно всех уравняет. Сильно чистенькие стали – простому человеку к вам и не подойти. Как же! У вас, Лизавета, своя, чистоплюйная компания. Ну да ладно, мы и в своей не пропадем, лишь бы вы нас не трогали!»
Но потаенным разумом Семен понимал, что мир вокруг него всегда трогал и будет трогать тихий закуток его успокоения, и он ожесточался против этого враждебного мира всеми силами души.
Сигарета догорала, и Семен уходил в спальню. Ненарушимый мирный покой царил в этом тихом убежище, и только один он понимал, как зыбок, как призрачен этот покой.
«Может ли кто-нибудь в целом свете залезть в мою бедную голову и снять эту тупую боль в виске? – думал он. – Снять и утихомирить чувство невыносимой тоски и беспросветного отчаяния, которое не дает мне жить, как живут все остальные люди?»
Семен ложился, поворачивался набок и съеживался в комочек, как делал когда-то в далеком полузабытом детстве. Смутно припоминался ему ласковый голос матери, утешающий его после очередной бессмысленной и жестокой драки с ребятами, в которую он влезал, словно притянутый невидимым магнитом. Вот он лежит, хлюпая разбитым носом, на деревянном топчане во дворе их барака; лежит, подтянув к подбородку колени, и давится холодными бессильными слезами. А мать хлопочет рядом, у мангалки, готовя нехитрый ужин, и говорит ему что-то мягкое, и подходит к Семену, и кладет ему на голову натруженную ладонь. И стихает боль, и уходит одиночество.
Но уж давно нет на этом неласковом свете ни его всегда занятого, угрюмого отца, ни его тихой матери, и некому стало облегчить все нарастающую внутри Семеновой головы боль.
«Ах, Лиза, Лиза… Выпить бы, выпить…»
Опять вставала над ним радуга дней его жизни. Черная радуга… Черная…
16.
Словно огромный мутный водоворот день за днем кружил Углова, приближая его к страшному провалу огромной воронки. Было время, когда ленивая тяжелая сила медленно вращала его по периферии гигантского волчка. Тогда ему казалось, что никакого конца этого вращения не предвидится, что успеет пройти вся его жизнь, прежде чем он приблизится к крутой, отсвечивающей зеркальными бликами пропасти, что сил, отпущенных ему природой, хватит, чтобы противостоять ускорению этого вращения, нарастающего к эпицентру пучины.
Но чудовищная инерция движения оказалась сильнее его ничтожных усилий, да и, видя безнадежность борьбы, Семен бросил сопротивляться ленивому и медлительному насилию. Сладко было подчиниться убаюкивающему, ласковому движению, и конец его пьяной жизни был, казалось, еще так далек, и глаза Углова, не желающие видеть неизбежного, не видели его.
Медленными, мелкими, сторожкими шажками вошел алкоголь в Семенову судьбу. Первые изломы были невелики. Легкие стычки с женой, перманентное отсутствие карманных денег, утренние головные боли – рядовое дело, кто этим не страдал, – успокаивал себя Углов.
Но вращение нарастало. Из средства спиртное понемногу превращалось в цель.
«Чего-то я не понимаю», – мучительно думал Углов. А не понимал он простых с виду вещей, которые на поверку оказывались сложными. Сложными, потому что требовался не ум, не большая сообразительность, а качество иное, подчас более важное, чем тот же самый ум. Ибо мало оказывалось только понимать, и не в понимании лежала главная заковыка жизни, а лежала она в необходимости действия, волевого усилия.
Мир вращался вокруг железного стержня воли. Никакой ум ничего не стоил без нее. Умных людей было много. Углову иногда казалось, что дураки на свете и вовсе перевелись: кого ни послушай – государство можно ему под начало доверить. Но как дело доходило до реальных поступков, все они оказывались мелкими, грошовыми, подчас безумными. Почему? А потому, что воли требовал умный и смелый поступок! Углов очень убедился в этом на собственном примере. Ему не хватало силы ни в чем отказать. Дефицит воли оказывался непоправим. Без ума еще можно жить – без воли только существовать. Подтверждалось это ежедневно.
С самого раннего детства Углов купался в потоке правильных слов. Сначала их внушала Семке пионервожатая, потом эстафету перехватил техникумовский комсорг, дальше парторг стройуправления время от времени напоминал Семену Петровичу о том, что такое хорошо и что такое плохо. Правильные слова звучали из репродукторов, с экранов телевизоров, заполняли полосы газет, – кажется, должны бы они были стать плотью и кровью любого внимающего им человека.
И точно, были такие люди. И Семену они встречались. Для них слова, сошедшие с высоких трибун, были не столько словами, сколько воздухом, которым они дышали, сколько мыслями и чувствами, которыми они жили. И Углов поначалу думал, что легко вольется в их могучий и светлый поток.
Ан нет, скоро сказка сказывалась, да не скоро дело делалось! Оказалось, что слушать те высокие слова или повторять их куда спокойней, чем по ним жить. Жить по ним оказывалось непросто и даже не вполне безопасно. Ибо слова те требовали именно поступков. За святые слова нужно не прятаться, а в бой за них идти – и в какой бой! Каждый услышанный Семеном призыв требовал действия – и вот тут-то без мужества и воли было никак не обойтись.
Впрочем, имелась некоторая послаба, подсказка – куда и как идти, но общее течение не одобряло выскочек. «Умнее всех хочешь быть?» – в самом вопросе содержалось порицание смельчака. Ответить: «Да, хочу!» – не позволяла угловская натура.
Страх свирепствовал внутри Семена. Страх оказаться за пределами привычного круга поступков; страх оказаться не таким, как все; страх оказаться лучшим, чем все! Ибо оказаться лучшим, чем все, означало бы выйти на ледяной ветер всеобщего неодобрительного обозрения.
В самом деле: первый вопрос, который он слышал, намереваясь поступать вопреки застарелым традициям, звучал так: «Сам-то ты каков, что нас взялся учить?»
И вот тут Семену уже нельзя было допустить в себе никакого сучка или даже задоринки. Чистое дело требовало хрустальной души, а где ее было взять Углову? Грязь из-под чужих ногтей выковыривать оказалось делом сомнительным, ибо и своей грязи всегда хватало.
Одиноко становилось. Сочувствовали и одобряли все – поддерживали на деле немногие. Каждому было что терять.
«Да что я, в конце концов, как баба? – казнил себя Углов. – Никому отпора дать не могу. Вижу, что не по совести поступают, и молчу. Где мой мужской характер?» Характер действительно оказывался бабьеват. Уступки и компромиссы были копеечные, но беда заключалась в том, что они имели свойство накапливаться. На работу к восьми? Семен разок опоздал случайно на десяток минут, другой… Никто ничего ему не сказал. Значит, ничего страшного. Постепенно вошло в систему. Эка беда! Все равно почти каждый день приходилось на работе до ночи торчать.
Скажи сейчас кто Углову, что на работу опаздывать не к лицу – и он бы от чистой души возмутился: «Подумаешь, об чем речь!» Правда, в глубине души Семен не мог не понимать, что он только тогда прав перед другими, когда сам чист и справедлив, но переломить привычки уже не мог. Мелочь, пустяк? Жизнь состояла из таких мелочей. Теперь Углов на опаздывающих рабочих не мог так зычно цыкнуть, как в первый год работы, – проще было промолчать. Даже и прогульщики постепенно переставали быть бельмом на Семеновом глазу (что ж поделаешь?), – он привык к неизбежности зла. Мастер на полдня исчезал с объекта неведомо куда – Семен досадливо морщился, но шибко уж не шумел: бывает.
Еще и еще появлялись трещинки и щербинки в Семеновой душе. Сначала он и помыслить не мог хлебнуть в разгар рабочего времени стакан водки: работа не игра, за людей отвечаешь, за технику, проморгать легко, а не приведи бог – травма?!
Но прорабы собирались в кучку после работы (ясно для чего), в обед частенько скидывались по трояку, – Семен никак не хотел выглядеть белой вороной, его бы не поняли, нет, не поняли. И он постепенно привык к успокоительной мысли, что нет особого криминала в том, чтобы принять «сотку» в разгар дня. А привыкнув, сам стал искать повода и случая. Складчины устраивались едва ли не трижды в день. Любой пустяк решался только через пол-литра. До обеда Углов ставил Николе ноль пять, после обеда Никола Углову. Обоим хорошо. Дальше больше. Семен и не заметил, как перерывы между выпивками стали короче. Постоянная «подгазовка» сняла еще один предохранитель с его совести.
Случай вышел неважнецкий, но показательный. Семен не любил о нем вспоминать, но вот, поди ж ты, вспоминалось.
Мастер с его участка, Сергей, загнал налево куб опалубочных досок. Углов поймал делягу на горячем. Ах ты, такой-сякой, и так с лесом вечный недочет, а тут на тебе – последнее налево уходит!
Семен кинулся к мастеру:
– Да я тебя!..
Сергей, против ожидания, вместо того, чтобы пасть на колени и вымаливать пощаду, взвился на дыбы так, словно на воровстве попался Семен, а не он сам.
– Тебе булку с маслом, а мне сухую корку?! – закричал он. – Смотри, какой чистенький нашелся! Кто в прошлом месяце пару мертвых душ по объекту закрыл – ты или я? Хоть слово против я пискнул? Значит, четыре бумаги себе в карман положил – это ничего, а меня за полсотни прессуешь?!
Семен подпрыгнул от неожиданности.
– Да ты что, Сергей? – принялся он разъяснять, заикаясь. – Я ведь тебе объяснял, на что деньги пошли. Сам знаешь, ревизор приезжал из треста – поили, кормили, дарили, провожали. Вот они и разошлись, те бумаги. Разве я себе? Дмитрий Семенович велел…
Сергей скривил губы в понимающей усмешке.
– Кому гоните, Семен Петрович? Думаете, я уж совсем лопух? Начальник велел… Начальник начальником, а про себя еще никто никогда не забывал. Чтоб по усам текло, да в рот не попало? Не смешите меня, Семен Петрович. – Он независимо сплюнул. – Да хоть бы и все ревизору ушло – что с того? Ревизор человек, а мы мухи? А кто план дает, кто объекты вводит – ревизор, что ли? Ему, значит, можно жить, а нам нельзя? Нет уж, шалишь. Коли ему можно, так нам сам бог велел!
– Это почему ж велел? – глухо спросил Углов.
– А потому! Раз рыбка с головы завоняла, Семен Петрович, так за хвост ее дергай не дергай – толку нет! Вот когда ревизор в «лапу» брать перестанет, а вы «мертвяков» по нарядам закрывать, вот тогда и спросите меня, куда я опалубку девал. Все люди – все жить хочут.
Семен отошел от мастера, ошарашенный. Лицо его горело. «Пропади она пропадом та сотня, что я придержал от ревизоровых денег». И придержал-то ее Семен не на себя, а больше на дело – на разные случающиеся на участке чуть ли не ежедневно препятствия, требующие наличных денег. Вот, скажем, кистей на складе не было, хоть режь, – звено маляров встало. Семен тут же мотнулся в хозмаг, купил кисти. На следующий день потребовалось мотнуться в район – шофер заартачился, нет бензина. Семен заправил машину за наличные, потом еще червонец улетел на врезные замки в вагончики бригад. Замки выламывали из вагончиков каждую неделю – кто спишет? Кто выдаст новые? Красненькие вылетали из прорабского кармана, словно подхваченные ветром. Сотня разошлась так быстро, что Семен и не понял, на что ее израсходовал. Ну, конечно, водочку приходилось брать не раз и не два. Посидели с заказчиком – а как же иначе? Да и сам Углов сотку пропускал ежедневно – вот они и уплыли, денежки. А теперь на! Попрек пришлось выслушать такой, словно Семен ворюга и грабитель.
Скрепя сердце Углов признал про себя, что не ему в чужом глазу сорины вылавливать: в своем плавало если уж не бревно, так изрядное полено. «Эх! – махнул он рукой. – Пойду напьюсь да забуду про все на свете!»
Так и выветривался, так и размывался утес под Семеновыми ногами. Подхватила его мутная волна, подхватила да понесла неведомо куда.
17.
Если снять заднюю стенку современного транзисторного радиоприемника и заглянуть внутрь, то глазам предстанет коричневая текстолитовая пластина со сложной сеткой узких медных дорожек. Дорожки причудливо изгибаются по всем мыслимым направлениям, змеятся, огибают друг друга, внезапно обрываются или рассыпаются на тоненькие, ветвистые корешки.
Перед нами знаменитое детище космического века, века компьютеров и рок-н-ролла, – печатная радиосхема. В причудливых переплетениях и изгибах исчезающе тонких медных веточек, впрессованных в жесткую структуру текстолита, таится великий смысл.
По этим медным дорожкам и тропинкам мчатся с сумасшедшей, околосветовой скоростью невидимые полчища электронов. Там, где металлические шоссейки пошире – фантомы, призраки мира микрочастиц зримо разреживаются, словно ярость их движения умеряется самим простором дороги; там же, где от широкого медного стволика отходят в разные стороны пучки ветвей – электронный косяк разбивается на отдельные стайки. Стайки уплотняются, густеют. Мощь энергетических жеребцов увеличивается. Сила устремления вперед колоссальной массы микрокентавров нарастает и, ворвавшись в конечный пункт своего движения – тело диода, или триода, или резистора, импульс энергии производит запрограммированное механическое действие. Результатом этого действия и является работа сложнейшего механизма. Электронный прибор чутко улавливает исчезающе-малые колебания электромагнитного поля, приходящие к нему из необозримого пространства. Он отфильтровывает необходимый сигнал из дикой мешанины волн, полей и электрических разрядов, которыми нашпигована материальная среда. Отфильтровывает и преобразует в электромагнитные колебания иного вида и параметров, после чего доносит их до адресата в форме звука или света.
Работа сложнейшего аппарата так гармонична, так элегантна, что невольное восхищение охватывает любого, кто хотя бы случайно соприкоснется с этим чудесным миром.