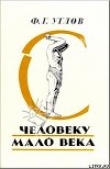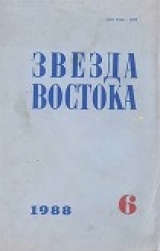
Текст книги "Черная радуга"
Автор книги: Леонид Шорохов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
– Понял, – усмехнулся Углов.
– Так, хорошо, – согласился капитан. – Но вот вдруг, примечай, Углов! – вдруг на глазах меняется человек. Что, подменили его! Уж он не бегает, а ходит; и ходит смурной, невеселый, и все больше молчит, и ложка за обедом у него из рук валится. С чего бы, а? А вот с чего, Углов! Человек в бывшем живчике проснулся. Человек! А человек, что он сразу делать начинает? Думать, Углов, думать: как ему, человеку, дальше на свете жить? Ведь вы же все, пока думать не начнете, – антиподы какие-то; как вверх ногами живете.
– Как, говорите, – антиподы? – переспросил Углов. Ему смутно показалось, и даже не показалось, а скорее почувствовалось, что где-то когда-то он уже слышал нечто подобное. Словно некий круг замкнулся. Но мысль мелькнула и отлетела.
– Да вас как хочешь назови, один черт – не промажешь! – досадливо отмахнулся капитан. – Я не о том. Я вот тебе, может, объяснить не сумею, почему так происходит, что человек задумывается; то ли сам вдруг опамятовался, как хмель из черепушки вылетел; то ли мы ему чем помогли – всякое бывает; но как начал он только всерьез о жизни думать, так уж он не ваш – он уже наш становится, и мы его, такого, назад не отдадим!
Углов засмеялся.
– И меня, выходит, не отдадите? – спросил он. Хотелось Семену выговорить эти обычные, на первый взгляд, слова весело и боевито, да, видно, укатали сивку крутые горки – невольной тревожливой надеждой прозвучал его голос.
Капитан не стал улыбаться в ответ.
– Да, Углов, – сказал он просто, – не отдадим. Грош цена нам будет, если мы свой же тяжелый труд на ветер кинем. А признать ты должен – труда мы на тебя много положили.
Углов опустил глаза.
– Вам виднее, – сказал он тихо…
Отрядный внимательно оглядел его.
– Я ведь тебя недаром спросил, боишься ли на волю идти? Тут стыдиться нечего, что боишься. Боязнь твоя правильная: можно выйти и на новую жизнь, и на старую казнь. Тут-то и может подвести тебя кислость твоей натуры. С таким настроем – мол все пропало! – так я тебе прямо скажу: лучше и не выходить – запьешь!
– Не в одном настрое дело, – тихо ответил Углов.
– В чем же еще? – мгновенно резанул отрядный.
Углов пожал плечами.
– А шут его знает, – раздумчиво ответил он. – Мутно как-то на душе, а почему – не знаю.
– А вот оттого и мутно, что боишься, не выдержишь свободы; что снова загудишь, и тогда уж ни удержу тебе, ни продыху не станет. И боишься ты этого, Углов, оттого, что весело, сладко тебе трезвым человеком быть! Раньше бы не боялся! А сейчас – вон ты каким орлом по зоне идешь! Шутка ли сказать, полтораста человек у тебя в прорабстве, и все от твоего слова зависят. Вон какая у тебя жизнь лаковая; да что и говорить, ты уж и зазнаться успел, с прапорщиками не трусишь огрызаться!
Семен невольно улыбнулся.
– Не очень-то разогрызаешься, – сказал он. – Дороговато удовольствие обходится – с вами огрызаться.
Костенко не обратил внимания на его подначку.
– Ведь ты же сейчас лицо перед людьми открыл, – сказал он с силой. – Глядите на меня, люди! Глядите! Вон какой я человек! А ведь раньше лицо свое ты от всех только прятал. – Капитан горько усмехнулся. – Да и верно: бывшее твое пьяное мурло, его прятать честнее было, чем людям показывать. И не верю я, Углов, чтоб тебе опять хотелось не в людские глаза, а в асфальт под ногами глядеться. И ходишь ты теперь по зоне задумчивый и неспокойный оттого, что будущей слабости своей страшишься. Ведь так?
Семен молчал.
Отрядный глянул блестящими, помолодевшими глазами как бы в самое угловское сердце, и Семен, словно эхо, отозвался ему:
– Так!
Костенко сжал в кулак огромную жилистую руку и придвинул ее к Углову.
– Видал, прораб?
Семен недоуменно посмотрел на кулак.
– Ну и что? – удивился он.
– А то, – ответил капитан. – Твоя тыква, вроде, не меньше моей будет? Ты ведь тоже бугаек, будь здоров!
– Дальше-то что? – не мог понять Углов.
– А вот говорят, какой у человека кулак, такое у него и сердце, точь-в-точь, – пояснил отрядный. – И вот если судить по той тыкве, какой ты изредка людей на путь истинный наставляешь, так сердце у тебя, Углов, в самый мужской размер угадало.
– И что? – приоткрыл рот Углов.
Отрядный неожиданно побагровел и трахнул кулаком по столу. Прорабка затряслась.
– А то! – закричал он во весь голос. – Неужели же в нем уже никакой мужицкой силы не осталось, у бугая-то такого?
Углов молчал. Костенко вытащил сигарету и закурил, успокаиваясь.
– Неужели же оно тебе своего слова не скажет? – опять приступил к нему капитан. – Ум-то у тебя уж на поправку пошел, так ты теперь у сердца спроси: как быть? Мне так в детстве мать говаривала: если дело через сердце пропустишь, то и станет твоим. Я, Углов, так думаю: поверишь сердцем, что жизнь твоя вся еще впереди лежит и только труда твоего просит, – жизнь сделаешь; не поверишь…
Углов молча кивнул головой.
10.
Уже после ужина, после самой последней за день проверки и пересчета, забегал по зоне от одного к другому неверный, путанный слушок, что Самвел-армянин, плотник одной из угловских бригад, кинул кранты.
Самвела знали многие. Семен видел его в обед. Удивленный услышанным и привыкший к эфемерности зоновских новостей, Углов не поленился заглянуть в санчасть, разнюхать новость. Его шуганули (ты что за чин?), но знакомый санчастовский шнырь мигнул незаметно на дверь: мол, там погоди чуток. Углов вышел на крыльцо и уходить уже не спешил. Шнырь через минуту появился на крыльце:
– Ну чего тебе, прораб?
Семен спросил, и тот подтверждающе кивнул головой и лихо сплюнул в сторону:
– Все, спекся ара! Уже в морге.
– А што с ним стало-то? – поинтересовался Семен.
– Мотор, – коротко объяснил шнырь. – Пока наши тут с уколами – гляжь, а уж и колоть некого. – Он коротко, хрипловато засмеялся и шагнул в дверь.
Углов машинально покивал головой ему в спину и пошел прочь.
Самвел работал звеньевым плотников. Коренастый, крепкий, буйно заросший густыми рыжими волосами, он, казалось, не имел возраста. Мячиками перекатывались под лоснящейся кожей мускулы, когда Самвел, сбросив с плеч синюю зоновку, в охотку тесал топором шишковатую лесину.
Углов в такие минуты невольно задерживал на нем любующийся взгляд: как же ловко, прикладисто бегал инструмент в корявых с виду Самвеловых руках. «Вот ведь дал же бог силушки да здоровья человеку – так, что на троих бы хватило!» – от души восторгался он. Оказалось, что не хватило даже и на одного.
Из отпущенных ему для жизни сорока лет Самвел пропил двадцать пять, у судьбы его оказался свой счет годов. Оставшись с пятнадцати лет круглым сиротой, Самвел начал кормить себя сам. Бичевые строительные бригады приняли его под свою выучку и покровительство. За свою недолгую жизнь Самвел не раздобылся собственным углом. С этих же пятнадцати лет не было прожито мастером на все руки Самвелом ни единого хотя бы случайного трезвого дня. Водкой утекла его жизнь.
Углов прошел от санчасти в чахлый профилактический садик и присел на скамейку у фонтана. Подсвеченная желтыми торшерами, стоящими вокруг фонтана, поднималась с тихим шелестом вверх двойная струя воды. На крайнем верхнем увале своего движения она дробилась на пригоршни разноцветных жемчугов. Легкие сверкающие россыпи падали вниз на темную гладь стоячей воды и исчезали, оставляя за собой светлую искрящуюся рябь.
«Как же так? – подумал Семен. – Вот жил человек, и умер, и вроде бы ничего особенного не произошло. Как будто так и надо! Нет, тут что-то совсем неправильно. Что-то о смерти и молчат неправильно, и говорят неправильно. Вот Самвел, в сорок умер. Один скажет – мало, другой – и этого ему чересчур. Вон как шнырь-то его аттестовал: мол, взял свое, чего ему особо заживаться? Да ведь разве в том дело, кто сколько до смерти прожить успел? Нет, тут явная неправда. Ведь пока Самвел был живым, вот хотя бы сегодня в обед, так разве кому пришло бы на ум, что он уже хорошо пожил и пора ему помирать? Он жил, двигался, работал, спорил, чего-то добивался, в любой день его жизни, будь ему в этот день хоть сорок, хоть девяносто лет, нельзя было и подумать о смерти: мол, пора! Ведь это же глупейшая условность, возраст человека. Да разве можно мерить человеческую жизнь прожитыми годами? Вот этому еще рано умирать, он молодой, а вот тому уже как бы и пора, потому что много лет за его плечами! Как же неправильно, как же несправедливо приравнивать годы одной прожитой жизни к годам другой, совершенно на нее не похожей», – с физической, томящей сердце тоской подумал Углов.
«Да вот хотя бы я сам, – выговорил он еле слышным шепотом, – сколько мне сейчас лет? Посмотреть в документы, так вроде и немного, там год за год канает – положено по бумаге тридцать пять, их и есть тридцать пять. А на деле – кто правильно сочтет? Ведь вот за последний свой год я прожил никак не меньше, чем еще одну жизнь. И какую жизнь! Предыдущая с ней и в сравнение не идет. В какой же срок оценить такой вот один год – неужели только в календарный? Ведь если взять, что я здесь перечувствовал, передумал и пережил, так в этот год с лихвой уложилась бы вся моя прошлая жизнь. Шутка сказать – целых две недели! А ведь умри я сейчас, и наверняка кто-нибудь скажет: чего там всего тридцать пять лет; и не жил еще толком, а загнулся».
Углов нахмурился.
«В чем же все-таки тут дело? А может, и Самвел прожил не меньше меня? Как знать? Может, в его коротенькое сорокалетие уложилась не одна, видимая всем и каждому, явная жизнь, а две, три невидимых, тайных, дьявольски долгих жизни?»
И Семен подумал, что если все-таки можно в короткий отрезок лет вместить и две, и три человеческих жизни, что если время длинится и растягивается, как резина, то оно наверняка может и сжиматься; и легко может статься, что, отмотав в этой жизни много десятилетий, можно при этом ухитриться не прожить и одной нормальной человеческой жизни. У Семена захватило дух. Мысль, если примерить ее на себя, была крайне неприятна, а он совершенно невольно именно это тут же и сделал, и как только он примерил к своему прошлому эту странную, неведомо откуда взявшуюся мысль, как ему сразу стало чертовски неуютно. И хотя Углов горячился и убеждал себя, что последний его год стоит целой жизни, но куда было деть ясное до ужаса ощущение полной никчемности и бессмысленности его прежнего существования? И куда было убежать от жуткого понимания того факта, что из трех с половиной десятилетий его жизни жизнью человеческой можно было с некоторой натяжкой назвать только этот последний коротенький отрезок?! Семен взвыл бы сейчас, как затравленный волк, если б умел выть, но он был, к несчастью, человеком, и только слабый мучительный стон вырвался наружу сквозь его мертво стиснутые зубы.
Страшным усилием воли Углов вернул свои мысли к Самвелу. Вот жил тот, работал, гулял, пил водку, лечился от нее, лечился не раз, и не два, и вот теперь ушел он туда, откуда еще никто не возвращался. Что же осталось от него на трудной земле, по которой Самвел бродил несколько десятилетий? Немыслимо было поверить, что не осталось и малейшего следа. Сегодня он умер, и о нем еще говорят люди, поневоле скученные затейливой судьбой в маленькое, огороженное от огромного мира пространство. Но быстро, чудовищно быстро пройдет и один день, и другой, и третий… И след Самвелов истает, и кто тогда вспомнит о нем, и кто скажет в неслыханную, чернильную пустоту, что вот жил на свете добрый человек, плотник Самвел-армянин, и что с уходом его ушло и что-то важное в мире!
«Так что же? – с непонятным ожесточением подумал Углов. – Выходит, что мир, человечество ничего не потеряли оттого, что исчез сегодня плотник Самвел? Тогда зачем он понадобился этой самой жизни? Зачем приходил в мир, зачем так трудно жил и больно шел между людьми, раз тем же людям все равно, есть он на свете или нет?»
И тут ему вдруг слабо подумалось, что, может быть, в них самих (в нем, в Самвеле, в братанах) есть что-то такое, что не дает им стать нужными этой горькой и манящей жизни. Семен смутно ощутил, что нащупал сейчас нечто очень важное для себя, но никак не мог уловить, что именно. Словно хорошо известное ему раньше, но нечаянно забытое слово усилием воспоминания сверлило его разгоряченный мозг. «Подожди, подожди, – говорил он кому-то, – я вспомню, я сейчас вспомню, я пойму…» Но темное ощущение неведомого прозрения, приблизившееся было к нему, все отдалялось и отдалялось, пока он с тяжелым разочарованием не понял, что загадка жизни осталась все так же недоступной его пониманию.
Семен встал и угрюмо побрел в темный барак.
11.
Через месяц после памятного разговора с Костенко произошел случай, ставший поворотным в дальнейшей Семеновой судьбе. В этот вечер он задержался в прорабской дольше обычного. Конец месяца – наряды.
На столе перед Угловым раскинулась груда бумаг. Перо в его руке едва ли не дымилось от напряжения. Лоб прорезали глубокие морщины. На воле-то распределять деньги между рабочими было не мед с молоком; о зоне и говорить нечего – семи пядей во лбу не всегда хватало.
За столом, в углу прорабки, вздыхал нормировщик Сергей. Уборщик Костыль (бывший ответработник культурного фронта, подлинное имя которого как-то сразу вывалилось из общей памяти и употребления) заметал мусор в совок.
Углов на секунду оторвался от бумаг и сразу уловил четыре жаждущих глаза, с немой мольбой устремленных на него. Семен поморщился: «Вот нехристи – одну конфетку отняли, так они другую немедля нашли!»
Не прошло и полугода, как за Сергеем закрылись ворота ЛТП, а уж нормировщик и часа не хотел провести помимо глотка чифиря. О Костыле и говорить было нечего – бывший замнач из одного сна наяву неразличимо провалился в другой.
Семен перевел взгляд на бумажные завалы – работы еще оставалось минимум часа на три. Придется полуночничать. Вечерняя проверка прошла, и за окном густо нарастала темнота.
– Надо бы добить сегодня? – вопросительно повернулся Углов к Сергею.
Тот вздернул плечи.
– О чем речь? Вот только глаза слипаются. Надо бы…
Костыль подтверждающе засопел.
Семен достал связку ключей.
– Запарьте, чего уж там. Еще сидеть и сидеть.
Шнырь завозился у большого самодельного железного ящика, заменяющего Семену сейф. В ящике Углов прятал от излишнего любопытства разные копеечные криминалы – кулек с конфетами, полпалки сухой колбасы, блок «ТУ». Деликатесы попадали в прорабский сейф путем не вполне законным, хотя и не сильно наказуемым.
В глубине железного чрева, за коробкой пиленого сахара, прятался небольшой запас основной зоновской валюты – черного чая. Углов держал его для друзей. Именно к чаю и рвались сейчас страждущие души ближайших помощников.
Костыль залез в шкаф чуть ли не до пояса.
– Ну чего там? – не выдержал Сергей.
Шнырь вновь появился на белый свет.
– Нету, – сказал он. – Кончилась заварка.
Углов поднял голову.
– Как кончилась? – удивился он. – Третьего дня «вольняшка» из цеха десять пачек принес, и уже нет?
Костыль развел руками.
– Ну вы и жрете, – невольно восхитился Семен. – И кормить не надо, на одном чифире проживете.
Сергей беспокойно завозился.
– Да ты посмотри получше, растяпа! Не может быть, чтоб не было!
Костыль посмотрел получше.
– Нету!
– Сиди тут полночи! – со злостью прошипел нормировщик. – Ничего голова не варит, хоть убей!
Он оттолкнул от себя бумаги.
– Не пыли, – успокоил помощника Семен. – Найдем, чем голову поправить. Сбегай до склада, – обратился он к шнырю. – Откроешь вот этим ключом, – Углов выбрал один из связки. – Там, как зайдешь, налево коробка с ветошью. Поройся в ней. Найдешь заначку – пару пачек «слона». Тащи их сюда.
Нормировщик проглотил слюну.
– Слона? Ну это другое дело.
Костыль пошел к выходу. Нормировщик включил плитку.
– Пока сбегает, вода вскипит. А я делом займусь.
Сергей углубился в наряды.
12.
Прошло пять минут, десять, пятнадцать, – Костыля не было видно. Нормировщик тихо что-то цедил сквозь зубы.
– Да где его черти носят?
Наконец по коридору послышались быстрые шаги.
– Ну гад копучий, вот я тебя!
В дверях появился уборщик. В руках у него были две большие пачки индийского чая.
– Так напоказ и нес? – изумился нормировщик. – А если бы на прапоров налетел? Прости-прощай, раскумарка? Уже полгода в зоне, а в голове, – он выразительно постучал указательным пальцем по шныревому лбу, – и на копейку не прибавилось! Зря тебя здесь держат, зря. Пришел балдой и уйдешь балдой.
Костыль виновато понурился.
– Да там… да так вышло… – опасливо поглядывая в Семенову сторону, забубнил он.
Перо в руке Углова задвигалось медленнее. Он было пропустил мимо ушей пустяковую трепотню помощников, но, помимо его воли, какая-то незаметная, почти теряющаяся в фоновом шуме обоюдного зубоскальства струя речи привлекла его внимание. Он не расслышал ни вопросов нормировщика, ни ответов Костыля, но знакомый холодок неведомой опасности внезапно возник где-то у основания угловского черепа и медленно потек вниз по его жилистому загривку.
Семен оторвался от работы. Глаза его внимательно ощупали притихшего у двери шныря.
Да, сильно полинял за истекшие месяцы бывший деятель отечественной культуры. Бесследно растаяла выхоленная вальяжность главы семейного прайда, сданного верной львицей с рук на руки прапорщикам ЛТП.
Поджарая, сгорбленная в загривке фигура, приниженная готовностью к неправедному гонению и претерпению – хороший Костыль выработался из прежнего удачливого распоряжителя общественных увеселительных мест. Теперь бывший замнач управления культуры превратился в неумирающий тип – человека без внешности и возраста, всегда готового за минимальную мзду к великому множеству многоразличных больших и малых услуг. Что же он все-таки делал столько времени на складе?
Углов кивнул начальнику метлы.
– А ну, иди сюда.
Костыль трусцой подсеменил к прорабскому столу и замер не дыша. Семен пронзительно заглянул в бегающие глаза.
– Кого надуть затеял? – угрожающе сказал он. – Да ты знаешь, что я с тобой за это сделаю?!
Старая, как мир, хитрость сработала и на сей раз беспромашно. Костыль раскололся до самого донышка так быстро, словно был надтреснут с детства.
– Да я-то тут при чем? – жалобно заскулил он. – Грозит же: мол, пикнешь – пришибу! А я-то тут при чем?
Углов хлопнул ладонью по столу.
– А ну по порядку!
Через минуту выяснилось, что Костыля у двери склада припутал с чаем в руках прапорщик Абазов.
При этом имени Углов присвистнул.
– Ясно, – мрачно сказал он. – Что взял?
Шнырь затеял было объяснить, как прапорщик потащил его назад в незапертый склад и как…
Семен раздраженно прервал его:
– Говори – ясно! Чего он там взял?
– Дверь велел вынести, – испуганно всхлипнул Костыль. – До вахты пришлось тащить, вот и задержался.
Углов привстал:
– Дверь? Это какую? Ту, что с резьбой?
– Ага.
Семен снова сел. Замашки Абазова были ему хорошо известны, но чтоб вот так… чтоб такое нахальство… без малейшего спроса…
13.
Двухстворчатую, фасонную дверь связал четыре месяца назад плотник Самвел, теперь уж покойный. Дверь предназначалась для парадного входа в клуб, и Самвел постарался на совесть.
Вкруговую обвязки полотна шла резьба – густо переплетались виноградные грозди, лозы и листья; филенки были набраны из угаданной в цвет буковой клепки; внутренние обводы коробки Самвел обошел декоративным шпоном. Зеркальная полировка бархатной шкуркой, протирка бесцветным лаком, – фактура материала выяснилась и заиграла каждым завихрением, подворотом, каждой складкой теплых слоев дерева.
Однако ремонт клуба отложился на неопределенное время и художественно сработанное деревянное кружево осталось не у дел. Дверь простояла в столярке два месяца, и за это время промозолила глаза всем падким на чужое добро. За забором профилактория кипело индивидуальное строительство, и кто бы из застройщиков отказался по дешевке урвать на личное подворье музейную красавицу? Озверев от покушений, Углов спрятал дверь в склад.
И вот сегодня шустрый на руку Абазов дорвался, наконец, до запретного плода. Семен отлично представлял себе, как развернутся события дальше.
Абазов с краденой дверью уже у проходной. На вахте сидит его дальний родственник. Прапор мигнет, шепнет словечко, и дверь минует проходную так, словно ее и вообще нет; дежурная машина с утра скучает во дворе штаба профилактория, добежать на ней до дому не займет и пятнадцати минут, и вот сэкономленная сотняга, считай, весело плещется в абазовском кармане.
Случись такой казус год назад, Семен и в затылке не почесал бы. «Мое, что ли?» Охота была из-за чужого добра встревать в спор с оборотистым прапорщиком.
Но вот сейчас… Словно что-то укололо Семена в сердце. «Как же так? Ведь он над нами властью поставлен, а сам? Ведь если он… что ж тогда о нас говорить?»
Углов поднял глаза. Костыль отвел взгляд в сторону. Он был тут ни при чем. «А я при чем? – подумал Семен. – Я при чем?» Нормировщик махнул рукой. Он приметил Семеновы колебания.
– Брось! С ними только свяжись. Самого же и обвинят.
Сергей осклабился.
– Все они такие. Еще нас шугают.
– Все? – переспросил Углов.
Молнией мелькнуло в его голове воспоминание о приходившем недавно в прорабку капитане Костенко, о его тяжелых крестьянских руках, устало протирающих носовым платком поношенную дерматиновую окантовку околыша форменной фуражки.
На миг встали в памяти черные, ненавидящие глаза усатого прапорщика, Семенова недоброжелателя, его зеркально начищенные сапоги, по глянцу которых бежала неприметная неопытному глазу паутинка легких трещинок, которая выдавала, что сапоги служат прапорщику вот уже не один год. Он бы упер дверь? А Костенко?
Именно неосторожное восклицание: «Все!» – и решило исход угловских колебаний. «Нет, – прошептал Семен. – Не все. А коли не все, так и ему нельзя. Иначе, как же мы? Нет, нельзя, чтоб Сергей прав остался. Тут я должен, я…»
Сердце Семена сильно забилось. В какую-то ничтожную долю секунды он не то чтобы припомнил, а физически, кожей ощутил те десятки и десятки мелких, привычных уступок страху, которые из года в год разрушали его волю и его представления о добре и зле и довели, наконец, его до нынешнего жалкого и страшного положения…
«Нельзя отступать», – подумал он. И тут же трусливо ворохнулась в душе гаденькая, привычная мыслишка: «А может, не стоит? Ну, взял и взял. Мне-то что за дело? Ну ведь могло случиться, что я бы не узнал ни о чем? Вот не спросил бы Костыля и не узнал. И зачем спросил?»
И тут Углов, со внезапно вспыхнувшим бешенством, прервал себя: «Заткнись! Заткнись, Угол! Прошли твои времена!» Он вскинул на Костыля заблестевшие глаза.
– Где Абазов? На вахте?
Костыль попятился. Он испугался Семенова порыва.
– Ты что, ты что хочешь? – забормотал шнырь. – Он сказал: пикнешь – голова долой!
Сергей подал голос от плитки:
– Брось, Семен, не связывайся. Далась тебе эта дверь. Бомбанешь его потом на десяток пачек «слона» – и всем хорошо.
Семен перевел взгляд на нормировщика. Его невольно покоробило.
– Вон ты как, Серега, за полгода говорить выучился. Так скоро «зэком» станешь. А вот я не хочу ставать.
Углов быстро вышел из прорабки. Последний шанс. Если Абазов успел вытянуть дверь за ворота, то уже не остановишь. Не закладывать же дежурному, в самом деле.
И все это недлинное время, все эти роковые двести метров до высоких железных ворот профилактория, тихий позвоночный голос внутри Семена, голос его прошлого уговаривал бросить заведомо опасное дело. «Хоть бы уж выволокли за ворота, – слышал Семен словно издали. – Хоть бы уж не успеть мне заловить».
14.
Он успел как раз вовремя.
Тяжелое железное полотнище, чуть громыхая роликами, поползло по утопленному в асфальт швеллеру. Отъехав полметра, ворота остановились.
Из проходной выскочил родственник Абазова. Резная дверь стояла прислоненной к углу караульного помещения. Двое мужчин подхватили ее. Им не хватило какой-нибудь секунды. Выбежавший из темноты Углов схватился за предмет удачливых абазовских вожделений.
– Стой, мужики. Не спешите.
В первую секунду родственники онемели от неожиданности и испуга, в следующий миг Абазов узнал Углова.
– И откуда тебя черти вынесли, прораб, мать твою перемать, – облегченно выругался он. – Суешься тут.
Углов дернул дверь.
– Клади на пол, – сказал он. – Вы, мужики, свое с чужим перепутали. Это моего склада товар.
Родственник Абазова моментально выпустил из рук угол двери и отошел в сторону. Он предпочитал не искать в чужом пиру похмелья.
– А говорил, все на мази и прораб в курсе, – прошипел он в сторону Абазова.
Тот попытался обратить дело в шутку.
– Твое как лежало на складе под замком, так и лежит, – сказал Абазов. – А эту дверь мне ребята со столярки после смены сделали. Так что зря не суетись.
Углов усмехнулся.
– Без моего слова никто в столярке и гвоздя не забьет, – ответил он. – Зря не темни. Давай лучше без шума назад дверь отнесем.
Абазов нахмурился.
– Что с возу упало, то пропало, прораб. Бери десять пачек чая – и до свиданья. Ты меня не видел, я – тебя.
– Нет, – сказал Семен. – Не пойдет базар. Назад понесем. Давай, берись. – Он наклонился и приподнял край двери.
– Вот ты какой стал, – прошипел Абазов. – Тебе по-человечески, а ты в драку лезешь? Забыл, с кем дело имеешь? Забыл, кто ты и кто я? Не помнишь, какой приехал? Теперь чистенький?
– Забыл, – жестко ответил Углов. – Теперь чистенький. Я забыл, и ты, Абазов, забудь. Сейчас с тобой прораб профилактория говорит. И двери этой в твоем доме не стоять. Берись, говорю!
Абазов на секунду задумался. Родственник скучал в стороне.
– Ладно, – пробормотал прапорщик. – Не хочешь по-хорошему, не надо.
Он шагнул к Семену, схватил его за руку и заученным движением нырнул под мышку. От резкой боли Углов сложился пополам, Абазов уже был за его спиной. Свободной рукой он прехватил Семеново горло.
– Волоки за ворота! – скомандовал Абазов застывшему в двух шагах вахтеру. – Туда не сунется – побег!
Ошеломленный родственник не сразу сообразил, что он него требуется.
– Дверь вытаскивай за ворота, дурак! – зашипел Абазов.
Он с трудом удерживал Углова. Оклемавшийся прораб бешено рвался из его рук. Вахтер подхватил дверь и волоком потянул ее в щель ворот. Углов, неся на себе Абазова, рванулся следом.
– Стой! – удушенно прохрипел он. – Стой, все равно не пущу!
Страшным усилием он сделал несколько мелких, трудных шажков вперед и, чувствуя, как затрещала заведенная за лопатку рука, упал на злосчастную дверь. Сверху грохнулся Абазов. Вахтер бросился на подмогу родне. Трое хрипящих людей слились в неразличимый ворочающийся комок. Схватка проходила, однако, в относительной тишине. Кричать опасались обе стороны.
В самый разгар побоища из темноты вынырнула подтянутая фигура в офицерской форме. Ночной дежурный по профилакторию капитан Костенко несколько секунд молча наблюдал за клубком.
– Встать!
Команда подействовала на сражающихся, как ведро ледяной воды, и мигом остудила разыгравшиеся страсти. Противники с трудом расцепились и поднялись. «Ну, влипли!» Кажется, эта мысль осенила сразу всех трех бойцов невидимого фронта. Однако среагировали на появление начальства по-разному.
Вахтер с проходной бросил руку к виску и бойко отрапортовал:
– Дежурю на вахте, вижу, дерутся, ну, я – разнимать!
Опомнился и Абазов.
– Значит, иду по зоне, – он кивнул на Углова. – Гляжу, волокет дверь. Спрашиваю, куда – он драться.
Костенко повернулся к Семену.
– Что скажете, прораб?
Семен угрюмо нахмурился.
– Ничего не скажу.
«Что толку говорить? – подумал он. – Теперь что хочешь говори. Их двое, я один. Они прапорщики, я лечащийся. Ясно, кого обвинят».
И зло плеснуло в голову: «Так мне и надо, дураку. У щук всегда караси за все в ответе. Пропади она пропадом, эта дверь. Теперь начнут крутить. Хорошо, если срока не намотают».
Однако Костенко был стреляным воробьем, чтобы можно было легко провести его на мякине. Он остро глянул на подчиненных, кивнул на приоткрытые ворота главного входа:
– Это что? Тоже прораб открыл?
Никак не ожидавший такого вопроса, вахтер сразу начал заикаться.
– Это случайно… это не знаю как… да вот, Абазов велел… – лепетал он.
Костенко покивал головой.
– Один случайно ворота открыл, другой к ним нечаянно краденую дверь подтащил, третьему за здорово живешь морду набили… – морщась, выговорил капитан. – Не слишком ли много случайностей? С вами ведь уже была аналогичная случайность в прошлом году, – обратился Костенко к Абазову. – Кажется, тогда клялись, что ошиблись в первый и последний раз?
– Углов! – рявкнул капитан. – Кто дверь припер?
Углов безразлично кивнул на Абазова.
– Сам?
– Шныря моего заставил, – объяснил Семен. – С чаем у склада припутал, ну и…
Костенко шагнул к прапорщику.
– Да ты знаешь, что с людей и за меньшее перед строем погоны срывали?!
– Кому вы верите, товарищ капитан? – как перепуганный заяц, заверещал Абазов. – Мало ли что он говорит? Это же алкаш.
– Молчать! – крикнул Костенко. – Ни звука больше.
Он дернул плечом.
– Дежурный, закрыть ворота!
Абазовского родственника как ветром сдуло с опасного места. Заскрежетало железо ворот.
– А вас, а с вами… – Костенко задохнулся.
– Товарищ капитан! – червем скрутился Абазов. – Простите! Попутало! Сам не пойму, как вышло. Затемнение накатило. Товарищ капитан! Четверо ведь у меня, четверо! – По лицу прапорщика побежали крупные капли пота. – Образование восемь классов, специальности никакой. Если не пощадите, куда же я денусь? Товарищ капитан! – отчаянно выкрикнул он. – Как же мне теперь?!
Углов отвернулся. «Ну и заварил я кашу!»
Костенко погонял тугие желваки за скулами.
– Берите дверь, – приказал он прапорщику.
Абазов застыл с открытым ртом.
– Как – берите? – пробормотал он, ничего не понимая.
– Ключи от склада при вас, Углов? – спросил Костенко.
Семен утвердительно хлопнул по карману.
– Помогите Абазову поднять дверь, – жестко сказал капитан. – На спину ему помогите взвалить.
Ничего не соображающий Абазов машинально ухватился за дверь. Углов помог ему взвалить на загробу тяжелое сосновое полотнище.
– Вперед, – скомандовал капитан. – К складу.
Абазов шагнул и пошатнулся. Семен кинулся поддержать. Костенко цыкнул на него.
– Не тронь! Иди открывай склад. Сам донесет.
Процессия гуськом двинулась в обратный путь. Впереди шел Семен, за ним – согнувшийся под тяжестью деревянной коробки Абазов, третьим, прямой, как столб, вышагивал капитан.
Когда подошли к складу, Семен облегченно вздохнул. Всю дорогу он молил бога только об одном – чтоб никого не встретить по пути. Углов отомкнул замок. Абазов втащил дверь и прислонил ее к стене. Пока Семен возился с ключами, в стороне опять возник разговор.
– Не губите, товарищ капитан, – шепотом умолял дежурного Абазов. – Одно ваше слово… Не губите…