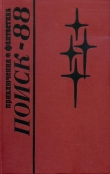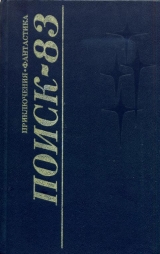
Текст книги "Поиск-83: Приключения. Фантастика"
Автор книги: Леонид Юзефович
Соавторы: Сергей Другаль,Игорь Халымбаджа,Евгений Наумов,Михаил Немченко,Виталий Бугров,Семен Слепынин,Александр Чуманов,Ирина Коблова,Виктор Катаев
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц)
– Конверты сохранились? – спросил Семченко.
– К сожалению, нет, но мне удалось выяснить что одно из этих писем, не известно, какое именно, было передано Алферьеву из «Амикаро». Это петроградский клуб слепых эсперантистов. Года три назад Алферьев вел там кружок мелодекламации на эсперанто… Он бывший артист.
– Так. – Семченко прикинул возможные варианты. – Нужно посмотреть, есть ли в нашем архиве копия первого письма… Покажи мне второе. – Он упорно продолжал говорить Ванечке «ты».
– Смысла нет. Оно написано измененным почерком.
– Может быть, их разные люди писали?
– Возможно, – согласился Ванечка.
– А первое ты показывал кому-то из наших?
– Балину. Он этот почерк сразу узнал. Знаете чей? Линева Игнатия Федоровича.
– Взяли его? – вскинулся Семченко.
– Не ваша забота… Вернемся к Алферьеву. Мы арестовали его шестого мая. Помню точно, потому что в тот день поляки взяли Киев… Но ему удалось бежать по дороге. Допросили Казарозу. Она заявила, что порвала с ним еще зимой, и с тех пор они не виделись. По наведенным справкам так и оказалось, ее выпустили…
«Порвала, – уже не слушая, думал Семченко. – Сама от него ушла. Разобралась и ушла…» Значит, все то, о чем вчера мечталось, могло и случиться – вечер, пустая улица, рука в руке. Сегодняшняя встреча, завтрашняя, прощание на вокзале, письма… Или все-таки не могло? Теперь-то понимал, почему она так взволновалась, когда услышала про клуб эсперантистов. Что уж, казалось бы! Но все равно горько было от этого понимания. Из-за него она согласилась, из-за Алферьева. Неужели еще любила? Ушла, а любила. «Значит, и на нем вина, не только на мне, – всплыла предательская мысль, и Семченко ее не оттолкнул, принял. – Может, и ему сегодня ночью явился доктор Заменгоф, окруженный розовым сиянием?»
– Вы слушаете меня? – спросил Ванечка. – Итак, через полтора месяца после побега Алферьева она вдруг засобиралась в гастрольную поездку по провинции, хотя почти год перед тем нигде не выступала. Причем поездка отнюдь не сулила особых выгод. Все прочие члены труппы – никому не известные артисты. А Казароза – певица с именем. Но она почему-то легко согласилась ехать на тех же условиях, что и остальные… Выходит, ей важен был маршрут поездки. К тому времени о клубе «Эсперо» мы уже разузнали. А тут и вы появились. Да еще с адресом банка на Риджент-парк, которым интересовался Алферьев… Улавливаете?
– Да уж как-нибудь, – сказал Семченко. – Вы думаете, что Алферьева скрывают местные эсеры. И кто-то из них связан с нашим клубом.
– Пришлось все-таки догадаться, – дернул головой Ванечка. – Куда денешься.
Было жарко. Муха, надсадно звеня, тыкалась в стекло. На подоконнике лежала сложенная газета с приставшими к ней мушиными останками. Ванечка взял ее, замахнулся, и муха тотчас улетела в другой конец комнаты.
– Они уже эту газету знают, – улыбнулся Караваев. – Образованные стали.
Ванечка удивился:
– Чего-о?
– А ты как думал! Вот хомяки. Я им с отрубями толченого стекла подсыпал, все ладом перемешал, а они отруби съели, стекло не тронули. Все нынче грамотные… На! – Караваев протянул Ванечке другую газету, чистую. – Попробуй этой.
– Газету вашу знают, а что через стекло на улицу не вылетишь, никак не усвоят. – Ванечка пожал плечами и газеты не взял.
– Надежда, она всегда память отшибает, – опять улыбнулся Караваев и посмотрел на Семченко, которому в этих словах почудился тайный намек: эсперо – надежда, эсперанто – надеющийся.
– А с курсантом что? – спросил он. – Его вы тоже к делу притягиваете?
– Зачем, – нахмурился Караваев. – С ним все ясно. Напился, сопляк, на радостях после выпуска. С пьяных-то глаз контра и померещилась. Судить его будем.
Семченко провел рукой по мокрому лбу, жгутиком скаталось на коже налипшее волоконце тополиного пуха.
– Может, не он убил? Ведь вверх, наверное, стрелял. Для протеста всегда вверх стреляют.
– Кто тогда? – насторожился Караваев.
– Вдруг кто другой пальнул, когда паника началась? Может, она мешала кому-то, вот и воспользовались случаем.
– Смотри-ка! Я и не подумал… Правда, я на лестнице стоял, когда стрельба пошла. Потом уже вбежал.
– Чего там думать, – строго сказал Ванечка. – Выстрела было три, штукатурка на потолке в двух местах обвалилась, а у него в нагане три патрона истрачено. Я проверил.
– А если два выстрела враз? – Караваев обхватил рукой шею. – Калибр у пули надо проверить.
– Проверим. – Ванечка подошел к Семченко, навис над ним. – Я готов допустить, что с вами вышла ошибка. Но расскажите подробно о своих отношениях с Казарозой. Что между вами было? Что? – он уже почти кричал. – Отвечайте!
– Любовь, может? – участливо спросил Караваев. – Ты парень холостой, мы тоже люди…
– Ладно, – оборвал его Ванечка. – Пускай сидит, вспоминает! – Он вывел Семченко в коридор и сдал конвойному.
Когда проходили мимо дежурки, Семченко остановился, приметив у стены бачок с водой.
– Давай-давай. – Дуло винтовки уперлось в спину.
Бачок стоял на табурете, сверху кружка. От ее ручки к основанию краника тянулась ржавая цепка. Рядом, прямо по штукатурке, углем нацарапано:
«Не пей сырой воды! Холера!!!»
– Попить бы, – Семченко смотрел на бачок.
– Да теплая она, – неуверенно сказал конвойный. – С души воротит.
Семченко не двигался с места.
– Черт с тобой, – сдался конвойный. – Пей по-быстрому!
Завернув краник, Семченко понес кружку ко рту. Цепка была коротковата по его росту, пришлось нагнуться.
Вода отдавала жестью, и пить согнувшись было неудобно. «Сволочи!» – выругался Семченко, имея в виду и Алферьева, и Ванечку, и Линева, и местных эсеров, и того, кто пожалел привесить к бачку подлиннее цепочку. Отлил из кружки в горсть, провел мокрыми пальцами по лбу, по щекам, по шее. После ночи, проведенной в подвале, на лице до сих пор словно маска лежала.
Конвойный стоял рядом, винтовка у ноги. Налево дежурка, а прямо по коридору дверь на улицу приоткрыта. Тонкая щелочка, свет колючий – лучиками. Вверху небо, синее-синее, внизу пыльная зелень и кусок ограды.
Собственная судьба меньше всего тревожила – обойдется. Пустота была в душе и усталость. И о Казарозе он старался не думать, потому что хотя говорил с ним доктор Заменгоф, как бы извиняясь, и Алферьев этот был эсперантист, но по-настоящему виновен в ее смерти только он сам. И курсанта он пригласил. Пусть даже тот не в нее стрелял, в потолок, все равно из-за этого она погибла, то есть опять же из-за него, Семченко.
Но кто же ее убил? Что делать-то? Идти в подвал, сидеть там, дожидаясь невесть чего? Нет, это он вчера покорно шел, как телок, потому что все было едино, куда идти. Но сейчас все, хватит! Перед ней стыдно ничего не делать, ждать пока другие сделают. Да еще неизвестно, сделают ли!
Семченко положил левую руку на бачок, потом сдвинул ее вниз и резким движением сбросил бачок под ноги конвойному. Хрустнул, отломившись, краник. Звякнула, покатилась кружка, наконец-то, хотя и вместе с цепкой, вырвавшись на волю. Бачок сгромыхал с табурета, крышка отвалилась, вода хлынула на пол. Но прежде всей тяжестью, еще полный, он выбил у конвойного из рук винтовку. Семченко пнул ее – она полетела по коридору, стукаясь о стены. Конвойный, растерявшись, вместо того чтобы хватать его, кинулся подбирать винтовку. Семченко метнулся к выходу, на ходу успев задвинуть засов на дверях дежурки, выскочил на крыльцо и побежал по пустынной и знойной послеполуденной улице.
Пробежав полквартала, перемахнул через забор в чей-то огород, огляделся. Никого. Все произошло так неожиданно, что первая мысль была: «Вернуться!» И конвойного стало жаль. Он стоял за поленницей, тяжело дыша, чувствуя, как прилипает к спине мгновенно взмокшая гимнастерка. Потом представил, какое будет лицо у Ванечки, когда тот узнает о побеге, и потихоньку взвинтил сам себя.
Сказал в адрес конвойного:
– Тюня! Не надо ушами хлопать!
На улице послышались голоса, топот. Человек пять бежало. Хлопнул выстрел – так, в никуда. Семченко забрался в будку сортира и изнутри, щепочкой, поставил наружную вертушку в горизонтальное положение.
Он познакомился с Линевым осенью девятнадцатого года, когда вместе с доктором Сикорским пришел на первое занятие эсперантистского кружка. Линев переписал собравшихся – человек двадцать рабочих и студентов – и стал рассказывать о тысячелетних мучительных попытках создать международный язык взамен того, который человечество утратило со времен строительства Вавилонской башни. Он на любом выступлении про это рассказывал. Вообще всякий эсперантист старой закалки к месту и не к месту приплетал эту башню. Далась она им!
Заменгофа Линев называл не иначе как «Ниа Майстро», то есть «наш Учитель». В особо важных моментах своей речи он, словно за подтверждением, поворачивался к его портрету. В тот раз Семченко воспринял это спокойно, однако на последующих занятиях, которые Линев неизменно норовил начать хоровым пением эсперантистского гимна, стал раздражаться. Уважение уважением, но к чему эти молебны? Да и сам Заменгоф со своим пацифизмом был эсперантист буржуазный. Изобретение его следовало потреблять в чистом виде, без упаковки.
Семченко к тому времени уже не чувствовал себя новичком. Он успел одолеть самоучитель Девятнина и вскоре собирался приступить к переводу на эсперанто материалов конгресса III Интернационала. Предполагал рассылать их зарубежным клубам. Виделось: вот он пожимает руку венгерскому или немецкому товарищу, угощает папиросой и заводит разговор. «Камрада, гиу эстес виа патро?» – «Миа патро эстас машинисто», – отвечает тот. «А у меня батя в депо слесарил», – говорит Семченко, и оба они радуются такому сходству биографий.
– Вот, – Линев произнес какую-то длинную немецкую фразу. – В этом языке видна душа немца, поклонника философии, музыканта и в то же время солдата… – Затем сказал несколько слов по-английски. – Вслушайтесь! Перед нами предстает сухая и чопорная фигура англичанина, моряка и торговца, который стремится как можно короче выразить свою мысль… А вот божественные звуки испанского языка. – Линев задумался, но память, видимо, подсказала ему единственную фразу: – Буэнос диас, сеньорита!
В группе студентов кто-то прыснул. Линев недовольно глянул в ту сторону и продолжал:
– В каждом языке видна душа народа. Но эсперанто соединяет в себе черты всех языков Европы, в том числе и русского. Он отражает душу человека как такового. Голого человека на перекрестках цивилизации. Голого, друзья мои, но взыскующего и гордого! Кроме того, ни один национальный язык не может стать международным из-за присущего всем нациям тщеславия…
– А латынь? – спросил какой-то студент.
– Да, латынь обладает кое-какими достоинствами нейтрального языка. – Линев обрадовался такому вопросу. – Но можно ли составить на ней следующую, например, фразу: «Достань из кармана носовой платок и вытри брюки»?
Семченко знал, что древние римляне брюк не носили, и довольно заржал, понимая, куда клонит Линев. Но тот истолковал его смех по-своему:
– Есть, к сожалению, лица, которые во всем видят двусмысленные намеки… Давайте вместо слова «брюки» поставим слово «пиджак», это не изменит сути дела. На латыни мы можем сказать только «достань и вытри». А что? Чем?
Из этого Семченко заключил, что у римлян и носовых платков не было.
На втором занятии прошли алфавит, записали несколько слов, и тут же Линев по ходу объяснил, что суффикс «ин» означает в эсперанто женский пол: патро – отец, патрино – мать; бово – бык, бовино – корова. При этом студент, который спрашивал про латынь, ехидный и рыжий, поинтересовался, почему нельзя вместо слова «патрино» ввести слово «матро», куда как более понятное любому европейцу. Этот невинный, казалось бы, вопрос привел Линева в бешенство.
– Святая простота! – угрожающе тихо начал он, постепенно возвышая голос. – Вы достаточно образованны, молодой человек, и ваша наивность преступна. Дитя рождено. Его можно воспитывать, но ему нельзя укоротить нос или вытянуть ноги, как глиняной кукле, только потому, что нас не устраивают их пропорции!
– Вмешательство хирурга может быть полезно и живому организму, – весомо проговорил студент.
– Сподвижники ниа Майстро, – горячился Линев, – думали, что могут по своему усмотрению кроить и перекраивать язык. Чудовищное заблуждение! У живого языка нет вождей, у него есть носители. Теперь они есть и у эсперанто – мы с вами. И не дай вам бог, молодые люди, пойти по пути сомнений! Гнусное предательство де Бофрона…
– Раз уже вы заговорили о де Бофроне, будьте добры держаться в рамках приличий! – перебил студент.
– Значит, это провокация? – жалобно предположил Линев. – Вы отнюдь не так наивны… Уходите отсюда, вам здесь не место!
Всем стало неловко, начали оглядываться на студента, кивать в сторону двери: давай, мол, иди, раз ты такой умный, не задерживай. А Линев, ощутив поддержку, закричал:
– Вон! Вон отсюда!
Позднее выяснилось, что рыжий студент пришел вербовать добровольцев в университетскую группу идистов, то есть сторонников языка «Идо», созданного французом де Бофроном на основе эсперанто. Из любопытства Семченко побывал у идистов, узнал, что само слово «идо» на эсперанто означает «потомок, отпрыск», что вместо «патрино» в идо-языке употребляется слово «матро», и ушел разочарованный. Идистов было мало, говорят, во всем мире человек четыреста, а в городе – шесть, и вообще, сама идея двух международных языков казалась бессмысленной. Тут с одним-то не знаешь как расхлебаться.
В борьбе с университетскими идистами Линев и Семченко выступали плечо к плечу. Идисты постепенно осмелели, вызывали членов «Эсперо» на диспуты, а однажды прислали в адрес клуба экземпляр «Фундаменто де эсперанто» с издевательскими комментариями на полях и книгу «Идо-грамматика», испещренную восклицательными знаками. Линев, полистав ее, сказал: «Филибро!» Приставка «фи» означает в эсперанто пренебрежение – книжонка, мол! А на диспуты он членам клуба ходить запретил, поскольку первый же публичный диспут в Доме работницы закончился скандалом и потасовкой. И Семченко в этом вопросе Линева поддержал.
Весной двадцатого года идисты укрепили свои ряды, переманив к себе из «Эсперо» нескольких интеллигентов. «Скатертью дорога!» – сказал Семченко, но Линев переживал. И действительно, были причины. Идисты, подкупив наборщиков, отпечатали в типографии пачку листовок, подбрасывали их в Стефановское училище, в разные учреждения и распространяли по городу. Особого успеха эта затея не имела, но все равно Семченко считал ее вредной для общепролетарского дела, дезорганизующей рядовых эсперантистов. Потому за неделю до праздника освобождения они с Линевым сочинили письмо, в котором требовали запретить идо-пропаганду, и направили его в губком.
Письмо заканчивалось так:
«Эсперантистские клубы для рабочих многих стран являются единственно доступными формами легальных организаций. За границей эсперанто часто называют «большевистским языком», чего никак нельзя сказать о так называемом «Идо». Он получил распространение среди узкой прослойки интеллигенции, и пропаганда его при нынешнем тяжелом моменте есть не только преступное расточительство духовных сил, но и прямо антипролетарское действие. А эсперанто пробьет себе дорогу вопреки всем теоретическим чревовещаниям наподобие упомянутого идизма!»
Они сочиняли это письмо долго, в каком-то радостном единении, почти в любви, и даже на последнем вечере, хотя повздорили из-за плаката, пару раз обменялись друг с другом заговорщическими взглядами.
Но потом, уже в губчековском подвале, когда все мысли были о Казарозе, только о ней, эта возня с письмом, это дурацкое переглядывание казалось недостойным, оскорбляющим ее последние дни и минуты. Пусть она об этом и не подозревала.
Великая и благая надежда подвигла доктора Заменгофа на создание эсперанто. Но что толку, если даже люди, говорящие на одном языке, не могут пока понять друг друга.
А на каком языке говорить с мертвыми?
7Вадим Аркадьевич пообедал, вымыл посуду, вытер ее и убрал в буфет, хотя невестка требовала оставлять посуду на сушилке – где-то вычитала, что так гигиеничнее. Вернувшись к себе в комнату, взял Надину фотографию в истертой добела кожаной рамочке, установил на стуле, а сам прилег – так, чтобы фотография была перед глазами. Темная челка, победно вздернутый маленький носик, блузка с накладным бантом, расклешенная юбка – такой Наденька была тогда, в двадцатом. Снимал ее Осипов. Помнился деревянный ящик, классическая тренога, черный платок, покрывавший Осипову голову и плечи и делавший его похожим на карбонария и пчеловода одновременно. Наденька улыбалась, отводила со лба челку, а за ней, словно горизонт в туманной дали, тянулась черта бельевой веревки.
Поженились они осенью двадцать первого, после чего Наденька перешла работать машинисткой в губисполком. Тогда же окончательно одряхлевшего Глобуса продали башкирам, а редакционную бричку стал возить статный жеребец, кличку которого Вадим Аркадьевич вспомнить не мог. В бричке ездил редактор Пустырев. В начале тридцатых годов он сменил ее на автомобиль и вскоре после этого конфиденциально предложил Вадиму Аркадьевичу, ставшему к тому времени корреспондентом, написать разгромную статью о клубе «Эсперо», который еще влачил жалкое существование. При этом сделан был намек, что если задание выполнено будет успешно, под должным ракурсом, то Вадиму Аркадьевичу обеспечено место завотделом.
Что бы, казалось, не написать? Эсперантистов этих он всегда на дух не выносил, раздражали они своими претензиями, снисходительным презрением к непосвященным. Но вот заклинило что-то, не смог. То есть и не отказал Пустыреву напрямую, но медлил, тянул, да так и не написал, дождался, пока другие сделали, после чего вздохнул с облегчением. Может быть, с этого случая и не заладилась журналистская карьера. Во всяком случае, жена считала именно так, и переубедить ее было невозможно. Перед войной Вадим Аркадьевич хотя и готовился разменять пятый десяток, по-прежнему ходил в простых корреспондентах, и Надя ему это обстоятельство поминала, попрекала тем, что он слишком много о рыбалке думает. По ее мнению, рыбалка была отдушиной для неудачников. Настоящие мужчины, сумевшие чего-то добиться в жизни, занимались охотой. Пустырев, например, был охотник. До истории со статьей о клубе «Эсперо» он пару раз приглашал Вадима Аркадьевича с собой пострелять уток, и Надя заставляла ездить, а потом и приглашать перестал.
– Допрыгался! – гремел Пустырев и обеими руками вдавливал пресс-папье в лежавшую на столе у Семченко очередную эсперантистскую брошюру. – В Чека забрали! А ведь предупреждал по-хорошему: не связывайся, Коля, с этой шоблой!
Утром в редакции побывал Ванечка, от него Пустырев все и узнал. Вадиму странно и жутко было думать, что этот Ванечка, самозабвенно лузгавший вчера семя, каким-то образом связан с «чрезвычайкой», а Казарозы уже нет, лишь голос ее остался у Наденьки на граммофонной пластинке, да еще сумочка с гипсовой рукой. Интересно, сам-то Семченко про эту руку знает или нет? И почему его арестовали?
– Кого пригрели? – воззвал Пустырев и пошел к себе, пнув по дороге мусорную корзину.
Когда за ним захлопнулась дверь, Вадим осторожно потянул со стола у Семченко брошюру, раскрыл наугад:
«Товарищи, изучающие международный язык эсперанто! Спешите возможно скорее строить наш Храм Человечеству! Так же, как некогда Вавилонская башня, этот Храм будет стремиться к небу и гордому счастью, но только строительными материалами для него послужат не камень и глина, а Любовь и Разум…»
– Такая молодая! – вздохнула Наденька. – Я ее вчера в театре видела… Жить бы да жить!
Она принесла из чулана граммофон, поставила на окно и яростно стала крутить ручку. Молча насадила пластинку на колышек, пустила механизм. В трубе зашипело, как если водой плеснуть на раскаленную сковороду, потом шипение отошло, и далеко, тихо заиграли на рояле. Голос возник – слабый, тоже далекий.
– Слов не разбираю, – пожаловался Осипов.
– Это песня про Алису, – стала объяснять Наденька. – Жила такая Алиса, и она боялась мышей. «Взошла луна, они уж тут как тут, и коготками пол они скребут…» Слышите, это она за мышей поет, голос тончит… Потом ей подарили кошку, и мыши попрятались. А последний куплет про любовь. От нее все страхи разбегаются, как мыши.
Опять зашипело, и Наденька сказала:
– Это она будто про себя поет…
Вадим разобрал две строчки: «Быть может, родина ее на островах Таити. Быть может, ей всегда всего пятнадцать лет…»
– Да уж! – усмехнулся Осипов. – Таити, как же… Пойдем, Кабаков, что ли, дернем маленько. А то душа горит! У меня в сарае бутылка заначенная.
– Пойдемте, – согласился Вадим, и они пошли в сарай.
– За Казарозу, – сказал Осипов, поднимая бутылку с мутной вонючей жидкостью. – Вечная ей память!
Ополовинил, протянул Вадиму, тот тоже отпил, но не все, хватило еще и за Семченко выпить, чтобы обошлось у него.
– Такой вроде правильный человек. – Осипов отшвырнул пустую бутыль за поленницу. – Не то что я… И вот казус. Я тут с тобой сижу, кумышку пью, а его взяли.
– Ошибка, – уверенно объяснил Вадим.
Осипов глянул исподлобья:
– Насчет меня ошибка-то?
Вскоре он захмелел, начал удивляться, зачем женщинам эсперанто.
– У них другой международный язык есть! – Кокетливо выпятил тощую грудь, пьяно стрельнул глазами из стороны в сторону и, ужимаясь, повел плечами. Выглядело это отвратительно.
– Пошляк вы! – разозлился Вадим и пошел в редакцию.
Осипов орал вслед:
– Точна! Пошляк и пьяница. Но философ! Всем правду в лицо глаголю эзоповым языком…
Наденька сидела за своим ремингтоном, а возле нее переминался незнакомый ярко-рыжий студент в темных очках, которые придавали ему загадочный вид.
– Вот, пристал как банный лист, – посетовала Наденька, испытующе оглядывая Вадима. – Семченко ему подавай!
Студент сел за стол Семченко, достал из кармана записную книжку и начал что-то в ней писать. Потом вырвал листок и поднял голову:
– Хотите пари?
– Топал бы ты отсюда! – предложил Вадим. Ему казалось, что Семченко – это предлог, а на самом деле студента интересует Наденька.
– Вы должны угадать, какого цвета у меня глаза. Ставка – тысяча рублей.
Сумма была не такая уж большая, Наденька смотрела с любопытством, и Вадим решился:
– Согласен.
«У рыжих глаза бывают голубыми или зелеными, – прикинул он. – А у него, значит, не такие, раз спорить предлагает…»
– Ну! – Студент взялся за дужку очков. – Карие!
Помедлив, чтобы ощутилось напряжение, студент привычным движением сдернул очки и вытянул шею. Один глаз у него действительно был желтовато-карий, а другой зеленый, с кошачьим оттенком.
Наденька засмеялась:
– Это нечестно!
– Пардон, – возразил студент. – Молодой человек угадал один глаз и может заплатить половинную сумму. Пятьсот рублей!
Зарплату выдали накануне, и Вадим молча положил деньги на край стола. Студент сунул их в портфель, а оттуда достал две листовки, отпечатанные на оберточной бумаге.
– Разрешите на эту сумму предложить вам кое-какую печатную продукцию. Вы, вероятно, находитесь под влиянием эсперантизма…
– Я сам по себе!
– Допускаю… А я – сторонник языка «Идо». В листовках изложены принципы нашего движения.
– Торгуешь принципами-то?
– Просто учитываю психологию старой формации. Когда за листовку заплачены деньги, больше надежды, что ее прочитают… Держите!
– Плевать я хотел на ваше движение. – Энергичным жестом человека, уничтожающего долговую расписку после выплаты унизительного долга, Вадим порвал листовки. – Никак рехнулись вы все со своим международным языком. По-русски-то вам чего не разговаривается?
Помрачнев, студент вынул из портфеля пятьсот рублей, положил рядом с обрывками листовок, сдержанно поклонился Наденьке и исчез. Вадим сел за стол Семченко, машинально сдвинул брошюру и увидел под ней листок, вырванный из записной книжки:
«Николай Семенович! Нам все известно. Вы с Линевым затеяли опасную игру!»
– Тут без тебя чекисты приходили, Семченко искали, – сказала Наденька. – Сбежал он от них, что ли?
Ужасом ожгло: если сбежал, выходит, виноват в чем-то! Нет, быть того не может. Вспомнился плакат в вестибюле Стефановского училища, который с таким непонятным ожесточением отстаивал Линев. Плакат, гипсовая рука. Теперь еще записка. Это Линев виноват, вот кто! Это он затеял опасную игру, подвел Семченко под монастырь. Что ж, играйте, Игнатий Федорович, играйте, вы и не догадываетесь, с кем вам предстоит продолжать партию – с Вадимом Кабаковым собственной персоной, не с кем-нибудь!
Он незаметно сложил записку, сунул в карман.