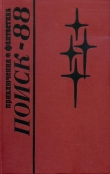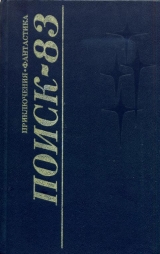
Текст книги "Поиск-83: Приключения. Фантастика"
Автор книги: Леонид Юзефович
Соавторы: Сергей Другаль,Игорь Халымбаджа,Евгений Наумов,Михаил Немченко,Виталий Бугров,Семен Слепынин,Александр Чуманов,Ирина Коблова,Виктор Катаев
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)
Ходырева приговорили к году общественно-принудительных работ.
Семченко выслушал еще одно дело, перекинулся с Альбиной Ивановной несколькими словами по поводу завтрашнего вечера в Стефановском училище, а когда вышел на улицу, то сразу увидел Геньку. Тот стоял возле мостков через канаву – одна рука на гашнике, другая отведена за спину, напряжена в плече. Семченко двинулся к нему, намереваясь поговорить по-хорошему, и тут же камень скользом оцарапал скулу.
– Ты что? – Он остановился.
Генька отбежал немного и заорал, вихляясь:
– Башка каторжная! Сука ты, сука!
– Погоди, не трону. – Семченко перескочил через канаву. – Если каждый сам будет решать, что сейчас нужнее, чего выйдет-то? Ты подумай. Всяк под себя грести начнет!
Генька вдруг затих и спокойным, только неестественно высоким от горловой судороги голосом спросил:
– Влез-то зачем? Кто тебя звал, козел бритый?
Он бесстрашно стоял в двух шагах от Семченко, скособочившись от напряжения, бледный, похожий на затравленного зверька, и такая ненависть была в его глазах, что Семченко стало не по себе – плюнул и пошел прочь.
«…Бросился вперед с криком «Аван!», что по-французски означает: «Вперед!». Эсэсовцы, засевшие на втором этаже, отвечали ураганным огнем из «шмайсеров». Пуля попала Геннадию Ивановичу в грудь, и он умер на руках своего боевого соратника Антуана Мюзо. После победы Мюзо написал обо всем сестре Геннадия Ивановича, Татьяне Ивановне Постоноговой, проживающей в нашем городе по адресу…»
Семченко вернул листки Майе Антоновне, встал.
– Значит, мы договорились, – сказала она. – Встречаемся завтра в шесть часов. Здесь. Я постараюсь предупредить всех наших.
– Вы всегда здесь собираетесь?
– Вообще-то нам два раза в месяц выделяет помещение Дом культуры нефтяников. Но завтра там занимается вокальная группа. И ехать туда далеко… Жаль, что Кадыр Искандерович на курорте.
– Жаль, – согласился Семченко. Впрочем, Минибаева он помнил плохо. Вспомнил, что был такой, лишь когда получил письмо от Майи Антоновны.
– Кадыр Искандерович много рассказывал о клубе, о вас. – Она все время цитировала в разговоре собственное письмо. – Очень жаль, что его не будет на встрече… Почему вы не предупредили о своем приезде, Николай Семенович? Мы бы вас встретили, заказали номер в гостинице.
– Я отлично устроился. – Гостиницу Семченко забронировал еще в Москве, через старых друзей из Минвнешторга. – А про Казарозу вам Минибаев не рассказывал?
– Странное имя… Она что, тоже была эсперантисткой?
– Нет.
– Кстати, какой у вас номер? Может быть, я забегу вечером? Вы не возражаете?
– Напротив, буду рад. Триста четвертый.
Он спустился с крыльца, помедлил, подставляя лицо солнцу, потом сел на скамейку. На соседней дремал маленький благообразный старичок, час назад заходивший в учительскую. Рот его был полуоткрыт, легкий белый пушок на темени шевелился от едва ощутимого ветерка.
«А ведь помоложе меня будет», – с удовольствием подумал Семченко. Сам он ни за что, ни при каких обстоятельствах не позволил бы себе заснуть вот так, прямо на улице.
Он достал бумажник, набитый визитными карточками и использованными аптечными рецептами, которые почему-то не решался выбрасывать, осторожно вынул плотную старинную фотографию с обтрепавшимися углами. Это была фоторепродукция. Сбоку в кадр влезла черная рама, за ней угадывалась какая-то мебель – ножки, переборки, край ширмы. На картине, окруженная дикими зверями, стояла крохотная изящная женщина с птичьей клеткой в руке. Звери были всякие, но все со свирепыми мордами, оскаленные, вздыбленные – и жираф, и бегемот, и непонятный мохнатый уродец с прямым и длинным рогом на поросячьем носу. Даже мирный слон и тот изготовился к нападению, взвив хобот и наставив клыки. Узкую, с круглым верхом клетку женщина держала за кольцо, чуть отведя в сторону. В клетке сидела райская птица, и взгляд у обеих – у женщины и птицы – был растерянный, непонимающий.
Утром первого июля Семченко побрил голову и лицо, пришил к вороту гимнастерки недостающую пуговицу, положил в левый сапог кусок бересты, отчего тот при ходьбе стал издавать легкий бодрящий скрип, и отправился в гортеатр.
В переходах театра, располагавшихся на уровне полуподвала, было сумрачно, пахло пылью. За одной из дверей легковесно пиликала скрипка. Скрипку Семченко не уважал за ненатуральность звучания. Из музыкальных инструментов он больше всего ценил гитару – умел играть на ней романс «Ни слова, о друг мой, ни вздоха» и армейские сигналы, на одной струне.
Семченко потянул на себя дверь, скрипка умолкла. Здоровенный мужик во фраке, надетом прямо на голое тело, спросил:
– Вам кого? – подумал и добавил: – товарищ.
– Не подскажете, где Казарозу найти?
– Зинаида Георгиевна у себя. – Скрипач указал направление смычком. – Четвертая дверь направо – ее уборная.
В восемнадцатом году, в Питере, в нетопленом зале на Соляном Городке, куда он попал случайно, бродя по столичным окраинам, Семченко увидел на сцене крохотную женщину. Она играла в пьесе «Фуэнте Овехуна», то есть «Овечий источник», а по ходу действия, аккомпанируя себе на бубне, танцевала и пела песенки, ни мелодии, ни слов которых Семченко не запомнил, потому что во все глаза смотрел на певицу. Он сидел в первом ряду, нахально вытянув перед собой ноги в забрызганных грязью офицерских хромачах, и на протяжении всего спектакля видел только ее. Даже плохо понимал, о чем говорят остальные актеры.
У нее были темные, с вишневым оттенком глаза, круглый подбородок, пепельно-русые волосы, углом обрамлявшие лоб и сколотые на затылке. Лежали они как-то очень просто, мило, и Семченко сразу подумал, что она и в обычной жизни носит такую прическу, не только на сцене. В перерыве он поинтересовался, кто такая. Объяснили: Казароза, певица.
Играла она крестьянку Лауренсию. Пьеса была вполне революционная, это Семченко сразу отметил. После спектакля, когда немногочисленная публика потянулась к выходу, он пробрался за кулисы, отыскал Казарозу и предложил ей назавтра поехать в казарму, где стоял их полк, выступить перед бойцами. Он и сам понимал, что это предлог, не больше. Просто хотелось взглянуть на нее вблизи, поговорить, услышать ее голос, обращенный не в зал, а лично к нему, Семченко. Время было смурное, маетное. Сегодня жив, завтра мертв. Через несколько дней полк отбывал на фронт, а пока все же в Питере стояли, в столице как-никак, Северной Пальмире, и возмечталось вдруг о чем-то таком, особенном. Вот и пошел. Думал, уговаривать придется, но она тут же согласилась. А на следующий день, после концерта в казарме, где она пела странные, неожиданно вышибающие слезу песенки про Алису, которая боялась мышей, про розовый домик на берегу залива, Семченко пошел ее провожать. Желающих обнаружилось много, но он всех отшил.
Дул шквалистый ветер с моря, фонари не горели. Семченко старался идти потише, но она быстро перебирала маленькими своими ножками, и он незаметно для себя прибавлял шагу. Башмачки у нее были чистенькие, чулочки светлые, с ажуром, и как-то так умела она ходить по слякоти, что совсем не забрызгивалась. Он все хотел приотстать, посмотреть, как это у нее получается. Уже где-то на Литейной спросил: «Откуда у вас такая фамилия? Вы русская?» Она улыбнулась: «Это для сцены… «Каза» по-испански значит «дом», «роза» – и есть «роза». Домик роз, розовый домик…» – «Сами придумали?» – «Один человек меня так назвал, и прижилось». – «А имя-отчество ваше?» – Семченко ощутил прилив неприязни к этому неизвестному человеку, мужчине, наверное, который дал ей новое имя. Так победитель переименовывает завоеванный город. «Зинаида Георгиевна, – ответила она. – Шершнева…»
У многооконного темного дома на Кирочной Семченко первым протянул ей на прощанье руку и даже испытал облегчение, что вот она ушла и все так хорошо кончилось. То есть никак не кончилось, но это-то как раз и было хорошо. Промелькнула и осталась в памяти маленькая женщина, Лауренсия, черт побери, Казароза. Чистый голосок, чулочки с ажуром, смуглая рука в ночной мороси. Та неопределенность, которая была ему внове и которая показалась отчего-то предвестьем иной жизни, лучшей.
Шел обратно и повторял: «Казароза, Каза-роза…» Сапоги в лад скрипели – скрип-скрып. И явилась мысль: «Казарма, каза-арма, дом армии, военный домик!» Спросил, вернувшись, у часового: «Знаешь, земеля, что в переводе с испанского означает слово казарма?» – «Пошел ты!» – ответил сонный часовой. Но Семченко ничуть не рассердился, объяснил. И потом, когда уже эсперанто занялся, часто про это вспоминал. Язык был – как вода у берега, и камушки на дне виднелись. Нужно только смотреть хорошо.
А у воды розовый домик, и конь стоит около крыльца, поматывая гривой. Вот оно, забытое счастье, к которому Семченко шел сейчас по коридору гортеатра.
Она сидела перед зеркалом и не обернулась на скрип двери. «В зеркале видит», – догадался Семченко.
– Здравствуйте, Зинаида Георгиевна, – сказал он, со значением напирая на ее отчество. В афише указано было только имя.
Она ответила отражению:
– Доброе утро… Почему вы не постучались?
– Я стучал, вы не слышали. – Семченко с усилием оторвал взгляд от ее затылка и тоже стал смотреть в зеркало. Даже в этом старом, с облезшей ртутью зеркале видно было, как она переменилась – пожелтело, утончилось лицо, впадины прорезались под скулами.
– Вы меня не помните?
– Нет.
– Розовый домик. – Семченко произнес эти слова, как явочный шифр. – Алиса, которая боялась мышей…
Теперь он знал, что это были песни ее славы – далекой, почти неправдоподобной. Последние справки навел три дня назад, когда на глаза попалась афиша приезжей петроградской труппы. Под номером первым в ней значилась, Зинаида Казароза – «романсеро Альгамбры, песни русских равнин, дивертисмент».
– Слышали меня в Петрограде? – Она обернулась наконец.
– Я провожал вас однажды домой. Вы жили на Кирочной.
О чем мог он ей напомнить? О том, что она ходит не забрызгиваясь? Что ладошка у нее смуглая? Голову он тогда не брил, и ухо было целое, и ни о чем существенном, западающем в память, поговорить они не успели. А про концерт в казарме напоминать не хотелось. Хотелось, чтобы она вспомнила его самого, только его, Колю Семченко, как они шли по ночной Литейной и он спросил про ее имя…
– На Кирочной? Действительно, я там жила одно время… Где только не встречаешь знакомых… Вы хотите пройти на сегодняшний концерт? Я, разумеется, могу дать вам контрамарку. – Она сделала несколько шагов, кутаясь в халат. – Но мне бы не хотелось. Сравнение меня со мной будет не в мою пользу.
– Я к вам по поручению городского клуба эсперантистов, – растерявшись, сказал Семченко. – Не могли бы спеть на нашем сегодняшнем вечере?
– Вы изучаете эсперанто? – Ее ладонь, горсткой лежавшая на подзеркальнике, распрямилась, нервно прилегла к лакированной поверхности.
– А что тут особенного?
– Боже мой, эсперанто! – Она смотрела на него ошеломленно. – Я приду… Только обещайте не проводить никаких сравнений… Значит, завтра вечером?
– Сегодня.
– Но я же сегодня занята в концерте!
– В начале первого отделения, я знаю. – Семченко уже вновь обрел обычную свою напористость. – А к нам вы можете приехать попозже. Тут недалеко. Человек с лошадью будет ждать вас у театрального подъезда. – Он положил на подзеркальник лист бумаги. – Это романс «В полдневый зной, в долине Дагестана» на эсперанто. Мелодию вы знаете?
– Да, – удивленно проговорила она.
– Буквы латинские, – Семченко ткнул пальцем в бумагу. – Внизу я написал, как они произносятся. К вечеру выучите слова. Вас будут ждать с восьми часов у главного подъезда. До встречи!
3Вадим Аркадьевич думал о встрече с Семченко спокойно, потому что прожил долгую жизнь, в которой хватило места для разных неожиданных встреч и удивительных совпадений. Когда-то, в юности, они волновали, виделось за этим бог знает что. А разобраться, так ничего удивительного в них нет, просто жизнь. Она разводит и опять сводит, если, конечно, живешь достаточно долго, судьбы пересекаются, как параллельные линии сходятся в бесконечности.
Солнышко грело, от пивзавода долетал сладковатый приятный запах солода. Было хорошо, покойно. Вадим Аркадьевич чувствовал, что и в самом деле живет очень долго, бесконечно долго, если опять, наяву, увидел Семченко.
Наверное, это последняя такая встреча в жизни.
Захотелось спать.
Вадим Аркадьевич поднялся, вдоль кромки тротуара дошел до школьного крыльца, а когда пошел обратно, увидел за скамейками чугунную тумбу, косо торчащую из асфальта. Сколько раз он ходил здесь, а этой тумбы никогда не замечал. Асфальт у ее основания бугрился, шел трещинами, словно она только сейчас выросла из земли. В трещинах пробивалась свежая травка.
Вечером первого июля Вадим сидел на чугунной тумбе возле Стефановского училища и ждал Семченко. Народ расходился с митинга. Мимо пронесли фанерного красноармейца – розовощекого, рот растянут, как гармоника. На его деревянном штыке болтались чучела генералов с лицами защитного цвета. «Из галифе сшиты», – отметил Вадим. Видно, много дорог исходили в этих галифе под дождем и солнцем, и потому тусклы, печальны были у генералов лица.
Неподалеку крутился Генька Ходырев, сосед. Вадим окликнул его:
– Ходырь! Подь-ка сюда!
– Чего тебе? – не подходя, отозвался тот.
– Скажи мамке, пускай за козой лучше смотрит. Вечно ваша Билька у афишной стенки отирается. Я ее вчера два раза гонял, у праздничной программы весь низ объела.
– Выше клеить надо, – сказал Генька и исчез в толпе.
Семченко приехал без четверти восемь. Он вылез из брички, потрепал Глобуса по шее.
– У ветеринара были? – спросил Вадим.
– Были. Говорит, соколок воспален немного, но это ничего, пройдет. И нагружать его сильно не велел. Задышливый конь, старый.
Они поднялись на крыльцо, миновали прихожую и очутились в просторном предлестничном вестибюле. Здесь стояло несколько молодых людей, по виду студентов. Семченко пожал им руки со словами: «Бонан весперон».
Это звучало таинственно и строго, как пароль.
Молодые люди уважительно отвечали:
– Бонан весперон, Николай Семенович! Добрый вечер!
Потом все заговорили по-русски, а Вадим стал рассматривать диковинный плакат, висевший возле лестницы, на котором нарисован был согнутый указательный палец размером с дужку от ведра. У ногтя, а также у внутренних и внешних сгибов его фаланг красовались латинские буквы. Рядом на эсперанто написан был стишок в четыре строки. О том, что это стишок, Вадим догадался по окончаниям. Он тронул Семченко за локоть, кивнул на плакат:
– Это что?
– Пустяки. – Тот пренебрежительно покрутил в воздухе кистью. – Для привлечения членов.
– Юноша интересуется, Николай Семенович! Отчего же не объяснить? – К ним подошел франтоватый юркий старичок с длинными, совершенно седыми волосами, свисающими на ворот пиджака. – С помощью собственного пальца можно определить, какой будет день недели в любое число года. Буква «А» соответствует понедельнику и далее по ходу часовой стрелки. Стихи – ключ…
– Я тебе потом объясню, – сердито оборвал его Семченко.
– Отчего же потом? Вижу, юноша интересуется, вот и рекомендую. В этом стихотворении всего двенадцать слов, по числу месяцев…
– Ведь договаривались, – рявкнул Семченко. – Или снимайте этот плакат к чертовой матери, или другой стишок сочиняйте!
– Как угодно, как угодно. – Старичок отошел, обиженно скрючив губы.
Семченко сорвал со стены плакат, смял его и каблуком вбил в урну.
– Это безобразие! – Старичок чуть не плакал. – Я буду ставить вопрос на правлении!
– Ладно, Игнатий Федорович. – Семченко примирительно положил ему руку на плечо, стряхнул перхоть. – Будет! Скажите лучше, кого вы нарядили Казарозу встречать. Р-рысаки у подъезда. – Он подмигнул Вадиму.
– Ваша затея, вы и распоряжайтесь. – Старичок примирения не принял. – При таком обращении я вообще готов сложить с себя председательские полномочия!
Вадим наблюдал эту сцену, с некоторым злорадством думая о том, что вот Семченко и старичок Игнатий Федорович исповедуют одну идею и вроде во всем должны друг друга понимать, потому что через одно стеклышко на жизнь смотрят. А нет, не выходит!
– Выручишь, а? – Семченко повернулся к Вадиму. – Бери нашего Буцефала, дуй к театру и становись возле главного подъезда. Встретишь Казарозу и доставишь сюда. Я бы сам поехал, да выступать сейчас.
– Из себя-то она какая? – спросил Вадим.
– Маленькая, тебя меньше. Волосы серые, гладкие, вот тут углом лежат. – Семченко сложил свои бугристые ладони надо лбом, словно собирался молиться по-татарски.
– Старичок этот – ваш председатель, что ли? – поинтересовался Вадим, когда они вышли на улицу.
– Ага. Линев Игнатий Федорович. В конторе железной дороги служит. На эсперанто шпарит – заслушаешься!
– А про что все-таки тот стишок? – Чувствуя, что разговор о плакате Семченко почему-то неприятен, Вадим с деланным простодушием опять к нему вернулся.
– Дался он тебе! Ну, не наш стишок. Про надежду там – в религиозном смысле, про бога, про смирение. Но любопытствуют многие. Календарей-то нет сейчас… Ладно. – Он кинул Вадиму вожжи. – Трогай!
Мешкотно перебирая мохнатыми ногами, Глобус выбрался на Петропавловскую, и слева, над крышами, встала желто-белая уступчатая пирамида соборной колокольни.
С тротуара махнул рукой Осипов, Вадим остановился. Осипов был сильно навеселе, он с трудом залез в бричку, но садиться не стал, стоял, уцепившись Вадиму за плечо. Едва тронулись, он, страшно выпучив глаза, закричал переходившей улицу бабке:
– Пади! Пади!
После чего важно прокомментировал:
– Раздался крик.
О цели и направлении поездки он осведомился, когда уже подъезжали к театру, и очень обрадовался:
– Господам эсперантистам нужна реклама! Хо-хо! – Осипов попытался ернически потереть руки и чуть не вывалился из брички.
Напротив театрального подъезда возвышалась оставшаяся после митинга трибуна, грубо сколоченная из досок. Стенки ее были расписаны разными лозунгами, а сбоку наклеена фотография: «Жертвы Колчака в Омске». Серые, неестественно длинные тела в ряд лежали на земле, жутко белели обнаженные ступни, а за ними виднелись чьи-то ноги в обмотках и приклад винтовки. Вадим эту фотографию еще издали узнал, их десятка полтора по городу расклеили.
Он остановил Глобуса у трибуны, закурил. Осипов сидел рядом, жеманно отмахиваясь от дыма, и слезать не собирался. Явно хотел дождаться Казарозу, и это Вадиму не понравилось. Вообще он Осипова не любил. Имея жену и двоих детей, тот откровенно ухлестывал за машинисткой Наденькой, а поэтесс из литкружка охмурял балладой собственного сочинения, напечатанной когда-то «Губернскими ведомостями» ко дню «белого цветка» – Всероссийскому дню борьбы с туберкулезом.
Минут через пять из театра вышла маленькая женщина в зеленой жакетке с сумочкой. Поймав ее взгляд, Вадим помахал рукой.
– Я Казароза, – она подошла. – Вы из эсперанто-клуба?
– Из него самого… Садитесь.
Осипов помог ей залезть в бричку, церемонно представился, а когда стал усаживаться сам, из подъезда выскочил светловолосый паренек в белой косоворотке.
– Мой поклонник, – усмехнулась Казароза. – В поезде познакомились… Все как в старые добрые времена.
– Зинаида Георгиевна, можно я с вами?
– Ради бога, Ванечка, если очень уж хочется. – Казароза повернулась к Осипову, которого, видно, приняла за старшего. – Поехали?
– Выпил, знаете ли, бокал шампанского, – без тени смущения объяснял Осипов, распространяя вокруг себя тяжелый дух кумышки. – Праздник сегодня. А я тоже внес посильную лепту в дело освобождения. – Он начал длинно рассказывать о том, как в своем «Календаре садовода и птичницы» вывел городского голову под видом крыжовника. – Вы недооцениваете российскую губернию! – все больше распалялся Осипов. – Я имею в виду губернские города. Именно через них пройдут пути истории в двадцатом столетии. Всемирной, заметьте, истории! Европа одряхлела, да. Но из Северной Пальмиры тоже сыплется песок. И даже из Третьего Рима! Я губернский житель в четвертом поколении и горжусь этим. Однако говорю себе: «Смирись, гордый губернский человек!»
– Почему же вы так говорите? – равнодушно спросила Казароза.
– Пока еще моя гордость – лишь обратная сторона ущемленного самолюбия… Возьмем великую русскую литературу. Много ли вы назовете в ней произведений, посвященных мне, губернскому интеллигенту?
– «Мертвые души», – сказала Казароза. – «Ревизор»…
– Это уже уезд! Он появляется иногда по дороге из деревни в столицу, но губернии нет. Нет! Губернский интеллигент надут, смешон со своими претензиями. Вы думаете так: претензии на столичность. Но что ему ваша столичность! Выше берите! Когда я еду по улице, – Осипов очертил рукой круг, едва не сшибив у Вадима картуз, – мне хочется закрыть глаза, чтобы не видеть этого убожества. А с закрытыми глазами я легче воспаряю духом. Мне эсперанто подавай!
У входа их никто не встретил, пришлось подниматься в зал самим. Там сидело человек шестьдесят – семьдесят, не больше. Толпы сочувствующих эсперантистскому движению отправились, по-видимому, в иные очаги культуры. Возле дверей, протянув через проход длинные ноги в обмотках, развалился на стуле какой-то курсант с пехкурсов имени Восемнадцатого марта. Он был сильно под градусом, дремал, уткнувши подбородок в грудь. Вадим отодвинул его ноги, и они все вчетвером сели в предпоследнем ряду.
На сцене Семченко произносил речь.
– …Необходим каждому сознательному большевику! – гремел в полупустом зале его голос. – Доктор Заменгоф утверждал: эсперанто дает возможность людям разных наций понимать друг друга. Правильно. Но какой он из этого сделал вывод? Он сделал вывод, что всякая другая идея или надежда, какую эсперантист связывает с эсперантизмом, есть его частное дело. И эсперантизм, как таковой, тут ни при чем. Правильно ли это, товарищи? Теперь эсперантизм не игрушка, не праздное развлечение ленивых бар. Он есть боевое и грозное оружие в мозолистых руках пролетариата. Да здравствует пролетарский эсперантизм!
Затем, отчетливо выговаривая слова, Семченко произнес несколько фраз на эсперанто. Все захлопали, а курсант, с усилием приподняв голову, возмущенно пробасил:
– По-каковски чирикаешь, контра?
На него зашикали, оборачиваясь, и он вновь прикрыл глаза. Семченко тоже посмотрел в ту сторону, увидел Казарозу и быстро сбежал со сцены.
– Вы чего здесь? Идемте ближе!
В длинном и узком актовом зале Стефановского училища более или менее плотно были заполнены первые ряды. Потом, примерно до второго окна – всего окон было три, – сидели отдельные зрители, а дальше совершенно пустые стулья простирались до самых дверей.
Задевая колени сидящих, они пробрались в середину четвертого ряда. Осипов при Семченко был тих и покладист.
– Может быть, лучше с краю? – спрашивала Казароза.
– Ничего, вам еще не скоро выступать. – Семченко неумолимо двигался за ней. – Посидите пока, послушайте.
– …Со времен Александра Македонского и еще раньше, что получило свое воплощение в известной легенде о строительстве Вавилонской башни и последующем разделении языков. – Теперь выступал старичок председатель Игнатий Федорович. – Многие мыслители воспринимали это как проклятие, тяготеющее над человеческим родом и заставляющее его самоистребляться в братоубийственных войнах…
Казароза сидела подавшись вперед, слушала. Спина у нее была тонкая, жалостная какая-то. Жакетка обвисла на приподнятых плечах. Слева Ванечка лузгал семя, губы его безостановочно двигались, выбрасывая в ладонь лохмы подсолнуховой шелухи. Семченко склонился к Казарозе, объяснил шепотом:
– Само слово «эсперо» означает «надежда». Эсперанто – надеющийся.
– Как странно, что я здесь, – тоже шепотом отвечала Казароза.
– Те, кто участвовал во всемирных конгрессах, – говорил Линев, – знают, какой невероятный энтузиазм и родство душ пробуждаются в это время у делегатов. Декарт сказал: «Я мыслю, – значит, я существую!» Но ведь мысль, отделяющая жизнь от смерти, выражается словом. А оно у каждой нации свое. Все нации живут словно замкнутые в отдельных клетках живые существа. Клетки же – языки. Но теперь ключ от них найден. Это нейтральный вспомогательный язык эсперанто…
«Ну и влип, – злился Вадим. – Устроили, черти, праздничек!»
Хотя вода в этом году поднялась, слава богу, не сильно, все равно размыло у берега выгребные ямы. Ветер дул от реки, в приотворенное окно тянуло слабым запахом отбросов, гнилью. Тут не только глаза, нос затыкать надо. И было не по себе от мысли, что Казароза тоже слышит этот запах. «Худая, – думал Вадим. – В Питере со жратвой еще хуже, чем у нас. У нас хоть огороды, зелень есть. А там один камень, козу не выпустишь…» Вспомнил Бильку. И чего она афиши жрет? Клейстер ей нравится, что ли?
Сам Вадим с козами мало общался. Отец служил метранпажем в земской типографии и держать «деревянную скотинку» считал ниже своего достоинства. В девятнадцатом году его расстреляли белые за отказ разбирать типографские машины для эвакуации на восток. А мать еще раньше умерла от брюшняка, зимой восемнадцатого. От них осталась единственная фотография – сидят на фоне драпировок и гипсовых капителей в фотоателье молодые, испуганные, и мать нарочно выставила вперед руку с обручальным кольцом.
А Линев уже шпарил на эсперанто. Это у него в самом деле здорово получалось – легко так, без натуги, будто анекдот рассказывает. Но долго. Томясь, Вадим стал разглядывать зал. Нигде никаких украшений, плакатов, лишь алые банты приколоты к шторам да на деревянной рампе сцены, сбоку, изображен молотобоец с вписанной в красный круг зеленой пятиконечной звездой на запоне – эмблемой пролетарского эсперантизма. От Семченко Вадим знал, что эсперантисты старого толка рисуют одну зеленую звезду, без круга.
Тускло блестели под потолком две электрические лампочки. Линев вдохновенно вещал о чем-то со сцены, хотя большая половина зала явно его не понимала. Вадим прикрыл глаза, посидел так немного и задремал, сохраняя на лице, чтобы не обидеть Семченко, выражение вдумчивого и уважительного интереса.