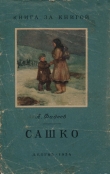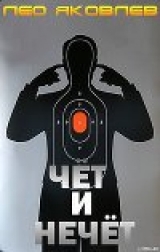
Текст книги "Чёт и нечёт"
Автор книги: Лео Яковлев
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 45 страниц)
Петербург! я еще не хочу умирать…
О. Мандельштам
Сейчас уже трудно представить себе Одессу «мирного» времени – маленькую точку на карте земного шара, причастную к звонкой и неупорядоченной жизни мирового океана. Сердце города – порт – расцветал всеми флагами Земли. Любой – почти безо всяких формальностей, но, конечно, при наличии денег, – мог стать пассажиром, а при их отсутствии, если позволяло здоровье, – матросом на отбывающем корабле, и тогда для него прямо здесь начинались неведомые страны, ураганы, тропические ливни, коралловые рифы и безлюдные ослепительные океанские пляжи, окаймленные буйной зеленью подступающих джунглей. Немного воображения – и все это можно было разглядеть в мутной морской воде у одесских причалов. Человек становился пленником Моря. Так случилось с юным поляком Юзефом Коженевским, так случилось со многими моряками, не сумевшими поведать миру о своих странствиях, подобно капитану Джозефу Конраду. Эти немые капитаны, всеми позабытые давно, тихо доживали свой век тут же в Одессе, в меблированных комнатах, либо в своих домишках на окраине большого города – кому как улыбнулось счастье.
Над портом, над заливом, над сизым дымком от заводов и заводишек Пересыпи, опоясанная Старопортофранковской улицей, царила иная Одесса – до нее не долетали шум матросских драк из портовых кабачков и скрежет металла с Пересыпи, и людям, чьим трудом жил и богател этот город, было здесь как-то неуютно под тяжелым взглядом городовых. Порядок этот казался незыблемым и вечным, как и античная красота зданий, окружающих памятники Екатерине Великой, светлейшему князю Михаилу Семеновичу Воронцову, герцогу Арману Эммануэлю дю Плесси де Ришелье.
Вечным казалось и кафе Фанкони, расположенное двумя кварталами выше Дюка по Екатерининской, – оно присутствовало даже в городском фольклоре:
Я живу теперь не при фасоне,
И семья моя совсем бедна,
И не пью я кофе у Фанкони,
И не пью я чай у Робина.
Впрочем этот печальный куплет исполнялся в веселом ритме, что, повидимому, должно было подчеркнуть временный характер воспеваемых неудач. Компаниям же золотой молодежи, собиравшимся в кафе Фанкони, даже временная бедность представлялась каким-то фантастическим состоянием, а, между тем, призрак ее уже нависал над их столиками. Кто, например, мог тогда предположить, что не пройдет и пятишести лет, тоже весьма несладких, как блестящему Сереженьке Вальтуху, сыну заводчика, пригодится его умение лихо водить собственный лимузин, чтобы стать шофером такси в Париже? Но это будет потом, потом, а пока – кутеж продолжался.
Временами то в одной, то в другой компании возникал стройный молодой человек с моноклем. Его выделяла нездешняя бледность лица, чистая русская речь без южной окраски. Это был Лека Филатьев, сын преуспевающего доктора медицины, владельца одной из известнейших в новороссийском крае клиник. Первые годы своей жизни Лека провел как подобает сыну богатого одессита: вилла на Двенадцатой станции, прохладная городская квартира за толстыми стенами из ракушечника, шелест акаций за окном, созерцание портовой суматохи с бульвара, итальянские знаменитости в одесской Опере, заграничные поездки. Все это Лека переносил с достоинством и чуть ли не с полным безразличием, хоть и перевидел немало великих городов. И только для одного он сделал исключение: однажды папаша взял Леку с собой в Петербург, – и этот город полонил его юное сердце.
Было прохладное майское утро, когда они прибыли в столицу. Дворцовая площадь и набережные, мосты, каналы и стрелка Васильевского острова были безлюдны, в низком утреннем солнце тревожно блестела позолота шпилей и крестов, в темно-синем небе, отражаясь в еще более густой синеве невской воды, быстро плыли светлые облака.
Это зрелище в один миг убедило Леку в абсолютной бесполезности его одесского существования, затмило все его робкие мечты о странствиях, о карьере капитана дальнего плавания. Петербург воцарился в его душе навсегда. Через год, когда Ришельевская гимназия была закончена, он беспощадно разбил мечты отца, планировавшего дать сыну медицинское и обязательно немецкое образование, ценившееся в Одессе превыше всего. Лека выбрал Петербургский университет и поступил на совершенно бесполезный с одесской точки зрения историкофилологический факультет. В кругу своих одесских сверстников он получил прозвище «петербуржец» и носил его с гордостью, как высочайший титул, всеми силами стараясь соответствовать ему и внешне, и внутренне.
Могучим здоровьем Лека не отличался, и начавшаяся война не разлучила его с Петербургом. Он надел полувоенную форму и совмещал университетские лекции с работой в каких-то патриотических заведениях и комиссиях. Как положено либералу и к тому же филологу, он встретил падение императорской власти с восторгом, а октябрьский переворот с полным непониманием, но все эти перемены не касались главного: Петербург, его Петербург (имени «Петроград» он так и не освоил) оставался Петербургом.
Жизнь становилась труднее. Прервалась связь с Одессой, а когда страна собралась воедино, выяснилось, что престарелый отец уже не сможет содержать его, как прежде. Символом перемен для приехавшего в Одессу Леки стала статуя матушки-императрицы на Екатерининской, закутанная в тряпье со звездой, венчающей это пугало. Большинство одесских друзей оказались в эмиграции, а иные стали скромными служащими, пытаясь найти себе место в круто изменившемся быте.
Вернувшись на север и походив на биржу труда, Лека убедился, что в том, чему его учили в университете, большой потребности у народа пока еще не появилось. Правда, ему предоставили возможность участвовать в ликвидации неграмотности, но работа с великовозрастными учениками, ласково называвшими его «наш буржуй» и мило издевавшимися над его моноклем, Леку тяготила, и поэтому, когда он узнал, что его Петербургу требуются пожарные, Лека без сожаления оставил свою педагогическую деятельность и поступил, как он говорил, в пожарную часть. К немаловажным преимуществам этой своей новой должности Лека относил обеспечение «производственной» одеждой и «спецпитанием». Первое обстоятельство позволяло ему надолго сохранить остатки своего прежнего гардероба, а второе – не считать каждую копейку и давало возможность время от времени бывать в Одессе, иногда даже путешествуя первым или вторым классом.
Весть о поступлении Леки в пожарники распространялась медленно, но верно, и со временем достигла остатков одесского высшего света в самой Одессе, в Константинополе, Белграде, Париже. Более всего были шокированы те его одесские знакомые, которые с южной предприимчивостью уже как-то сумели приспособиться к новой жизни. Впрочем, все это обсуждалось заглазно. Когда же Лека появлялся в Одессе, его принимали в лучших традициях местного бомонда – ласково и почтительно, ибо никто уже не удивлялся превратностям судеб. Так принимали его и в семье моего отца – в далекое, навсегда ушедшее «мирное» время Лека был его восприемником, и потому, разумеется, когда он сам этого не слышал, его называли здесь «кум-пожарник».
Конечно, отголоски всяческих сплетен достигали Лекиных ушей. Достигали, но мало трогали. Меньше всего, пожалуй, думал он о своей жизни во время дежурств. Тогда еще не было мелькающих огоньками пультов, и дежурили у телефона и на каланче. Лека старался выбрать каланчу, и если выпадал погожий день, тогда…
…там, среди разноцветных крыш, угадывались Дворцовая площадь и набережные, берега Фонтанки и Мойки, проспекты, мосты и канаты. В низком утреннем солнце тревожно сияла позолота, кое-где блестела темно-синяя Нева и над всем этим, совсем рядом, в густой синеве неба быстро плыли белые облака.
А после дежурства Лека с наслаждением вдыхал и впитывал в себя Петербург, медленно обходя свои улицы и набережные, отдыхая в Летнем саду. Иногда он устраивал себе праздник и заходил в один из бывших своих ресторанов. Там среди столиков еще бодро двигались официанты, знакомые ему по студенческим годам. Несмотря на скромность заказов и далеко не праздничную одежду, они по Лекиным изысканным манерам узнавали в нем бывшего и обслуживали с почтением, сервировали его стол особенно тщательно, а величественные седовласые метрдотели следили за тем, чтобы за его столиком или даже по соседству не оказались шумные представители нового хамовитого барства.
Отец его умер перед самой войной. Лека выехал в Одессу, еще не зная, что эта его поездка будет последней. Последний раз он вошел в прохладный, давно не убиравшийся подъезд своего родного дома на Греческой, поднялся по заплеванным новыми жильцами ступеням, посидел в комнате отца, – постепенно уплотняя профессорскую квартиру, отцу и сестре оставили две маленькие комнаты окнами на улицу, – потрогал знакомые с детства корешки книг – остатки огромной библиотеки, «съеденной» в голодные годы. На похороны он опоздал и долго стоял у свежей могилы на Немецком кладбище, рядом с могилами деда и матери, затем нанес визиты вежливости немногим сохранившимся знакомым и, взяв на память фотографию молодых своих родителей на фоне их маленькой красивой яхты «Алексей», построенной в год его рождения, уехал домой. За сестру он был спокоен – скромная должность машинистки вполне удовлетворяла ее не менее скромные жизненные притязания, а на черный день у нее оставались кое-какие крохи из маминых драгоценностей, не снесенные в торгсин. Личная жизнь у нее, как и у Леки, не состоялась. Но Лека был неизмеримо богаче ее – у него был Петербург.
…Сорок первый начался для него неудачно. Из пожарной части его отчислили по возрасту. Пришлось определяться кудато в сторожа, а потом началась война. Для сильной аскетической Лекиной натуры бремя голода оказалось менее тяжким, чем для большинства его сограждан. Движения его стали еще более экономными, остатки живого тепла хорошо хранил толстый, мохнатый, но почемуто очень легкий кожух, выданный ему при поступлении в сторожа. Он медленно брел с Васильевского острова на работу и медленно возвращался обратно, иногда позволяя себе небольшой крюк в сторону «своего» Петербурга.
Однажды весной, когда голод был особенно невыносим, возвращаясь утром с дежурства, он присел у колонн на стрелке, и ему показалось, что он больше не встанет. И вдруг он увидел свою Дворцовую набережную, Зимний, мосты, крепость, увидел синеву неба и еще более темную синь Невы, расцвеченную белыми барашками от свежего ветра с Ладоги, и быстро плывущие низкие, ослепительно белые облака…
И ему до боли захотелось отложить свое прощание с Петербургом. Он собрал последние силы, заставил себя встать и пошел домой. И, может быть, именно в это майское утро, когда Лека съел свой неприкосновенный запас из двух черных сухарей, его крестник – мой бедный отец – погибал далеко на юге, в харьковском «котле», вину за который так и не смогли поделить между собой дряхлые маршалы. «Котел», карта, номера армий и дивизий – то все для маршалов, а для моего отца и его товарищей – это серебряные берега и теплая спасительная мгла Донца, к которому они так и не смогли пробиться с высоких правобережных холмов.
О Русская земле! Уже за шеломянем еси!
Первые послевоенные годы для Леки тоже оказались трудными. Карточки отоваривались нерегулярно, а его мизерного заработка хватало на несколько дней. Вышел из строя весь его студенческий гардероб. Доходило до того, что он иной раз часами просиживал в столовых незаметно, как ему казалось, осваивая чужие объедки. В это время в жизни Леки появляются женщины. Недостаток мужчин, бесхитростное стремление «слабого» пола восстановить хотя бы подобие разрушенного гнезда и гордое, даже в нищете, достоинство Леки делали свое дело. Время от времени его пригревала на своей пожилой груди какаянибудь деятельница из сферы питания. Лека уступал, но предусмотрительно оставлял за собой комнатку в густонаселенном клоповнике на Васильевском острове. И всякий раз убеждался, что оставлял не зря: из него уже нельзя было вить гнезда. При первой же возможности он убегал в свой Петербург и, как выражались его ревнивые временные родственницы, «слонялся». Дамы не желали делить его старое сердце даже с каменным идолом.
* * *
В пятидесятом году один из чудом уцелевших и чудом процветавших знакомых из Лекиного одесского круга, прогуливаясь по Летнему саду, увидел и узнал его – Лека служил там дневным сторожем. Евгений Викторович – так звали этого бывшего южанина – был очарован Лекиной учтивостью и немеркнущей светскостью его манер. Расставшись с Лекой, он, по своей природной доброжелательности, не переставал думать о том, как хоть чем-нибудь ему помочь. Когда он во время другой своей прогулки встретил на Дворцовой набережной своего соседа Иосифа Абгаровича, его осенило: конечно, просторные залы Зимнего и есть то самое место, где Лека будет смотреться неотделимой частью утонченной дворцовой обстановки. Иосиф Абгарович не возражал, и восторженный отзыв Евгения Викторовича, которого он искренне любил, так его заинтересовал, что он пожелал лично познакомиться с Лекой.
За Лекой послали меня. Я нашел его на скамейке неподалеку от памятника Крылову. Он читал толстый однотомник Тургенева, добрым оком поглядывая на резвящихся детей. Я представился и объяснил цель моего прихода. Лека предупредил какуюто старушку, сидевшую с французской книжкой с другой стороны памятника, и легкой для своих шестидесяти лет походкой зашагал со мной по набережной в сторону Эрмитажа. Лека был осведомлен о судьбе своего крестника, и я приготовился выслушать очередную порцию запоздалых соболезнований и сожалений, но Лека сказал иначе:
– Прошлый раз с вашим отцом, когда он приехал сюда в сороковом, мы облазили весь Петербург. Я уже выдохся, а он затянул меня на Исакий!
Говоря это, Лека успевал любоваться вечерней Невой и следить за тем, как я воспринимаю его речь.
Была в Лекиных словах какаято незаконченность, исключающая такие понятия, как смерть, исчезновение без вести, и мне стало тепло на душе: прошлый раз сюда приезжал отец, значит, и в будущем приезд его возможен. Тем временем Лека рассказывал мне историю каждого дома на нашем пути, многое я уже знал, но в рассказе Леки была любовь, а любовь обновляет даже банальность.
Мы поднялись с Лекой на второй этаж, и я ввел его в просторную квартиру Евгения Викторовича. В гостиной, кроме хозяина и его жены, был Иосиф Абгарович и еще какой-то гость. Евгений Викторович на правах старика приветствовал и представил Леку, не вставая. Он ответил общим поклоном, мгновенно и безошибочно выбрал такой свободный стул, что никто из сидящих не оказался у него за спиной, и непринужденно включился в беседу. Речь зашла о болезни академика Крачковского, о нем самом. Лека рассказал пару забавных студенческих историй времен своей молодости, связанных с Игнатием Юлиановичем, несколько смягчив грустный мотив, а затем искусно перевел беседу на востоковедов из Новороссийского университета, бывавших у его отца. Лекины замечания и характеристики были метки и остроумны, а те, о ком он говорил, были известны и Евгению Викторовичу, начинавшему свою учебу в Одессе, и Иосифу Абгаровичу – как коллеги старшего поколения.
Началось чаепитие. И здесь Лека оказался на высоте, фарфоровая чашечка, казалось, сама по себе парила в воздухе, а он только легко и изящно придерживал и направлял ее. Ложечка в его чашке двигалась бесшумно. Трудно было вообще понять, когда он пил свой чай и ел печенье, – он говорил сам и так внимательно следил за беседой, что каждый говоривший чувствовал его взгляд. О деле не было сказано ни слова, но я понял, что все было решено, и Лека получит одно из кресел Зимнего дворца.
Год спустя я встретился с Евгением Викторовичем в Москве. На мой вопрос о Леке он махнул рукой. Оказалось, Лека не выдержал дворцовой духоты и застывшего открыточного вида за окном своего зала. Он принес извинения обоим своим «благодетелям» и вернулся в Летний сад.
* * *
Так случилось, что в следующий раз я попал в Летний сад через долгие двенадцать лет. На Металлическом заводе меня обещали принять после двух, и я не спеша побрел от «Ленинградской», где остановился, через Лекин Петербург. На Дворцовой набережной уже нельзя было встретить ни Евгения Викторовича, ни Иосифа Абгаровича – памятные доски с их именами расположились сейчас там по соседству. Временами мне казалось, что впереди маячит легкая и сухая фигура Леки: вот же он свернул к Зимней канавке! Но я знал, что это невозможно. Лека покинул свой Петербург, растворившись в нем навсегда.
В бессонницу, почувствовав, что время уже близко, он надел чистую белую рубашку, темный галстук и единственный костюм и, пошатываясь от слабости, прислушиваясь к последним ударам своего сердца, вышел на последнее свидание.
Он умер, присев на ступени, спускающиеся к темной невской воде, когда в низком и холодном петербургском солнце толькотолько засияла тяжелым блеском позолота шпилей. И последним, что он видел в синеве неба, были быстро плывущие к Финскому заливу белые облака.
Я зашел в Летний сад. Времени у меня было много, и я, сев на скамейку у памятника Крылову, достал из портфеля «Дым», купленный по дороге, и стал читать. Сорок лет мне понадобилось для того, чтобы понять, как это хорошо – сидеть в Летнем саду и читать Тургенева! А Леке, наверное, открылась эта истина в первые мгновения его пребывания в этом вечном городе.
Много веселых шуток и разного рода соболезнований пришлось мне в прежние годы услышать по поводу Леки, но где теперь пасут лунные стада те, кто смеялся над ним и жалел его? Только мне было дано узнать Лекину жизнь от начала и до конца и оглянуться на нее через многие годы, значит, мне и судить. И я подумал: так ли уж зря прожил свою жизнь крестный моего отца – кум-пожарник? Пусть он не растил сыновей и, может быть, не садил деревья, но он сеял другое. Он не суетился и не помышлял о карьере. До глубокой старости он где-то служил обществу и делал то, что кто-нибудь все-таки должен был делать. Он любил этот город, пережил с ним все самые трудные времена и ни разу не изменил своей любви. И я уверен, что не я один вспоминаю его добрым словом, ибо ничего злого за ним не числилось. И даже когда имя его будет забыто, он останется жить в тех, кто с его помощью увидел поиному каждый изгиб петербургских набережных, каждый петербургский дом; и в тех, кто подметил, перенял и передал в будущее хотя бы частицу простых, естественных и в то же время изысканных Лекиных манер, чтобы нам не утратить это бесценное человеческое достояние.
Часть вторая
В земле Нод, или Зрелые годы Ли Кранца
И сделал Господь Каину знамение,
чтобы никто, встретившись с ним, не убил его.
И пошел Каин от лица Господня и поселился
в земле Нод, на восток от Едема.
Бытие, 4: 15,16
Если Всевышний с тобой, чего ты боишься?
А если Он не с тобой, на что ты можешь надеяться?
Хасан ал-Басри
У ал-Бистами спросили:
«Происходит ли что-либо от усилий раба?»
«Нет, – ответил ал-Бистами, а потом добавил:
– Но без усилий тоже ничего не происходит».
Абу Йазид ал-Бистами
Книга первая
Суета сует
Мы не создали небеса и земли и то,
что между ними, иначе как по истине
и на определенный срок.
Коран, сура 46 «Пески», стих 2
Не сбился с Пути ваш товарищ, не заблудился.
И говорит он не по пристрастию.
Коран, сура 53 «Звезда», стихи 2,3.
I
И наступили в жизни Ли годы такие, о каких он мечтал. Он не мог сказать, что Хранители его Судьбы полностью покинули его на все это время. Просто они оставались где-то в Едеме и оттуда следили за тем, как он управляется со своими делами в своем добровольном от них удалении в земле Нод. И они, как всегда, держали наготове набор своих любимых «случайностей», чтобы сразу же вмешаться в его жизнь, если это потребуется.
Первые несколько лет после получения диплома инженера Ли бродил по разным проектным институтам в поисках своего амплуа и ничего подходящего не находил. У него даже возникла идея стать «свободным художником» – брать расчетные работы в разных фирмах и ни от кого не зависеть, создав что-то вроде описанного Бёллем «бюро статических расчетов», но время подобных начинаний тогда еще не пришло, и его идея в советскую инженерную действительность тех лет просто не вписывалась. Сначала он года три отходил в старинный проектный институт, имевший свои объекты по всей империи, и на некоторых из них, для которых Ли уже кое-что сделал, ему очень хотелось побывать и посмотреть, как то, что он изображал на бумаге, выглядит в действительности. Но этот институт был помешан на «качестве», и выезды для корректировки и сопровождения проектов в нем не предусматривались: считалось, что проект должен сам отвечать на все вопросы, а для предварительных осмотров и обследований здесь существовала специальная команда.
Однажды Ли все-таки удалось напроситься на обследование подкрановых путей в старом цехе старого завода «Гельферих Садэ» в Харькове. Когда он взбирался на тормозную площадку, его не предупредили, что кран под напряжением. Он схватился за троллеи. Ослабить удар тока, вероятно, было во власти Хранителей его Судьбы, и он лишь как-то на один миг ощутил весь внутренний объем своей черепной коробки, в которой метнулся твердый шар, глухо ударивший его в затылок, и оторвал руку от стального угольника. Первое, что он увидел, придя в себя, был пожилой сопровождающий, отставший на стремянке, хотя ему полагалось идти впереди. Сейчас он стоял на посадочной площадке с вытаращенными глазами. Преодолев охватившую его немоту, он прохрипел: «380 вольт! Ты мертв…». «Нет, я пока живой», – ответил Ли.
После этого случая он понял, что его нынешняя славная фирма ему не нужна, и стал подумывать о перемене места. Поскольку еще сильны были чары студенческих лет, Ли ничего не имел против дальнейшей учебы и попытался поступить в аспирантуру в один из центральных научно-исследовательских институтов. Поначалу все шло хорошо. За него пару добрых слов замолвил сам Иван Павлович Бардин, но когда он уже сдал экзамены, началась какая-то очередная хрущевско-социалистическая чехарда с «производственными стажами», и он «не прошел по конкурсу». Для ученой карьеры были отобраны один туповатый родственничек здешнего «большого ученого» и один полуграмотный мужичок из Сибири. Среди принимавших экзамены были, естественно, и неплохие специалисты. Один из них, ознакомившись с рукописным рефератом, представленным Ли, отчеркнул в нем два раздельчика и, будучи влиятельным членом редколлегии главного журнала империи по строительным расчетам, попросил Ли прислать ему лично две заметки с результатами анализа общепринятых расчетных методик, содержащегося в его реферате. Ли выполнил его просьбу, и через год получил два номера этого журнала с его заметками, представлявшими собой, как было сказано «от редакции», ценные и существенные поправки в теории расчета тонких плоских стальных обшивок и гибких нитей.
Лет через десять, когда Ли уже приобрел некоторую известность в инженерных кругах империи, он как-то встретился с этим крестным отцом его первых публикаций, и тот, полагая, что делает Ли приятное, сообщил ему, что его поправки были использованы в расчетах, связанных с «определенными программами», и даже в обиходе одного из «закрытых» конструкторских бюро именуются «поправками Кранца».
После этих последних в его жизни «серьезных» экзаменов Ли несколько десятилетий, для своей надобности, следил за технической периодикой, и оказалось, что никто из принятых тогда в аспирантуру ни единой статьи так и не опубликовал. Империя уже начинала создавать лженауку, практикуя отрицательный отбор по анкетным данным, а не по способностям. Именно тогда стали закладываться негласные «новые принципы» советской науки, когда на нескольких работоспособных младших научных сотрудниках, которым обещали «помочь» с диссертацией, с квартирой и другими разновидностями чечевичной похлебки, воздвигался тысячный, а иногда и многотысячный «коллектив» руководителей работ, начальников лабораторий и отделов, ученых советов, парткомов, месткомов, академиков и членов-корреспондентов, и вся эта орава была занята имитацией бурной научной деятельности, «международными научными связями» и прочей псевдонаучной мишурой. Позднее, когда климат в стране несколько переменился и из каждого «крупного» научного института ушло по нескольку малозаметных и часто очень молодых сотрудников, на которых прежде все держалось, оставшаяся бездарь, получавшая за них чины, звания и заграничные поездки, подняла страшный шум о «гибели науки и интеллекта нации», хотя все то, о чем они кричали, погибло еще в те времена, когда «партия и правительство» запустили в действие тот самый механизм отрицательного отбора, о котором речь шла выше. Впрочем, Ли еще предстояло подойти к этим «государственным» вопросам с совершенно иной и весьма неожиданной стороны.
II
А тогда Ли не был разочарован результатами своей попытки стать «советским ученым», понимая, что если бы это требовалось ему по предначертанному сценарию его жизни, то он был бы в этой аспирантуре, несмотря на все идиотские «указания» «партии и правительства». Он с удовольствием провел экзаменационный месяц в Москве. Смотрел премьеры новых фильмов, часто работал в «Ленинской» библиотеке, закупал всякие съедобные и несъедобные подарки для дома, для семьи, поскольку снабжение Москвы очень сильно отличалось от харьковского.
Москва покойных дядюшки Жени и тети Манечки продолжала «закрываться» для Ли. Ни одна из старых связей не восстановилась для него, и он, после нескольких попыток кому-то позвонить, бросил эти заботы и перестал жить прошлым. Оно, прошлое, тоже его не беспокоило. Лишь раз ворвалось оно в его московскую жизнь прочитанным им в вывешенной на уличном стенде «Литературной газете» извещением о смерти «переводчицы А. В. Кривцовой». После небольших раздумий, освещенных выплывшим из его памяти бледным ликом Александры Владимировны, он решил послать Ланну телеграмму с соболезнованиями. Но дня через два в новом номере появилось сообщение о смерти самого Евгения Львовича. Несколько лет спустя он узнал, что они по уговору ушли вместе из жизни и что уговор этот был вызван событиями, очень походившими на английский литературно-криминальный сюжет: был тут и наследник их большого по тем временам состояния, основанного на гонорарах за редактирование и переводы в тридцатитомнике Диккенса, был и традиционный «доктор», нечаянно сообщивший супругам об их смертельной и мучительной болезни, был и не подтвердившийся после их самоубийства «диагноз», окончательно подорвавший их душевные силы, истерзанные «литературно-критическими» доносами некоего Ивана Кашкина (здесь уже начинается советский криминальный сюжет), открытым текстом требовавшего в своих публикациях 1952 (!) года очистки русско-советского переводческого клана от известно какого мусора путем устранения (известно каким путем) Евгения Ланна. Все это выяснилось со временем и не сразу, а тогда он воспринял эту странную, на первый взгляд, ситуацию, как сигнал прекратить все попытки восстановить его исчезнувший мир, и еще, может быть, как последнюю весть из этого мира.
Вскоре после возвращения из Москвы Ли ушел из своего «старого» и «солидного» института, надоевшего ему постоянным культом этой старости и солидности, с длинными устными списками действительно выдающихся и известных инженеров, в разное время здесь работавших. Конечно из этого длинного списка Ли выделил не советских лауреатов, а одного из отцов теории железобетона профессора Якова Васильевича Столярова. Ли не знал его живым, но городские легенды сохранили несколько его ответов-экспромтов, очень нравившихся Ли. Один из них был связан с тем, что во время Гражданской войны профессор консультировал устройство укреплений у Перекопа белой армией и отсыпку валов. Секрета из этого он не делал, и когда один студент спросил его, почему же его укрепления не задержали победоносную красно-махновскую армию, Столяров гордо ответил, что «его укрепления не были взяты или разрушены, а их обошли, за что несут ответственность генералы, а не инженеры».
Потом другой студент из 46 года (когда в институты вернулись уцелевшие на фронте гордые и идейные, вступившие в «партию» перед боем молодые солдаты) с высоты своей идеологической чистоты поинтересовался, как может убежденный монархист профессор Столяров, о чем он собственноручно писал в анкетах, воспитывать красных инженеров, Яков Васильевич ответил ему: «Вам, молодой человек, еще предстоит на собственном опыте узнать, что убеждения – это функция времени!»
Свою личную научно-техническую библиотеку Столяров завещал этому проектному институту, где его чтили во все времена и независимо от убеждений. Книги Столярова были размещены на нескольких полках, и Ли, всегда пользовавшийся любовью библиотекарей и библиотекарш, имел к ним прямой доступ. Он с удовольствием листал эти книги, восстанавливая по сохранившимся закладкам и пометкам на полях ход мыслей Столярова, и сам пытался пройти этими путями, радуясь своему вневременному общению с незаурядным человеком.
Часы, проведенные у полок Столярова, Ли чаще всего вспоминал, думая о нескольких своих молодых годах, отданных этой фирме, признавая, впрочем, что от ее специалистов он тоже многому научился. Специалисты были в буквальном смысле «отборными», и история создания этого уникального инженерного коллектива была такова: во время войны проектная контора обслуживала военные заводы, и большая часть ее старых сотрудников «бронировалась» от призыва в армию. Так был сохранен костяк организации. А когда в 50–52 годах началось повсеместное вышвыривание на улицу специалистов-евреев, эту фирму возглавлял директор из «выдвиженцев» – «старый большевик» Яковлев. Специалистом он не был, но отзывам «своих» экспертов доверял и подбирал уволенных отовсюду евреев. Когда его вызывали в «партийные» и иные «органы» на проработку, он притворялся дурачком и наивно возражал: «Но это же советские люди, и они имеют право на труд, а если выяснится, что кто-то из них враг, то его арестуют и будут судить!»
К началу 53-го художества Яковлева уже стали угрожать тем, кто был обязан «принимать меры», и однажды в его кабинете появился невзрачный человечек и застыл на пороге. Яковлев сначала ждал, сидя, что тот подойдет к столу. А тот не двигался. Тогда Яковлев встал, но тот все равно продолжал торчать у двери. Немного постояв, Яковлев отодвинул свое кресло и стал обходить свой стол справа. Идя уже вдоль придвинутого торцом «совещательного» стола, Яковлев стал протягивать руку для рукопожатия и представляться: «Яковлев, директор…».