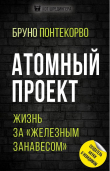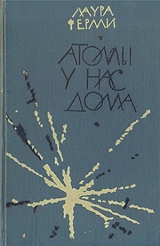
Текст книги "Атомы у нас дома"
Автор книги: Лаура Ферми
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
От автора
На спортивной площадке Чикагского университета стоит старое, полуразвалившееся здание, некое подобие средневекового замка с башнями и зубчатыми стенами. Это только фасад, за которым находятся западные трибуны давно заброшенного футбольного стадиона. Серые стены густо покрыты сажей, высокие вытяжные трубы торчат из окон и поднимаются над зубцами.
Автобусы с туристами останавливаются перед этим зданием. Гиды показывают туристам доску на наружной стене:
Здесь 2 декабря 1942 года человек впервые осуществил самоподдерживающуюся цепную реакцию и этим положил начало овладению освобожденной ядерной энергией
Это – метрическое свидетельство о рождении атомной эры.
Первый атомный котел был построен небольшой группой ученых на закрытом теннисном корте, под трибунами футбольного стадиона. Работу вели в строжайшем секрете и с лихорадочной поспешностью, потому что дело было неотложной важности. Вторая мировая война была в полном разгаре. Люди, работавшие на корте, знали, что их исследования позволят создать атомное оружие.
Ученые в первый раз привели в действие свой котел 2 декабря 1942 года. Это были первые люди, на глазах у которых материя, подчиняясь их воле, начала бесперебойно отдавать скрытую в ней энергию. Мой муж был их руководителем.
Книга эта – история нашей с ним жизни, той работы, которая позволила осуществить опыты на корте, событий, которые произошли до и после этого. История эта начинается в Италии, где я родилась и где прошли первые тридцать лет моей жизни.
Часть первая
Италия
1 глава
Первые встречи
Как-то раз в воскресенье весной 1924 года друзья пригласили меня поехать за город, и мы уговорились встретиться у трамвайной остановки на одной из римских улиц. Вместе с моими друзьями пришел коротконогий молодой человек в черном костюме и черной фетровой шляпе, немножко сутулый, с вытянутой вперед шеей. В Италии черный костюм носят в знак траура после смерти кого-нибудь из близких, и я потом узнала, что у этого молодого человека недавно умерла мать. Волосы у него тоже были черные и густые, лицо смуглое. Моим друзьям, когда они знакомили нас, видимо, хотелось произвести на меня впечатление:
– Это многообещающий физик, ему всего двадцать два года, а он уже преподает в университете!
Тут мне стало понятно, почему этот молодой человек так странно держится, но двадцать два года казались мне весьма почтенным возрастом – в такие годы пора уже чего-то достичь! Мне в то время было шестнадцать.
Он пожал мне руку и дружески оскалился. Никак иначе нельзя назвать это подобие улыбки: губы у него были необыкновенно тонкие, а между верхними зубами торчал, нелепо выдаваясь вперед, молочный зуб. Но глаза у него были веселые, живые, посаженные необыкновенно близко один к другому и, в противоположность темным волосам и смуглому цвету лица, серо-голубые.
– Нам хочется куда-нибудь на воздух, подальше от домов, – сказали мои друзья.
Окрестности Рима чудесны, и сообщение очень удобное. Можно поехать на электричке на запад до самого берега темно-синего Тирренского моря и его знойных песков. Можно двинуться на юг по старой железной дороге Вичинале в какой-нибудь из многочисленных городков, лепящихся на холмах вокруг Рима, или просто трамваем или автобусом добраться до конечной остановки, а там только пройти немножко – и вы очутитесь в укромной лощине, где в тени дубов и буков поет ручей. Наконец, можно пойти по старой римской дороге мимо залитых солнцем древних развалин и широко ветвистых пиний или подняться на вершину каменистого холма и укрыться в прохладную мирную сень старого монастыря, спрятавшегося за темными кипарисами.
В этот воскресный день мы поехали на трамвае и затем, пройдя немножко от конечной остановки, очутились на большой зеленой лужайке, недалеко от слияния рек Аниен и Тибра; это место теперь уже все сплошь застроено громадными жилыми домами. Здесь наш молодой физик с полной непринужденностью, как если бы ему так и полагалось, взял на себя руководство нашей компанией и зашагал впереди всех, вытянув шею, словно голова его стремилась достичь цели скорей, чем ноги.
– Мы будем играть в футбол! – заявил он.
Я никогда в жизни не играла в футбол и вовсе не была сорвиголовой. Но он сказал это так, что нечего было и думать вступать в спор или протестовать.
По-видимому, насчет футбола было оговорено заранее, так как сейчас же откуда-то появился футбольный мяч, и мы его вскоре надули, трудясь и пыхтя над этим по очереди. Затем мы разделились на две команды, и я попала в ту, в которой капитаном был этот молодой человек в черном костюме.
– А что же я должна делать? – растерянно спросила я.
– Вы будете вратарем, это проще всего. Вы только старайтесь поймать мяч, когда он полетит в ворота. Ну а если не поймаете, не огорчайтесь, мы выиграем за вас игру.
Молодой человек обращался со мной весьма покровительственно.
В нем чувствовалась какая-то спокойная уверенность, непосредственная и лишенная даже тени самомнения. Однако на этот раз ему не повезло: в самый разгар игры у него отлетела подметка и повисла на каблуке. Он на бегу споткнулся о нее и упал в траву. Мяч высоко взвился над упавшим и полетел к воротам. Теперь весь исход игры зависел от меня, но, пока я не столько с сочувствием, сколько с любопытством следила за злоключениями нашего капитана, мяч с силой ударился мне в грудь и едва не сбил меня с ног. Не знаю, как мне удалось сохранить равновесие и устоять на ногах. Мяч отлетел назад в поле, и победа осталась за нами.
Наш капитан вытащил из кармана громадный носовой платок, тщательно вытер лицо, по которому градом катился пот, а затем, усевшись на земле, стал подвязывать веревочкой свою подошву к башмаку.
Это был первый день, который я провела с Энрико Ферми, и первый и единственный случай, когда превосходство оказалось на моей стороне.
После того дня мы не виделись с Ферми больше двух лет, пока наконец снова не встретились летом 1926 года. Этой встречей мы «обязаны» Муссолини.
Мы всей семьей собрались поехать на лето в Шамони, курорт во Французских Альпах, на склоне Монблана. Мои родители решились на эту поездку за границу в связи с выгодным курсом лиры. Мы без всяких затруднений получили визы на выезд, так как у моего отца, офицера итальянского флота, были кой-какие полезные связи. Мы списались с гостиницей, чтобы за нами оставили комнаты, и уже собирались укладываться. И вдруг отец приходит домой с известием, что на итальянской бирже прекращена котировка всех иностранных валют и что по новым распоряжениям запрещено вывозить лиры во Францию. Дуче потихоньку подготовлял свою финансовую реформу, «битву за лиру», которая официально была провозглашена спустя месяц, в августе 1926 года, когда он выступил со своей знаменитой речью в Пезаро. Этот внезапный запрет вывозить за границу деньги без существенной надобности был первым шагом к установлению строгого контроля, с помощью которого искусственно поддерживался высокий курс лиры в годы фашистского режима, и наведению экономии, требовавшей все большей и большей регулировки средств обращения и все возрастающих ограничений.
Когда отец принес домой новость об этом первом зажиме, он ничего не мог объяснить нам и мы не понимали, по каким причинам Муссолини не позволяет нам провести лето в Шамони. Но отец не допускал никакой критики, он был приучен во флоте считать власть необходимой для поддержания порядка в человеческом обществе и подчиняться ей беспрекословно, как того требует дисциплина. Беспокойное время после первой мировой войны доставило ему немало огорчений – противоправительственные демонстрации, забастовки, захват фабрик, угроза коммунизма… Все это было совсем не в духе тех правил, в которых он вырос и которыми руководствовался в жизни. Он считал Муссолини сильным вождем, который нужен Италии для восстановления порядка и добрых нравов. Он не сомневался в том, что, как только дуче достигнет этого, он постепенно установит более демократическую форму правления.
Когда мы, дети, начали ныть, что все планы рушатся, отец тотчас же приказал нам прекратить всякие жалобы.
– Дуче знает, что делает. И не нам его судить. В Италии тысячи всяких курортов ничуть не хуже Шамони, а то и получше. Поедем куда-нибудь в другое место, вот и все!
В итальянских семьях того времени все дела решались родителями. Девушка, которой только что минуло девятнадцать лет, вряд ли может надеяться, что с ее мнением будут считаться, и я очень робко и смиренно предложила:
– А почему бы нам не поехать в Валь-Гардена? Вот Кастельнуово всей семьей туда едут…
У профессора математики Гвидо Кастельнуово была большая семья, и я дружила с его детьми, с теми самыми, в компании с которыми я два года назад играла в футбол. Можно было с уверенностью сказать, что, куда бы ни, поехали Кастельнуово, за ними следом потянутся и другие семьи.
Мои родители посмотрели друг на друга и улыбнулись. Им, должно быть, сразу представилась эта живописная долина в Доломитовых Альпах, которая простирается вверх до скалистых отрогов Челла, расступаясь то тут, то там и образуя солнечную ложбину, где ютится маленькая деревенька с красными крышами и словно повисшим в воздухе церковным шпилем.
– А помнишь, как мы чудесно провели лето тогда в Челва? – произнес отец тем мечтательно-грустным тоном, какой появляется у человека, когда он вспоминает что-то давнишнее и милое. И я сразу почувствовала, что моя идея пришлась им по вкусу.
– Что ж, можно опять туда поехать, – сказала мать, – или, пожалуй, еще лучше, поедем в Санта Кристина. Места там еще красивее и гостиницу можно получше выбрать.
В середине июля мы приехали в Санта Кристина. Кастельнуово жили в деревне чуть пониже: я пошла навестить их.
Джина, почти моя ровесница, предвкушала массу удовольствий от этого лета.
– Здесь будет прелесть как весело! Сколько народу съедется! Даже Ферми прислал маме письмо и просил подыскать ему комнату.
– Ферми? – переспросила я. – Ферми? Что-то как будто знакомое…
– Ну, конечно, ты знаешь его. Выдающийся молодой физик. Отец говорит, надежда итальянской науки.
– Да, да! Вспомнила! Чудной такой! Он меня заставил в футбол играть. Я и забыла о нем. А где он пропадал столько времени?
– Во Флоренции. Преподавал в университете. А осенью приедет в Рим.
– В Рим?.. А что он будет читать? – я тогда была студенткой Римского университета, и мне полагалось слушать курс физики и математики.
– Факультет специально дли Ферми открыл новую кафедру – теоретической физики. Я думаю, все это дело рук директора физической лаборатории Корбино, он очень старался перетащить Ферми в Рим. Корбино о нем необыкновенно высокого мнения. Он говорит, что таких людей, как Ферми, рождается один-два о целое столетие.
– Ну, уж это он преувеличивает! – перебила я. Молодой физик не произвел на меня большого впечатления. Среди моих школьных товарищей были юноши, на мои взгляд, гораздо более блестящие и многообещающие.
– Как бы там ни было, я теоретической физикой заниматься не собираюсь, так что Ферми не будет моим профессором. А товарищ он хороший?
– Удивительный! Папа и другие математики всегда стараются вовлечь его во всякие ученые разговоры, но он при первом удобном случае бежит к нам. Ужасно любит всякие игры и прогулки и лучше всех придумывает всякие экскурсии. А кроме того, мама прониклась к нему полным доверием, и какой бы ни затевался поход, если он участвует – меня пускают.
Вскоре я сама убедилась, что Ферми – любитель всяческих походов.
– Нам надо поскорее войти в форму, – заявил он, как только появился в Валь-Гардена. – Завтра мы отправимся в небольшой поход, а послезавтра – подальше. А там уж и в горы. – В коротких штанах и походной тирольской куртке он выглядел гораздо лучше и не казался таким чудным, как в тот раз, когда я увидела его впервые.
– Куда же мы пойдем сегодня? – спросила Корнелия; это была здоровая, крепкая женщина, невестка одного из математиков, друзей Кастельнуово, профессора Леви-Чивитта. Она была воплощенная энергия, и ей не терпелось поскорее двинуться в поход.
Ферми уже уткнулся в карту.
– Мы можем подняться по Валле Лунга до самой вершины.
– А это далеко? – спросила Джина.
Ферми положил на карту свой толстый большой палец и несколько раз передвинул его, измеряя расстояние от начала до конца долины. Большой палец всегда служил ему масштабом. Поднимая его к левому глазу и зажмуривая правый, он измерял длину горной цепи, высоту дерева и даже скорость полета птицы. Он забормотал себе под нос, что-то высчитывая, а затем ответил Джине:
– Не очень. Миль шесть, не больше, в один конец.
– Шесть миль! А дети дойдут так далеко? Они ведь тоже с нами собираются, – возразила Корнелия. Нашу компанию составляли все Кастельнуово, их кузены, кузины, друзья, включая и подростков всех возрастов: дружественные семейные связи были у них крепче школьных, и потому никаких разделений на старших и младших, как это принято в Соединенных Штатах, у нас не было.
Ферми обернулся к Корнелии и ответил с шутливой важностью:
– Наше юное поколение должно быть сильным, выносливым, а не неженками. Дети могут пройти столько и даже больше. Нечего их приучать к лени!
И больше уже никто не возражал. Так оно всегда выходило: Ферми предлагал, и все слушались, охотно отдавая себя в его распоряжение.
Ему еще не было двадцати пяти лет, но в нем уже чувствовалась серьезность настоящего ученого и уверенность в себе, приобретенная преподавательским опытом и умением заставить себя слушать. Он сразу завоевал доверие моей матери, и мне, так же как и Джине, разрешалось участвовать во всех экскурсиях, которые он затевал. Мои родители не сомневались в его благоразумии и не опасались ни долгих походов, ни трудностей подъема. Они настаивали только на том, чтобы мы приличия ради брали с собой моего младшего брата или одну из младших сестер.
Мы выходили на рассвете с рюкзаками за спиной. У Ферми всегда был самый тяжелый, набитый до отказа рюкзак; он засовывал в него всякую снедь и свитеры ребят, которых мы брали с собой, а если во время крутого подъема какая-нибудь девушка уставала, то и ее ношу.
Он хвастался размерами своего рюкзака, который на крутых подъемах пригибал к земле его широкие плечи; но тут же, забывая о том, какая громада торчит у него за спиной, он задевал ею кого-нибудь то справа, то слева, стараясь обогнать всех, кто шел впереди. Он часто бросался обгонять впереди идущих; едва только тропинка становилась покруче, он считал своим долгом вырваться вперед и взять на себя роль проводника.
– Идите по моим следам, чтобы не оступиться!
И многие замедляли шаг.
Примерно каждые полчаса Ферми останавливался, садился на камень и объявлял:
– Передышка три минуты!
А к тому времени, как подтягивались отставшие, Ферми уж опять был на ногах.
– Все отдохнули? Пошли!
И никто не пытался спорить. Но как-то раз Корнелия – она была старше нас и не так стеснялась – повернулась к нему и крикнула:
– А вы что же, никогда не задыхаетесь? У вас не бывает такого чувства, что сердце, кажется, вот-вот выскочит?
– Нет, – ответил Ферми с мягкой улыбкой, – у меня сердце, должно быть, сделано на заказ, оно намного выносливее, чем у других.
А когда к концу подъема кто-нибудь все же оказывался впереди, Ферми опрометью бросался обгонять, потому что как же можно было позволить, чтобы кто-нибудь, кроме него, первым взошел на вершину? Он прыгал на своих коротких ногах с камня на камень, размахивая рюкзаком из стороны в сторону, и, оттеснив всех, всегда оказывался первым.
Все мы испытывали чувство радости, когда наконец, преодолев подъем, выходили на вершину. Тут мы обычно устраивали привал. Когда смотришь сверху на Доломитовые Альпы, открывается поистине волшебное зрелище: перед глазами встают фантастические очертания башен, зубчатых стен; вдали сверкают ледники, и тут же, совсем рядом, вечные снега. Чувство экстаза, которое охватывает вас на вершине, нельзя сравнить ни с чем – это какое-то совершенно особое, неповторимое чувство. В первое мгновение мы все стояли молча в благоговейном восторге, наслаждаясь чувством глубокого и полного единения с природой и словно незаметно проникаясь ее божественной силой. А потом наступало оживление. Мы весело болтали, обменивались впечатлениями, пели хором звучные песни горцев и с сожалением спохватывались, что пора спускаться обратно.
Завтракать мы располагались с удобством, выбрав какую-нибудь мягкую лужайку, в тени деревьев, у ручья с кристально прозрачной водой. Потом укладывались на траве и дремали. Внезапно раздавался голое Ферми:
– Смотрите-ка, видите, вон там птица!
– Где птица?
– На верхней ветке вон того большого дерева на горе. Вам отсюда, наверно, кажется, что это лист…
Но никто не мог разглядеть эту птицу.
– У меня, наверно, глаза сделаны на заказ. Они видят много дальше, чем у других… – говорил Ферми извиняющимся тоном, словно оправдываясь, что у него не такие обыкновенные, стандартные глаза, как у всех.
Да, пожалуй, и все его тело было сделано на заказ и куда лучше, чем у других: ноги его не так скоро уставали, мускулы были эластичнее, легкие вместительнее, нервная система крепче, реакции точнее и быстрее.
– А мозг ваш? – спросила его как-то в шутку Джина. – Он тоже на заказ сделан?
Но на это Ферми ничего не нашелся ответить. Он не задумывался над своими умственными способностями: это был дар природы, которым он не так свободно распоряжался, и гордился им куда меньше, чем своими физическими качествами. Но о разуме вообще он много думал.
И хотя он часто говорил, что человеческий ум – это нечто неопределенное, складывающееся из многих трудно поддающихся учету факторов, одним из его любимых занятий этим летом было классифицировать людей по их умственным способностям. У Ферми было пристрастие к таким классификациям: он при мне «распределял» людей по росту, по внешности, по состоянию и даже по чувственной притягательности. Но этим летом он классифицировал всех только по умственным способностям.
– Людей можно разделить на четыре категории, – говорил Ферми. – Первая – это люди с умственными способностями ниже средних, ко второй относятся все так называемые заурядные люди, они нам кажутся глуповатыми, потому что мы – отборные и у нас более высокие мерки. Третья категория – это люди умные, а четвертая – это люди с исключительными умственными способностями.
Это был такой удобный случай подразнить Ферми, что я никак не могла его упустить.
– Иначе говоря, вы считаете, – резюмировала я с самым серьезным видом, – что к четвертой категории можно отнести только одно-единственное лицо – Энрико Ферми?
– Это нехорошо с нашей стороны, синьорина Капон! Вы прекрасно знаете, что я многих отношу к четвертой категории, – возразил обиженный Ферми, а затем, подумав, прибавил: – Я не могу себя поместить в третью категорию, это было бы несправедливо.
Но я не уступала и продолжала дразнить его. Наконец он с возмущением сказал:
– Четвертая категория вовсе не представляет собой чего-то совершенно исключительного, как вы это стараетесь изобразить. И вы тоже входите в нее.
Может быть, тогда он говорил искренне. Но потом он наверняка перевел меня в третью категорию. Как бы там ни было, но я любила, чтобы последнее слово в споре оставалось за мной.
– Ну, если уж я принадлежу к четвертой категории, – решительно заключила я, – то, значит, должна быть еще пятая, к которой принадлежите вы, и только вы.
И все, кроме Ферми, согласились, что так оно и есть.
2 глава
До того, как мы встретились
На следующую осень Ферми окончательно обосновался в Риме. Он поселился с отцом и сестрой Марией в маленьком домике в Читта Джардино.
Читта Джардино – или «Город-сад» – был новый квартал, выстроенный на правительственную субсидию для чиновников среднего класса. Он вырос между 1920 и 1925 годами в нескольких милях к северо-востоку от Рима. В то время там были только маленькие домики на одну семью и при каждом доме – сад. Плата за аренду была невысокая, а через двадцать пять лет дом переходил в собственность арендатора.
Северная часть Читта Джардино была отведена для железнодорожных служащих. Отец Ферми, служивший на железной дороге, получил здесь домик и переехал в него осенью 1925 года с дочерью. Родители Ферми долго мечтали о своем новом доме, но синьоре Ферми так и не пришлось увидеть его законченным: она скончалась весной 1924 года, – да и сам синьор Ферми недолго наслаждался своим домиком: он умер в 1927 году.
Я переступила порог этого дома в начале 1928 года, когда мы уже обручились с Энрико, а до тех пор я видела его только снаружи. Как-то раз, снедаемая любопытством, в причинах которого я сама не смела себе признаться, я пошла в Читта Джардино посмотреть, где живет Ферми, и спустилась по Виа[5]5
Via (ит.) – улица. – Прим. верст.
[Закрыть] Монжиневра. Дом Ферми, под номером 12, стоял у подножия холма, над самой ложбиной, по которой бежит река Аниен, перед тем как слиться с Тибром. С улицы видна была низкая кирпичная стена с оградой из железных прутьев. Недавно посаженный плющ цеплялся за прутья. Дом стоял в нескольких футах от стены, а сад был разбит позади дома, в глубине, на крутом склоне. Домик был совсем скромный, и только затейливая башенка красовалась над его плоской крышей.
Внутри он был невелик и не отличался роскошью, но казался очень уютным. В ванной всегда была горячая кода, и, конечно, здесь было несравненно лучше, чем в той квартире на Виа Принчипе Умберто № 133, около вокзала, где с 1908 года жили Ферми.
Все дома в том квартале около вокзала были построены наспех, когда Рим в 1870 году был присоединен к Итальянскому королевству и стал столицей. В связи с громадным наплывом служащих, понаехавших с юга, из Пьемонте, вместе с правительством, в Риме возник острый жилищный кризис, которым немедленно воспользовались спекулянты. При всех его претензиях на роскошь – две статуи в вестибюле у подножия двух широких лестниц – в доме № 133 на Виа Принчипе Умберто не было никаких удобств. В доме не было отопления, и трое детей Ферми, Мария, Джулио и Энрико, зимой нередко ходили с распухшими от холода руками. Энрико любил рассказывать «изнеженному юному поколению», как он готовил уроки, сидя на собственных руках, чтобы отогреть их, и переворачивал страницы книги кончиком языка, лишь бы не вытаскивать рук из теплого местечка.
В квартире не было ванной комнаты, а имелась лишь уборная, и семья для утреннего умывания пользовалась двумя цинковыми ваннами. Одна, поменьше, предназначалась для детей, а другая, на роликах, – для взрослых; ее каждый день вкатывали в спальню родителей. С вечера обе ванны наполняли холодной водой, и к утру она достигала комнатной температуры, которая зимой никогда не превышала 10°. Но дети воспитывались в строгой дисциплине, ни внушали, что простым людям нежиться не пристало, и каждое утро все трое храбро окунались в холодную воду.
Семья была родом из богатого сельского края под Пьяченцей, в долине реки По, самой плодородной части Италии. Дед Энрико, Стефано, первый из Ферми оставил землепашество и таким образом поднял свою семью на новую ступень общественной лестницы. Еще юношей Стефано поступил на службу к герцогу Пармскому – Италия тогда еще делилась на крохотные государства, одним из которых и была Парма, – и достиг должности писца. Бронзовые пуговицы его мундира с именем герцога и его гербом по сю пору хранятся в семье и как реликвия передаются по наследству.
Коренастый и коротконогий, как и все потомки Ферми, Стефано отличался на редкость крепким телосложением и железной волей, которую в нем вряд ли можно было предположить, глядя в его кроткие голубые глаза. Человек положительный, с практическим складом ума, он был чужд всякого честолюбия и с непреклонным упорством стремился лишь к одному – упрочить свое материальное положение. Люди такого склада неизбежно отличаются сухостью, и Стефано не склонен был проявлять какие бы то ни было нежные чувства к своим многочисленным отпрыскам, которых он с раннего возраста предоставил самим себе.
Энрико смутно помнил сгорбленного старика. К старости он изменился – подобрел, стал спокойней и благожелательней и сетовал разве только на то, что внуки его пьют вино не с таким удовольствием, с каким пивали в его время.
Он умер в 1905 году и, несмотря на всю спою бережливость, оставил после себя очень скромное наследство: домик и небольшой участок земли близ города Каорсо, где он постоянно жил. Не такое уж большое достояние, но вместе с ним дед передал детям и свою закваску, и это оказалось весьма ценным благом для семьи Ферми. Второй сын старика Стефано, Альберто, отец Энрико, был вынужден оставить школу раньше, чем следовало бы при его остром и жадном до знаний уме. Но отец считал, что ему пора уже зарабатывать себе на хлеб и самому заботиться о себе. Законченного образования у него не было, и он поступил на службу в управление железных дорог.
Железные дороги в Италии строились крайне медленно, но как раз в это время на железнодорожное строительство было обращено усиленное внимание и способным людям открылись широкие возможности. Альберто проявил на работе все качества, унаследованные им от отца: упорство, волю и твердую решимость добиться известного благосостояния. Он скоро завоевал доверие и уважение своих сослуживцев и, постепенно поднимаясь по служебной лестнице, достиг под конец должности начальника отдела, на которую обычно назначали людей с университетским образованием. С этой должности он потом и вышел в отставку.
По условиям работы ему в течение многих лет приходилось разъезжать по всей Италии, пока он наконец не осел в Риме. Там он и женился сорока одного года на Иде Де Гаттис, учительнице начальной школы; она была моложе его на четырнадцать лет. У них родилось трое детей: Мария – в 1899 году, Джулио – в 1900 и Энрико 29 сентября 1901 года. Все они появились на свет так скоро один за другим, что синьора Ферми оказалась не в состоянии кормить своих сыновей, и их отправили в деревню к кормилице. Энрико был слабого здоровья, и его взяли домой в семью, когда ему было уже два с половиной года; его нередко дразнили этим, когда он в чем-нибудь оказывался глупее других.
Сестра его Мария – хотя она в то время и сама была еще совсем крошка – хорошо помнит, как в дом вернулся маленький братец. Он был маленький, смуглый и очень хрупкий на вид. Трое ребят в течение нескольких минут стояли, молча разглядывая друг друга, а потом вдруг маленький Энрико, быть может почувствовав, что ему недостает грубоватой нежности кормилицы, заплакал. Мать стала строго выговаривать ему и велела сейчас же замолчать: в этом доме не терпели капризных мальчиков. Энрико сразу послушался, перестал плакать и больше уже не капризничал. Он быстро усвоил, что сопротивляться старшим бесполезно. Так он и придерживался этого даже подростком! Если им угодно, чтобы он вел себя так, – что же, прекрасно! Он так и будет делать; проще ладить с ними, чем идти против них. Когда заранее знаешь, что по-твоему не выйдет, нечего и пытаться.
Скоро мальчик не только привык, но и сильно привязался к своей семье. Синьора Ферми относилась к своему мужу и детям с заботливой и разумной преданностью, что способствовало тесной сплоченности семьи. Эта преданность сочеталась у нее с преувеличенным чувством долга и непреклонной прямотой, которую она передала детям, хотя они иной раз и возмущались ею. Ее привязанность отличалась некоторой суровостью, и это выражалось в том, что она требовала, чтобы ей за ее отношение платили тем же. И детям приходилось прилагать немало стараний, чтобы придерживаться тех высоконравственных и разумных правил, которые она раз навсегда установила для них и требовала, чтобы они соблюдались.
Зимой 1915 года семью Ферми постигло тяжкое несчастье, которое надолго нарушило душевное равновесие в доме. У Джулио сделался нарыв в горле. Дело дошло до того, что мальчику стало трудно дышать, и врач посоветовал обратиться к помощи хирурга. Операция считалась пустячной, и родителям обещали отпустить мальчика домой тотчас же после операции. В назначенный день утром синьора Ферми с Марией привели его в больницу и сели в приемной, спокойно дожидаясь конца операции. Внезапно поднялась ужасная суматоха. В приемную выбежали сиделки и суетливо начали уговаривать их: «Да вы не волнуйтесь! Не волнуйтесь, не надо волноваться…» При этом сами они были явно взволнованы. Потом вышел хирург и тоже начал успокаивать их. Он не знает, что и сказать… сам не понимает, как это случилось. Мальчик умер прежде, чем его успели анестезировать. Что могло сравниться с этим ужасным ударом! Ударом, которого никто в семье не ожидал!
Всем, разумеется, казалось, что это бедствие всего сильнее отразилось на матери. Джулио был любимцем синьоры Ферми. Все трое были способные дети, родители не разбирались в их умственных способностях, а судили о них по отметкам. Между Джулио и Энрико был только год разницы, и они с раннего детства росли и играли вместе; а потом – в школе и в свободное от занятий время – они всегда были неразлучны; словом, это была такая дружба, что трудно было сказать, кто из них больше давал другому. Когда они чуть-чуть подросли, на них можно было диву даться: это были, что называется, вундеркинды. Они своими руками мастерили электромоторы по собственным чертежам, и моторы у них работали. Они чертили проекты аэропланов – все дети в те дни были без ума от этого нового изобретения! И сведущие люди говорили, что трудно поверить, как могут ребята додуматься и самостоятельно выполнить такой проект. Оба были одинаково изобретательны, и нельзя было сказать, кто из них способнее.
Но Энрико не обладал привлекательностью, которая так подкупает в детях. Он был слишком мал для своих лет, неказист, а к тому же еще порядочный неряха, и когда мать брала его с собой куда-нибудь, ей нередко приходилось заставлять его умываться около уличного фонтана. Волосы у него вечно были растрепаны. Со взрослыми он всегда ужасно стеснялся: когда я познакомилась с ним – ему было уже двадцать два года, – мы, молодежь, считали его очень бойким на язык, а старшие удивлялись его замкнутости. Он был лишен всякого воображения – так по крайней мере всем казалось – и чуть что – выходил из себя. В школе он был на плохом счету по сочинению. Все те характерные особенности, которые впоследствии ценились, как редкие достоинства его работ: прямой подход к делу без всякого краснобайства, простой язык, никаких лишних слов, – все это в школе рассматривалось как недостаточная живость ума.
Однажды, когда Энрико был во втором классе, им задали написать сочинение на тему о том, что можно сделать из железа. Мальчик по дороге в школу каждый день ходил мимо мастерской с вывеской «Здесь делают железные кровати», поэтому он и ограничился в своем «сочинении» одной фразой: «Из железа делают некоторые кровати». Он выразился совершенно ясно и точно, а слово «некоторые» он, разумеется, поставил для того, чтобы не подумали, будто он не знает, что не все кровати делаются из железа! Однако учительница осталась недовольна этим сочинением, недовольна была и синьора Ферми, у которой после этого зародилось сомнение, есть ли у ее сына способности.