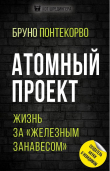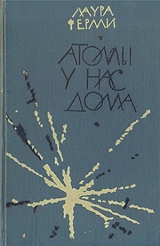
Текст книги "Атомы у нас дома"
Автор книги: Лаура Ферми
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
Что касается меня, я большей частью сидела дома, поучения Андерсона доходили до меня из вторых рук, и я очень медленно осваивала английский язык.
Как-то раз Нелла сумрачно заявила мне очень строгим голосом:
– Мама! Джулио говорит скверные слова. Я слышала, как он обозвал своего товарища «stinky». – Так как я не понимала значения этого слова, я ничего не могла ответить Нелле. Когда Энрико вернулся домой, я спросила у него, что значит это слово.
– Насколько мне известно, – сказал Энрико, – это означает «зловонный». Спрошу завтра утром Андерсона.
И мы получили от Герберта первый вполне авторитетным урок сквернословия. «Lousy» (вшивый) – это все-таки лучше, чем «stinky» (вонючий), пояснил Андерсон. Восклицание «gosh»[19]19
Искаженное god (бог), восклицание, выражающее удивление, недоверие, вроде: боже ты мой! – Прим. перев.
[Закрыть]: в детских устах звучит очень забавно и мило, а вот «golly» – это уже нехорошо, а какую-нибудь божбу покрепче уже надо пресекать. «Jerk» и «squirt» – это школьные клички для нелюбимых учителей.
Впрочем, Нелла и Джулио заставляли меня задумываться не только над языковыми особенностями, но и над философией общественных отношений. Я начала понимать, что такое «демократия» и ее учреждения, когда моя девятилетняя Нелла потребовала себе «больше свободы» и дала мне понять, что я посягаю на ее права, настаивая, чтобы она после школы не убегала играть, а возвращалась домой и всегда говорила мне, куда идет, чтобы я в любой момент могла ее найти.
А когда и четырехлетний Джулио, которому я велела пойти вымыть руки, заявил мне:
– Ты не имеешь права меня заставлять! Здесь свободная страна, – то тут и мы кое-чему научились. Энрико долго прибегал к выражению «здесь свободная страна», которое он перенял у Джулио, хотя сам Джулио стал большой и уже не говорит этого.
Слишком долго было бы перечислять все, чему мы научились у наших детей, помимо дурных и хороших выражений, духа независимости и твердой веры в естественные права человека. Глядя на мир их детскими глазами, не затуманенными видением прошлого со всеми пережитками Старого света, мы получили яркое, хоть и не совсем самостоятельное представление об американских обычаях и понятиях.
Однако процесс американизации заключается не только в том, чтобы изучать язык и обычаи и поступать во всем так, как поступают американцы. Для этого требуется не только понимать все современные установления и законы, различные системы школ, общественные и политические течения; нужно еще впитать в себя прошлое, из которого все это выросло; обрести способность вызывать в своем воображении крытые фургоны, оставляющие за собой облака пыли в золотых степях Запада, слышать топот подков и скрип колес на горных перевалах; переживать лихорадку золотоискателя в шуми-городке в Колорадо и догадываться, какие мысли проносятся у него в голове, когда – пятьдесят лет спустя – сухощавый, но все еще прямой старик, уже не золотоискатель, а философ, он видит в дыме своей трубки призрак забытого города… Проникнуться гордостью Новой Англии и переживать бесконечные страдания Юга.
И нужно заменить одних героев другими.
Представьте себе, что вы приехали жить в чужую страну и эта страна – Италия. И представьте себе, что вы разговариваете с образованным итальянцем и он говорит вам:
– Шекспир!.. А, да! Это очень недурно. У нас есть итальянские переводы Шекспира, их читают. Я-то сам знаю английский язык, и я читал эти рассказы Лэмба, переделанные из шекспировских пьес: Сон в летнюю ночь, Гамлета – про этого невротика, который никак не мог решить, а потом еще Ромео и Джульетту. Странное у вас, англосаксов, представление об итальянцах! Но в общем, как я уже сказал, Шекспир – это очень неплохо… Но только все эти исторические фигуры, которые он всюду вводит!.. И не главные, конечно… Извольте рыться в учебниках истории, чтобы разобраться во всем этом.
Ну а возьмите вы Данте! Вот это поистине великий поэт! Мировой славы! Какое сверхчеловеческое представление о Вселенной! Какие видения потустороннего мира, рая и ада!.. Ведь вот уже больше шести веков церковь следует по стопам Данте. А история у него! Ведь он просто воскрешает ее. Читайте Данте – и вы будете знать историю…
Вы должны сделать выбор ваших героев, ибо нельзя поклоняться сразу и Шекспиру, и Данте! Если вы хотите жить в Италии и быть таким, как все, – забудьте о Шекспире! Зажгите костер и предайте огню Шекспира вместе со всеми американскими героями – Вашингтоном, Линкольном, Лонгфелло, Эмерсоном, Беллом и братьями Райт. В тени вишневого дерева, которое срубил Вашингтон, будет покоиться итальянский воин – и пусть это будет белокурый воин в красной рубашке. Тот самый воин, который с горсткой пылких храбрецов в красных рубахах скакал на белом коне, скакал и сражался на всем Итальянском полуострове, дабы завоевать его для короля; имя этого воина – Гарибальди. Пусть Мадзини и Кавур заменят Джефферсона и Адамса, а Кардуччи и Манцони – Лонгфелло и Эмерсона. И знайте, что разбудить народ может не только отчаянная ночная скачка Поля Ривера[20]20
Поль Ривер (1735–1818) – американский патриот, который во время Войны за независимость прискакал ночью из Чарльстона в Ленсингтон, чтобы предупредить о приближении английских войск. – Прим. ред.
[Закрыть] но и камень, брошенный мальчиком по имени Балила. Забудьте, что телефон изобрел Белл, признайте изобретателем его Меуччи; и запомните твердо, что первая идея аэроплана принадлежит Леонардо да Винчи. Если вам удастся произвести все эти перестановки в своем мозгу – значит, вы прониклись итальянским духом. А впрочем, может быть, и нет, и, возможно, вам этого никогда не достичь.
Когда я еду по необъятным равнинам Среднего Запада, которые вспаханы и сжаты, по-видимому, гномами темной ночью, потому что днем здесь нет ни души, я все время чувствую, как меня гнетет эта пустота. Мне недостает раскинувшихся по склонам пашен, где копошатся кучки людей, отвоевывающих землю у каменных уступов гор; множества глаз, которые каждый турист в Италии, как говорил мне мой приятель американец, чувствует у себя за спиной, где бы он ни расположился перекусить, будь то хоть в самом глухом уединенном месте; мне недостает людей, которые вдруг появляются неизвестно откуда, застенчивых крестьянских ребятишек, которые стоят поодаль, заложив руки за спину; темноволосых девчонок, жующих яблоки и с любопытством поглядывающих на вас огненными глазищами; женщин, которые, оторвавшись от своих домашних дел, поспешно вытирают руки о вылинявший передник и сбегают с крыльца, укрывшегося под сенью старых деревьев; мужчин, которые в этот знойный полуденный час прилегли вздремнуть, растянувшись на горячей земле, а теперь поднялись и тоже вместе со всеми выходят поглазеть на проезжих.
Но если мне и сейчас недостает всего этого, если меня до сих пор все еще приводят в изумление необозримые американские просторы, и новые, невиданные красоты, и упоминание какого-нибудь великого имени, которого я никогда в жизни не слышала, и если до меня до сих пор не дошло, что смешного в карикатурах Чарльза Адамса, могу ли я действительно считать себя американкой?
16 глава
Некоторые возможности будущею становятся обозримыми
16 января 1939 года, спустя две недели после нашего приезда, мы с Энрико пошли днем на пристань к причалу шведских судов. Пассажирский пароход «Дротинхольм» уже приближался к берегу, и, прежде чем он поравнялся с пристанью, мы узнали в кучке людей, столпившихся на палубе, человека, которого пришли встречать, – профессора Нильса Бора. Он стоял у самых поручней, наклонившись вперед, и пристально вглядывался в толпу, собравшуюся на пристани.
Мы виделись с профессором Бором меньше месяца назад в Копенгагене, где останавливались проездом на нашем пути из Стокгольма в Соединенные Штаты. Мы пользовались его гостеприимством и большую часть времени прожили у него в доме – прекрасной вилле на окраине города, которую какой-то богатый коммерсант, владелец пивоваренного завода, отдал в пожизненное пользование самому выдающемуся из своих соотечественников.
За это недолгое время профессор Бор заметно постарел. Уже несколько месяцев его чрезвычайно угнетала политическая обстановка в Европе. Он ходил сгорбленный, как будто бы нес на своих плечах тяжелую ношу. Его беспокойный, неуверенный взгляд скользил, не останавливаясь, по нашим лицам.
Когда в большом шумном помещении на пристани он заговорил, обращаясь неизвестно к кому, я с трудом могла разобрать его тихую, невнятную речь. Он говорил по-английски с каким-то своеобразным акцентом, не похожим ни на чей другой. И из того, что он говорил, я улавливала только самые знакомые слова: «Европа… война… Гитлер… Дания… опасность… оккупация…»
Из Нью-Йорка Бор поехал в Принстон, где он предполагал прожить несколько месяцев у Эйнштейна. Принстон недалеко от Нью-Йорка, и Бор часто приезжал к нам оттуда. Я видела его несколько раз и постепенно привыкла к его манере разговаривать.
А говорил он только об одном – об угрозе войны в Европе.
Невзирая на Мюнхенское соглашение (29 сентября 1938 года), Гитлер поддержал претензии правительств Венгрии и Польши на некоторые области Чехословакии и способствовал дальнейшему расчленению этой страны.
От бесконечного потока беженцев, прибывавших в Америку со всех концов Европы, в стране распространялся мрак надвигающегося бедствия. А тем временем на европейской арене появилась еще одна чрезвычайно опасная фигура. В декабре 1938 года Франко начал свою «победоносную» кампанию, успех которой сулил Европе еще одно тоталитарное государство.
Профессор Бор хорошо понимал, что европейская система безопасности рушится, и его терзала непрестанная тревога за свою семью, за свою страну, за всю Европу.
Спустя два месяца после приезда Бора в Америку все, что оставалось от Чехословакии, было аннексировано Германией под вывеской «протекторат Богемии и Моравии», и Бор, говоря о неизбежной участи Европы, выражался все более и более апокалиптически, а лицо у него становилось похожим на лицо человека, одержимого навязчивой идеей.
Но физикам и другим ученым, которые встречались с Бором во время его пребывания в Америке, казалось, что мысли его поглощены не мрачными прогнозами надвигающихся политических событий в Европе, а последним достижением науки – открытием расщепления урана. Оценивая же последующие события, я могу только предположить, что в голове Бора хватало места и для того, и для другого.
Я уже рассказывала раньше, что уран бомбардировали нейтронами во время экспериментов в Риме в 1934 году, и тогда же возникло предположение, что в результате этого был получен новый элемент – номер 93. Полемика, завязавшаяся вокруг нового элемента 93, тянулась довольно долго, но была безрезультатной. Искусственные радиоактивные элементы получались в таких ничтожных количествах, что обычные методы химического анализа и разделения веществ в данном случае были неприменимы. Многие физики и химики занялись разработкой специальной техники для проведения опытов с искусственными радиоактивными элементами, и больших успехов в этом отношении достигла группа научных работников Берлинского химического института кайзера Вильгельма. Это были два химика – Отто Ган и Фриц Штрассман – и женщина-физик – Лиза Мейтнер. Несмотря на ее еврейское происхождение, Мейтнер в первые годы нацистского режима разрешено было жить в Германии, поскольку она была родом из Австрии и, как австрийская подданная, не подпадала под юрисдикцию немецких антисемитских законов. После аншлюсса ей пришлось бросить работу и бежать из Германии. Мы с Энрико встречались с нею в Стокгольме в декабре 1938 года; это была усталая, замученная женщина с окаменевшим напряженным лицом, как у всех беженцев.
Ган и Штрассман продолжали начатую с Лизой Мейтнер работу, и в конце 1938 года им удалось путем целого ряда химических процессов установить, что некоторые осколки, полученные от бомбардировки урана медленными нейтронами, представляют собой атомы бария. Поскольку атом бария приблизительно вдвое легче атома урана, сам собой напрашивался логический вывод, что некоторые атомы урана расщеплялись на две почти равные части. Такого рода атомное расщепление еще никогда не наблюдалось. Известно было, что атомы, распадаясь, выделяют протоны, масса которых равна единице, или нейтроны, тоже с массой, равной единице; в иных случаях осколок атома может быть альфа-частицей, масса которой равна четырем. Но никогда до сих пор не случалось наблюдать, чтобы атом распадался на две большие части, и ни разу еще не было обнаружено осколка, который был бы тяжелее альфа-частицы. А масса бария в этих опытах равнялась 139.
Ган и Штрассман ухитрились сообщить о результатах своих опытов Лизе Мейтнер в Стокгольм. Она тотчас же отправилась в Копенгаген и вместе со своим племянником Отто Фришем, тоже беженцем из Германии – явилась к Нильсу Бору, чтобы обсудить с ним опыт Гана и Штрассмана; это было накануне отъезда Бора в Америку. Они выдвинули теорию, что в тех случаях, когда уран при бомбардировке нейтронами раскалывается на две части – Лиза Мейтнер назвала этот процесс расщеплением, – это должно сопровождаться выделением огромного количества ядерной энергии, так что оба осколка расщепляющегося атома должны разлетаться в разные стороны с огромной скоростью. Затем они сообща наметили опыт, который дал бы возможность проверить эту гипотезу и определить, какое количество энергии освобождается при расщеплении атома урана.
Когда Бор приехал в Америку, его уже ждала телеграмма – Лиза Мейтнер и Фриш успешно завершили свой опыт и получили результаты, подтверждающие их теорию.
Энрико сделал попытку объяснить мне, что такое расщепление. Он не любит говорить дома о своей работе и отступает от этого правила, только когда происходит что-нибудь из ряда вой выходящее. И, по-видимому, это последнее открытие вполне подходило под эту категорию. Я соображаю медленно, у меня нет достаточного запаса знаний, который позволил бы мне легко разбираться в научных вопросах.
– Подожди, – сказала я, – дай мне проверить, так ли я поняла. Ган бомбардировал атомы урана медленными нейтронами…
– Правильно.
– …и разбил некоторые из них на два куска…
– Совершенно верно.
– …и, значит, то же будет происходить с атомами урана, кто бы…
– Не понимаю, что ты хочешь сказать.
– Я хочу сказать, что всякий раз, когда уран будут бомбардировать медленными нейтронами, то по крайней мере некоторая часть его атомов будет распадаться пополам, так или нет?
– Совершенно верно.
– Но если это так, то ведь тогда, в Риме, вся ваша группа тоже бомбардировала уран медленными нейтронами? И если, как ты говоришь, уран в таких случаях всегда должен вести себя одинаково, то, значит, вы и произвели тогда расщепление атома, но только сами не поняли, что у вас получилось.
Да, именно так оно и было. У нас просто не хватило воображения! Никому из нас не пришло в голову, что расщепление урана может протекать не так, как в других элементах; поэтому мы к старались определить полученные нами радиоактивные элементы при помощи элементов, близких к урану по периодической таблице. Кроме того, мы были недостаточно сведущи в химии и не сумели отделить продукты деления урана одни от других; мы думали, что у нас получилось четыре элемента, а на самом деле их было около пятидесяти.
– Ну а что же тогда сталось с вашим элементом 93?
– То, что мы первое время считали элементом 93, оказалось смесью различных продуктов деления. Мы уже давно подозревали это, ну а теперь можно не сомневаться.
«Тогда, значит, – мысленно заключила я, – это расщепление – смертный приговор вашему элементу 93».
Но для Энрико открытие расщепления представляло собой нечто гораздо более серьезное, чем просто доказательство ошибочности его толкования некоторых опытных данных. Энрико предвидел, что это открытие может привести к другим не менее важным открытиям, и он засел за разработку теории этого явления.
Энрико всегда был одинаково привержен и к теоретической, и к экспериментальной физике и легко переходил от одного к другому в зависимости от того, что требовалось ему в данный момент. Если в связи с работой не предвиделось какого-нибудь интересного опыта, Энрико сидел целыми днями в физическом корпусе у себя в кабинете и заполнял листок за листком сложными выкладками; и дома тоже он не обращал ни на кого внимания, сидел, углубившись в свои мысли, и чертил какие-то непонятные значки и цифры на полях газеты. Если я предлагала ему принести чистый лист бумаги, он отмахивался и говорил, что ничего серьезного не делает. Но как только у него возникала какая-нибудь идея, требующая проверки опытом, или нужно было испробовать и освоить какой-нибудь новый прибор, Энрико откладывал все свои бумажки, которые постепенно покрывались густым слоем пыли, и пропадал целые дни у себя в лаборатории.
Когда мы уехали в Америку, в лаборатории в Риме остались его счетчики Гейгера, драгоценный грамм радия «Божьего промысла» и все запасы химических веществ, с которыми производились опыты. Само собой разумелось, что в Колумбийском университете Энрико будет заниматься теорией. Пока мы готовились к отъезду, за все время нашего путешествия, сначала по Европе, а потом по Атлантическому океану, и до тех пор, пока мы не устроились в Нью-Йорке, Энрико совсем не следил за научной литературой. Чтобы войти в курс последних достижений науки и наверстать упущенное, ему пришлось прочесть множество статей. У него на это уходит не так много времени. Многие друзья Энрико завидуют его способности быстро осваивать самый неудобоваримый по трудности материал. Просматривая статью или реферат, он обычно читает только само изложение проблемы. Затем он тут же царапает какие-то вычисления на клочке бумаги, а после этого ему остается только сличить решение автора со своим собственным.
Итак, в этот период Энрико был теоретиком. Узнав о расщеплении вскоре после приезда Бора, он подошел к этому явлению с теоретической точки зрения и выдвинул гипотезу, что уран, расщепляясь надвое, способен выделять нейтроны.
Для меня нейтроны – это какие-то частицы, не представляющие никакого интереса; у них нет даже электрического заряда. И казалось бы, какое это имеет значение: выделятся из атома еще новые нейтроны или нет? Но как только Энрико сформулировал свою гипотезу, многие физики-экспериментаторы бросились с необыкновенным рвением и пылом искать нейтроны среди продуктов деления урана. Они поняли, о чем говорит Энрико!
– Чтобы расщепить атом урана, – доказывал Энрико, – требуется один нейтрон. Нам надо сначала получить этот нейтрон, чтобы пустить его в дело. Допустим, что мое предположение правильно и что атом урана при расщеплении выделяет два нейтрона. Таким образом, в нашем распоряжении имеются уже два нейтрона, которые нам не пришлось добывать самим. Возможно, что эти два нейтрона попадут еще в два атома урана, расщепят их и те выделят каждый по два нейтрона. Теперь у нас будет уже четыре нейтрона и они должны будут расщепить четыре атома урана. На следующей ступени у нас будет восемь нейтронов, которые расщепят восемь атомов урана. Иными словами, начав бомбардировать некоторое количество урана несколькими нейтронами, полученными искусственным путем, мы сможем вызвать целый ряд реакций, которые будут продолжаться самопроизвольно до тех пор, пока не будут расщеплены все атомы урана.
Вот основная идеи самоподдерживающейся цепной ядерной реакции.
Огромное значение цепной реакции заключается в том, что атом, расщепленный нейтроном пополам, разрывается с колоссальной силой и при этом освобождается огромное количество энергии; как я уже говорила, факт этот был проверен на опыте Мейтнер и Фришем. Впервые человек своими глазами узрел возможность использовать безграничные источники атомной энергии.
Об атомном оружии начали поговаривать в тот момент, когда война казалась почти неизбежной. Всех пугала мысль, что расщепление было открыто именно в Германии. А вдруг немцы сумеют оборудовать свои военные корабли атомными двигателями? Или – что еще хуже! – устроят какой-нибудь атомный взрыв? Но оставалась еще надежда, что осуществить самоподдерживающуюся цепную реакцию вряд ли окажется возможным на практике. Процесс выделения нейтронов, нарисованный Энрико, был в сущности идеальным, потому что на самом деле отнюдь не все нейтроны, выделяющиеся при расщеплении, будут попадать в атомы урана. Многие из них поглотятся веществом прежде, чем соприкоснутся с ураном. Кроме того, нейтроны, образующиеся при расщеплении, движутся с невероятной скоростью и не могут быть использованы в качестве атомных снарядов, если только не будет найден способ замедлить их движение.
Эта сложная проблема возбудила огромный интерес, и физики немедленно приступили к опытам. Работа в этой области развернулась во многих университетах, а начало всему положил Колумбийский университет.
Вскоре после своего приезда в Америку Бор пришел в Колумбийский университет повидаться с Энрико, но застал вместо него Герберта Андерсона.
Герберт, по-видимому, не проявил излишней застенчивости, потому что кончилось тем, что Бор сам заговорил с ним о расщеплении. Андерсон слушал его очень внимательно и, как только Бор ушел, бросился искать Энрико.
– Почему бы вам не включить в план вашей работы опыты по расщеплению с помощью нашего циклотрона? – спросил он. – Мне бы так хотелось поработать с вами! А ведь это такой случай! Лучше и не придумаешь!
В Энрико мигом проснулся экспериментатор. Ему еще не приходилось играть с этой игрушкой – циклотроном.
Циклотрон – это машина, ускоряющая движение заряженных частиц, например, протонов. Эти частицы, если их не отклоняет воздействие каких-нибудь сил извне, движутся по прямой линии; попыткам ускорить их движение препятствовало то, что они так быстро уносились прочь, что оказывались за пределами досягаемости прежде, чем им успевали сообщить нужную скорость. Это затруднение преодолел Эрнест О. Лоуренс, сконструировав свой первый циклотрон, который принес ему Нобелевскую премию. Очень большой магнит искривляет путь частиц и не дает им выйти из цилиндрического ящика, где они непрерывно вращаются все с большей и большей скоростью, пока не приобретут огромную энергию.
Андерсон предлагал воспользоваться частицами, образующимися в колумбийском циклотроне, для бомбардировки подходящих веществ, чтобы получить нейтроны. Это предложение было тем более завлекательно для Энрико, что предоставляло ему возможность вернуться к опытам, которые он начал пять лет назад. Тем не менее он колебался. Деканом физического факультета был профессор Пеграм, а циклотрон находился в непосредственном ведении Джона Р. Даннинга. Им бы, собственно, и надлежало организовать эту работу.
– Да ведь я сам сконструировал массу деталей для этого циклотрона, – с необыкновенным упорством настаивал Андерсон. – Имею же я право работать с этим прибором и просить вас руководить моей работой!
Наконец, найден был способ примирить пылкую ретивость Андерсона с осторожными колебаниями Энрико. На заседании кафедры с участием профессора Пеграма, Даннинга, Ферми и Андерсона утвердили план исследовательских работ. После этого заседания Энрико опять стал физиком-экспериментатором. При этом в его распоряжении оказался источник нейтронов с мощностью, примерно в сто тысяч раз превышавшей радоно-бериллиевые источники, которыми он располагал в Риме. Протоны, ускоренные циклотроном, бомбардировали бериллий, и это давало в секунду примерно в сто тысяч раз больше нейтронов, чем можно было получить ранее при самых благоприятных обстоятельствах. Нейтронный источник Энрико давал усиление в сто тысяч раз, а котел, с которым ему пришлось орудовать уже после войны, представлял собой источник, который во столько же раз превосходил колумбийский циклотрон.
К Энрико и Герберту присоединились другие физики, и среди них – венгр Лео Сцилард и канадец Уолтер Цинн, высокий белокурый молодой человек; он преподавал в Сити-колледж, а исследовательской работой занимался в Колумбийском университете. В течение некоторого времени я могла в какой-то мере следить за успехами их опытов, конечно на расстоянии, которое отделяет специалиста от непосвященных. Время от времени Герберт Андерсон, Уолли Цинн или Джон Даннинг приходили к нам в гости, и случалось, что они при мне разговаривали с Энрико о своих делах. Я была на нескольких лекциях Энрико, прочла несколько отчетов в газетах. Однако через некоторое время была введена добровольная цензура и на ядерную физику был наложен строжайший запрет тайны. Я ровно ничего не слышала о ней целых пять лет – с лета 1940 года до лета 1945 года, когда бомба, сброшенная на Хиросиму, несколько приоткрыла тайну.
Я научилась не задавать вопросов, не встречать Энрико словами: «Ну, как у тебя дела сегодня?», или «Доволен ты своей работой?», или «С кем ты сегодня работал?» Энрико теперь часто уезжал из дому, и это были какие-то таинственные отлучки. Он сам укладывал чемодан и, уходя из дому, предупреждал меня, что, если мне во что бы то ни стало нужно будет связаться с ним, я должна обратиться к его секретарю. Когда он возвращался, мне предоставлялось гадать о его путешествии по цвету грязи на подошвах его башмаков или по обильному количеству пыли, осевшей на его одежде. И у других женщин мужья тоже часто уезжали, а спрашивать их «куда?» значило совершить бестактность.
Примерно в это время одна моя приятельница, жена одного из университетских коллег Энрико, подарила мне книгу. Это был роман Гарольда Никольсона «Public Faces», вышедший в 1933 году; в нем описывался дипломатический инцидент, возникший в связи со взрывом атомной бомбы.