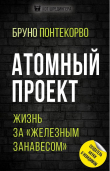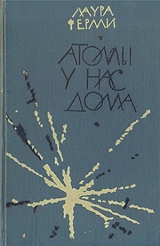
Текст книги "Атомы у нас дома"
Автор книги: Лаура Ферми
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
13 глава
10 ноября 1938 года
Телефонный звонок ранним утром звучит как-то особенно. Он такой неожиданный, ошеломляющий, пронзительный, настойчивый. Он врывается в тишину, заполняет собой все, забирается к вам под одеяло. Он выдергивает вас из вашего еще недоспанного сна, выталкивает вас из постели, потому что вы не можете скрыться от него, не можете пренебречь этим настоятельным зовом. Вот так рано утром 10 ноября 1938 года я бросилась к телефону, зазвонившему в коридоре нашего дома.
– Это квартира профессора Ферми? – раздался голос телефонистки.
– Да.
– Сообщаю вам, что сегодня в шесть часов вечера с профессором Ферми будет говорить Стокгольм.
Всю мою сонливость как рукой сняло. Звонок из Стокгольма! Я уже догадывалась, что значит этот звонок из Стокгольма. Туфли мои громко хлопали по ступенькам, когда я, задыхаясь от волнения, бежала из коридора в спальню. Голова Энрико, все еще уткнувшаяся в подушку, выступала черным пятном на широкой белизне постели.
– Энрико, проснись! Сегодня вечером с тобой будут говорить из Стокгольма!
Энрико, мигом проснувшись, спокойно приподнялся на локте.
– Это, должно быть, Нобелевская премия, – сказал он.
– Ну конечно!
– Так значит, то, что мне говорили, подтверждается, и мы теперь можем привести в исполнение наши планы.
Как только я вспомнила о наших планах, вся радость моя мигом пропала.
А планы наши были таковы: мы должны были распроститься с Италией навсегда в начале будущего года, но мы рассчитывали, что, если Энрико получит Нобелевскую премию, можно будет уехать гораздо раньше. Меньше чем через месяц мы поедем в Стокгольм и оттуда, уже не возвращаясь домой, прямо в Соединенные Штаты.
При сложившейся обстановке наши планы были как нельзя более разумны, и рассудком я это признавала. Но всеми своими чувствами я противилась им, и все мое существо восставало против того неведомого и страшного, что готовило для нас будущее. Мне была невыносима мысль расстаться с Римом. Здесь я родилась и здесь жила с тех пор, как себя помнила. И родные и друзья – все было здесь. Я была привязана к Риму. И так крепки были корни, удерживавшие меня, так глубоко уходили они в богатую почву воспоминаний, привычек, привязанностей, что я чувствовала, как мучительна будет для меня эта пересадка на чужую землю.
За последние годы Энрико не раз заводил разговор о том, что нам надо уехать из Италии, чтобы избавиться от фашизма, перебраться в Америку, и я каждый раз спорила с ним. До сих пор фашизм был сравнительно мягкой диктатурой, он не вмешивался в частную жизнь людей, которые, подобно нам, если и осуждали его, то только на словах. Огромное большинство итальянцев было аполитично; они пассивно позволяли увлекать себя по течению и не сопротивлялись этому потоку. Возможно, так оно было и лучше, потому что в таком полицейском государстве, как фашистская Италия, открытая оппозиция наверняка принесла бы еще больше страданий, не достигнув, быть может, никаких положительных результатов. Во всяком случае, доктрина, что управление государством – это ответственность всех и каждого, что каждый отдельный человек должен участвовать в нем, отнюдь не так распространена в Италии, как в Америке. «Башня из слоновой кости», в которой замкнулись ученые, отрешившись от всякой политики, считалась не менее, а, может быть, даже более достойной, чем мужественные, но бесплодные попытки бунтарства со стороны некоторых интеллигентов. Несмотря на фашизм, жизнь в Риме для нас не была лишена приятности, и мы не двигались с места.
Но в 1938 году обстановка резко изменилась. Причины этой перемены следует искать в абиссинской авантюре Муссолини и в экономических санкциях, примененных к Италии Лигой наций. Санкции эти были полумерой, не настолько сильной, чтобы прекратить войну, но достаточной, чтобы поссорить Муссолини с западными державами. Оскорбленные итальянцы продолжали свою войну до победного конца, она превратилась для них в символ борьбы против интернационального угнетения.
Последствия санкций оказались значительно более серьезными, чем победа в Африке, они вынудили фашизм заключить союз с нацистской Германией.
Это было что-то невероятное. Немцы были исконными врагами Италии, а после первой мировой войны – врагами поверженными. Недавно возвысившийся фюрер считался весьма недалеким подражателем дуче, марионеткой, послушно подчиняющейся приказаниям фашистского маэстро. Но вот марионетка внезапно проявила собственную инициативу: в марте 1935 года она денонсировала Версальский договор и объявила, что Германия будет вооружаться. Муссолини пришел в ярость. Он созвал конференцию в Стрезе с Францией и Англией и обязался принять меры к тому, чтобы удержать Германию от перевооружения.
Однако фюрер оказался способным выкинуть еще один неожиданный трюк – в марте 1936 года его войска заняли демилитаризованную Рейнскую область. К этому времени у Муссолини уже испортились отношения с Францией и Англией, но он боялся и отнюдь не желал усиления Германии. Его отношение прекрасно выражено в заголовке одной газетной статьи, комментировавшей оккупацию Рейнской области: «Единодушно признается, что Германия нарушила договор» – гласил заголовок. «Италия будет соблюдать бдительную сдержанность до тех пор, пока ей не будет оказана должная справедливость в отношении абиссинского вопроса».
Но этот блеф не удался Муссолини. «Фронт Стрезы» распался. И в июле следующего года Германия и Италия уже сражались вместе на одной стороне против испанского народа.
С этого времени между двумя диктаторами установилась явная дружба. Они обменялись приветственными посланиями и уверениями в доброжелательстве, и «ось Рим – Берлин», новый символ, изобретенный Муссолини, вступил в силу 23 октября 1936 года. Дуче все еще пребывал в приятном заблуждении, что он хозяин положения и что он держит Гитлера в руках. Внезапно его иллюзии были разрушены аншлюссом. 12 марта 1938 года Гитлер оккупировал Австрию, не только не посоветовавшись с Муссолини, но даже не поставив его об этом в известность. Гитлер прекрасно понимал, что его «друг» отнесется к этому в высшей степени неодобрительно: уже много лет Муссолини разыгрывал из себя покровителя Австрии. После убийства канцлера Дольфуса в июле 1934 года дуче послал войска для зашиты австрийских границ от германского вторжения и кричал на весь свет: «Не сметь трогать Австрию!» Германия на Бренеровском перевале была бы постоянной угрозой для Италии.
Аншлюсс явился сюрпризом для итальянского диктатора; это видно из того, как реагировала на это пресса, или, вернее, из того, что она никак не реагировала. До сих пор, если происходило какое-нибудь важное событие, пресса немедленно получала директивы, разъясняющие официальную точку зрения: указывалось, в каком духе следует комментировать событие, сколько места отвести ему в газете и даже какого размера должен быть шрифт заголовков. Но когда пришло сообщение об аншлюссе, газеты и радио в течение нескольких часов не знали, какую им следует занять позицию. Ни обсуждений, ни «официальных высказываний» по поводу этого «хода» Гитлера не было. Муссолини еще не решил, заявить ли ему громогласно, что он считает себя оскорбленным (а он, несомненно, считал себя оскорбленным), то есть признать, что его одурачили, или выразить свое полное одобрение и примириться с совершившимся фактом. Вскоре печать разразилась бурными похвалами государственному уму Гитлера, ратуя за союз двух наций, которые всегда стремились быть едины. Муссолини предпочел не позорить себя, но Италия стала рабой Германии.
Последствия этого дали себя чувствовать очень скоро. В том же 1938 году летом Муссолини начал антисемитскую кампанию без всяких причин или предлогов, без всяких приготовлений. В Италии не было настоящего антисемитизма, так неоднократно заявлял и сам Муссолини. Правда, были профессии, к которым был затруднен доступ евреям. Правда, профессор Леви-Чивитта, математик с мировым именем, не был членом Королевской академии Италии, несмотря на то, что его кандидатура не раз выдвигалась академиками. Правда, отец мой неожиданно и без всякой причины был уволен с действительной службы во флоте и переведен в запас. Но все это были отдельные случаи. В Италии не было деления на евреев и «арийцев», были только итальянцы. Евреи составляли одну тысячную населении, и число их постепенно уменьшалось в результате все возраставшего количества смешанных браков.
Незадолго до нашего отъезда я слышала в Риме, как один человек, по виду рабочий, говорил другому: «Вот теперь высылают евреев. А кто они такие, эти евреи?»
Евреев не было ни в южной Италии, ни в Сицилии. Рассказывают, что Муссолини получил телеграмму от подесты[16]16
Подеста – глава администрации (подестата) в итальянских городах. – Прим. верст.
[Закрыть] – мэра какой-то захолустной сицилийской деревушки касательно антисемитской кампании. Текст: «Вышлите образцы, чтобы мы могли начать кампанию».
Никаких признаков расовой политики еще не замечалось в начале июля, когда я уехала из Рима с детьми на лето в Альпы. Мы наняли домик в Сан-Мартино-ди-Кастроцца; это один из самых живописных курортов в Доломитовых Альпах; он стоит, как в ограде: высокие и до того тонкие скалы, что кажется, будто они двух измерений, замыкают его со всех сторон, словно частокол из деревянных лопат. За этим частоколом, в широкой бухте, окаймленной зелеными лугами, я чувствовала себя совершенно отрезанной от мира. Я наслаждалась растительной жизнью, предавалась блаженной лени, глядя, как дети расцветают на солнце, покрываясь здоровым загаром, и совсем забыла про фашизм, про нацизм и про беспорядки в Европе. Я не читала газет, не слушала радио.
Энрико приехал в Сан-Мартино в августе. Вид у него был очень озабоченный; я спросила, что с ним такое.
– Неужели ты не видишь, что у нас происходит?
В голосе его слышалось удивление, но еще больше осуждение, глубокое осуждение, которое задело меня тем больнее, что он больше ничего не сказал. Пусть бы он меня побранил или рассердился – все было бы легче, но этого я никогда не видала от Энрико.
Потом уже он объяснил мне, что 14 июля был опубликован «Manifesto della Razza» – «Расовый манифест», документ, в котором, прикрываясь нелепыми фразами и якобы научным языком, преподносились какие-то явно противоречивые и бессмысленные утверждения. Существуют отдельные человеческие расы, утверждал этот манифест. Итальянское население принадлежит к арийской расе. За последнее время массовых приливов населения в Италию не было, и поэтому можно утверждать, что в настоящее время существует чистая итальянская раса. Самые явные нелепости в этом манифесте касались евреев. Составители манифеста задумали провести некое различие между евреями и семитами. Параграф о евреях гласил следующее:
«Евреи не принадлежат к итальянской расе. От семитов, которые в течение столетии населяли священную землю нашей страны, не осталось ничего. Точно так же и нашествие арабов в Сицилию не оставило ничего, кроме воспоминаний, сохранившихся кое-где в названиях; во всяком случае, процесс ассимиляции всегда протекал в Италии очень быстро. Евреи представляют собой единственную часть населения, которая не ассимилировалась в Италии, потому что расовые элементы, из коих они слагались, – неевропейского происхождения и в корне отличаются от тех, которые положили начало итальянцам».
К чести итальянцев надо сказать, что Муссолини стоило большого труда найти среди университетских профессоров кого-то, кто согласился подписать этот манифест. Ни один антрополог не поставил своей подписи под этим документом.
Расовая кампания, объявленная с такой помпой, с необычайной быстротой развернулась вовсю. Открылся институт для «защиты расы». Начал выходить журнал под таким же названием – «Защита расы».
Между тем итальянское правительство точно взбесилось. Новые законы, правила, приказы объявлялись что ни день, сыпались, как из мешка, как будто люди, находившиеся у власти, поставили своей единственной целью доказать могущество фашистского бога. Они предписывали форму для чиновников гражданской службы; устанавливали стиль дамских причесок; они изгнали из мужского костюма галстуки под тем предлогом, что узел галстука давит на какие-то нервные центры и мешает правильно целиться на ружья. Были законы и посерьезнее, как, например, закон, запрещавший холостякам занимать должности в правительственных учреждениях; или закон, по которому женщины принимались на работу в зависимости от того, состоят ли они в браке; законы, воспрещавшие браки между итальянцами и иностранцами, между арийцами и евреями.
Первые антисемитские законы появились в начале сентября. Мы сразу решили как можно скорее уехать из Италии. Энрико и дети были католиками, и мы могли бы остаться. Но есть все же какие-то пределы тому, что можно терпеть.
Опасаясь, что, если наши подлинные намерения станут известны, у нас отнимут паспорта, мы должны были подготовляться к отъезду тайно. Переписка с заграницей наверняка подвергалась цензуре. Энрико написал четыре письма в четыре американских университета, где сообщал, что причины, не позволявшие ему до сих пор согласиться на их предложения, теперь отпали. Более откровенно он писать не решался.
Мы все еще жили в Альпах, и четыре письма, все написанные одной и той же рукой и все адресованные в Америку, несомненно, вызвали бы подозрения, если бы мы отправили их из одной деревни. Мы поехали прокатиться на машине и отправили письма Энрико из четырех разных городков, отстоявших на несколько миль один от другого.
Энрико получил из Америки пять предложений. Он принял предложение Колумбийского университета и заявил итальянским властям, что отправляется в Нью-Йорк на полгода. Но тут одно неожиданное осложнение чуть не спутало все наши планы. В октябре, на съезде физиков в Копенгагене, Энрико конфиденциально сообщили, что его имя значится в списке лиц, выдвинутых на Нобелевскую премию. Его спросили, не предпочитает ли он временно снять свое имя в связи с политической ситуацией и валютными ограничениями в Италии. В нормальной обстановке все, что касается Нобелевской премии, держится в строгом секрете, но в данном случае сочли возможным нарушить правила.
Для будущих эмигрантов, которым при выезде из Италии разрешалось брать с собой всего по пятьдесят долларов на душу, Нобелевская премия была поистине даром небес. Но по существующим законам итальянским гражданам предписывалось превращать в лиры все имеющиеся у них за границей вклады и переводить их в Италию. Поэтому у нас было решено: если Энрико получит Нобелевскую премию, мы поедем в Стокгольм, а оттуда уже прямо в Америку. И вот 10 ноября рано утром раздался этот телефонный звонок.
– Давай отпразднуем! – сказала я. – Не ходи сегодня на работу. Пойдем куда-нибудь вместе.
И через некоторое время мы уже бродили по улицам Рима, одержимые желанием транжирить. Мы купили и мне, и Энрико новые ручные часы. Я очень гордилась своими. Но в то же время меня мучили угрызения совести, словно я не имела права их покупать, а воспользовалась удобным случаем и выманила их хитростью.
– Мы массу денег истратили, – сказала я Энрико. – А вдруг этот телефонный звонок вовсе не означает Нобелевской премии?.. Что тогда делать?
– Вероятность, что этот звонок обозначает Нобелевскую премию или хотя бы часть ее, если она будет присуждена двоим, равняется по крайней мере девяноста процентам. Но если это даже и не так, все равно мы можем позволить себе купить часы. Ведь надо же нам взять с собой хоть что-нибудь, когда мы будем уезжать. Покупать бриллианты не стоит, потому что покупателей берут на учет, попадешь в список, а нам сейчас совсем не годится числиться в таком списке. А часы – это как раз то, что можно купить, не привлекая к себе внимания, и вместе с тем они могут пригодиться.
Так второй раз за нынешнее утро мне напомнили, что это мои последние дни в Риме! Но я решила держаться бодро и не поддаваться щемящему чувству тоски, которое охватило меня, когда я смотрела на эти такие привычные римские улицы, на старинные потемневшие здания, сохранившие всю свою давнюю прелесть, на купы старых деревьев, которые то там, то здесь, прерывая однообразие улиц, поднимались над облезшей стеной или над чугунной оградой – безмолвные и величественные свидетели человеческой неугомонности, – на бесчисленные римские фонтаны, которые так обильно плещут водой, взметая высокий радужный столб, и, рассыпаясь мириадами бриллиантовых брызг, каскадом обрушиваются вниз. Мне хотелось напоследок насладиться этим зрелищем и возблагодарить бога за тридцать лет жизни в Риме.
После обеда дома время тянулось, как вечность.
– Когда же, наконец, будет шесть часов? – спрашивала я безмолвный телефон каждый раз, проходя мимо него по коридору.
В четверть шестого мы с Энрико уселись в гостиной и стали ждать. Гостиная у нас была большая и уютная. Паркетный пол сверкал, как зеркало, блестело дерево стенных панелей. Мы так недавно поселились в этой квартире, но как быстро накапливаются воспоминания, когда у вас дети! Удивительно, как много уже говорили мне эти комнаты, хотя мы прожили здесь всего только десять месяцев. Вон там, на выложенном плитками узорчатом крыльце, залитом солнцем, Джулио так стукнулся головой об пол, что несколько дней ходил весь разукрашенный. В спальне, куда была открыта дверь и где сейчас лучи заходящего солнца освещали склонившуюся над книжкой головку Неллы, читавшей вслух Джулио, не так давно Нелла лежала больная корью, а в смежной ванной комнате, моей любимой ванной зеленого мрамора, я устроила импровизированный дезинфекционный пункт. Вот здесь, в углу гостиной, около дивана, Джулио стоял, уткнувшись носом в стену в наказание за то, что уплел полкорзинки печенья, приготовленного для гостей…
Зазвонил телефон, я вскочила.
– Я сама пойду, – сказала я Энрико и бросилась на площадку.
Это был не Стокгольм.
– Вам еще не звонили? – спросила меня Джинестра Амальди. – А мы ждем известии. Здесь Разетти с матерью и все наши из лаборатории. Ты нам позвони сейчас же, как только поговорите со Стокгольмом.
Я опять уселась. Прямо перед моими глазами чугунная гончая в узорчатой решетке радиатора старалась перегнать время, не двигаясь с места. Не так ли и надежды человеческие?..
– Шесть часов. Я включу радио, послушаем известия, пока дожидаемся, – сказал Энрико.
Мы уже привыкли к тому, что сообщения по радио за последние месяцы каждый раз преподносили нам что-нибудь неприятное. На этот раз они оказались хуже, чем когда бы то ни было.
Холодный, отчетливый, безжалостный голос диктора читал новую серию расистских законов. Новые законы ограничивали гражданские права евреев. Дети евреев исключались из казенных школ. Евреи-учителя увольнялись. Евреи – адвокаты, врачи и другие специалисты – могли практиковать лишь в среде еврейских клиентов. Многие еврейские фирмы закрывались. «Арийской» прислуге не разрешалось работать у евреев или жить в их домах. Евреи лишались всех гражданских прав, паспорта у них отбирались. Все мои родные и многие друзья подпадали под действие этих законов; им придется как-то перестраивать свою жизнь. Удастся ли им это?
Снова зазвонил телефон.
– Ну, как? Все еще не было звонка? – спросил нетерпеливый голос Джинестры.
– Нет еще, – ответила я. – Да я уж и не жду, мне теперь все равно. Ты слышала известия?
– Нет. А что такое?
– Новые расистские законы, – сказала я и повесила трубку.
В конце концов Стокгольм позвонил, и это действительно была Нобелевская премия. Секретарь Шведской академии наук прочитал нам по телефону:
«Профессору Энрико Ферми, проживающему в Риме, за идентификацию новых радиоактивных элементов, полученных нейтронной бомбардировкой, и за сделанное в связи с этой работой открытие ядерных реакций под действием медленных нейтронов».
Теперь уже никаких сомнений не было. Энрико была присуждена Нобелевская премия. Четыре года терпеливых исследований, разбитые и уцелевшие трубки с бериллиевым порошком и радоном, бег наперегонки с элементами в руках по всему коридору физического факультета, чтобы успеть зарегистрировать активность на счетчике Гейгера, усилия построить теорию ядерных процессов и бесчисленные испытания для проверки той или иной теории, фонтан с золотыми рыбками и куски парафина – вот что принесло Нобелевскую премию.
Она была присуждена одному Энрико, а не пополам с каким-нибудь другим физиком, как это могло быть. И все-таки я не могла радоваться. Я не знала, смеяться мне или плакать, на что реагировать – на этот телефонный звонок или на сообщения по радио?
Через несколько минут раздался звонок у входной двери. Джинестра, высокая, тоненькая, улыбающаяся своей мягкой, ласковой улыбкой, а за ней целая процессия из двенадцати человек. Все наши друзья, и старые и новые, пришли поздравить Энрико.
– Мы все остаемся ужинать! – не задумываясь, без всяких колебаний заявила Джинестра.
И вот дом, где всего несколько минут назад царила такая унылая тишина, сразу наполнился веселым оживлением, деловитой суматохой и возней. Горничной велели накрыть длинный стол, устроили совет с кухаркой, как бы срочно превратить наш домашний ужин в обильное пиршество; послали за полуфабрикатами; притащили вина для торжественного празднования. Заразившись общим воодушевлением, Джулио пытался привлечь к себе внимание и лез на колени к нашим друзьям, а никогда не ронявшая своего достоинства Нелла тщетно пыталась научить его хорошим манерам.
Отпраздновать Нобелевскую премию придумала Джинестра, ей счастливо пришла в голову блестящая мысль отвлечь этим наше внимание от новых расистских законов.