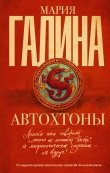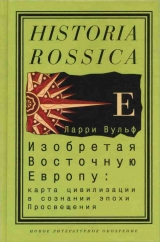
Текст книги "Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения"
Автор книги: Ларри Вульф
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 38 страниц)
Проезжая через Польшу, Сегюр постоянно пребывал в печальном расположении духа, а его первые впечатления от Петербурга окрашены «двойной меланхолией», вызванной видом Финского залива и размышлениями о русском деспотизме. Кокса подобная меланхолия настигла уже в Варшаве, окрасив его восприятие контрастов этого города, которые он описывает в точности по разработанной Сегюром формуле.
Весь город представляет собой грустное зрелище, являя тот резкий контраст между богатством и бедностью, роскошью и запустением, которым пропитана вся эта несчастная страна. Улицы просторны, но плохо вымощены; церкви и общественные здания обширны и великолепны; дворцы аристократов многочисленны и роскошны; но большинство домов, особенно в пригородах, оказываются убогими и дурно выстроенными деревянными лачугами [55]55
Ségur L.-F.Op. cit. Vol. I. P. 329; Coxe W.Op. cit. P. 150.
[Закрыть].
Сегюр двигался в северо-восточном направлении, из Варшавы в Санкт-Петербург, а Кокс отправился строго на восток, в Москву, через восточную часть Речи Посполитой, Великое княжество Литовское. Гродно он описал по той же привычной формуле – город, полный контрастов: «смешение запустевших лачуг, полуразвалившихся домов, дворцов, лежащих в руинах, но украшенных великолепными воротами, остатками древнего величия». Он посетил недавно заведенную в Гродно ткацкую фабрику и, поскольку его страна гордилась своим ткацким производством, заметил со снисходительным любопытством: «Эта отрасль промышленности здесь только еще в зачатке» [56]56
Coxe W.Op. cit. P. 191, 197, 199.
[Закрыть].
В Гродно Кокс встретил французского натуралиста Жан-Эмманюэля Жилибера, собиравшегося писать естественную историю Литвы, то есть рассказать о животных, растениях и минералах. Кокс отметил «зачаточное состояние естественных наук» в этих краях, подобное зачаточному состоянию промышленности, и, вероятно, счел само собой разумеющимся, что эти науки должны быть вверены не кому-нибудь, а французу. В Литве Кокс видел зубра, которым он особенно интересовался, и упомянул по этому случаю теорию Симона Палласа, немецкого натуралиста, изучавшего естественную историю России. Паллас считал, что «данный вид диких быков, в древности обитавший повсюду в Европе, теперь существует на этом континенте только в литовских лесах, кое-где в Карпатах и, возможно, на Кавказе» [57]57
Ibid. P. 193.
[Закрыть]. Другими словами, благодаря зубру у Восточной Европы была своя естественная история, поскольку редкие виды сохранялись лишь на окраинах континента.
Еще интереснее были представители типичных для Восточной Европы человеческих типов, и Кокс писал: «На нашем пути через Литву мы были поражены, насколько все вокруг кишело евреями, которых вообще в Польше множество, но в этом княжестве, кажется, обосновалась их главная квартира». Сегюр также заметил в Польше «бойкую толпу алчных евреев». Идея о том, что в Восточной Европе много евреев, вполне привычна в XX веке и выразилась наиболее четко в их почти полном уничтожении. В XVIII же веке их еще предстояло открыть, как и саму Восточную Европу. Когда Кокс въехал в Польшу, он относился к ним с умеренной симпатией. В Кракове он посетил могилу «Эсфири, Прекрасной Еврейки», которая, по преданию, была возлюбленной Казимира Великого в XIV веке. Он обратил внимание на «трудолюбие этого удивительного народа» и отметил, что польские евреи «контролируют всю торговлю этой страны». По дороге в Варшаву Кокс видел их «лачуги». Выехав на восток из Белостока, он был окружен толпами нищих и евреев, которые «виднелись повсюду». Литва «кишела» ими, путешественники встречали их на каждом шагу: «Если вы попросите найти переводчика, вам приведут еврея; если вы войдете в таверну, хозяин окажется евреем; если вам нужны почтовые лошади, вы их получите у еврея, и еврей будет кучером». К востоку от Минска, на землях современной Белоруссии, Кокс укрылся на ночь от непогоды в овине, где «несколько фигур в черных балахонах и с длинными бородами мешали что-то в большом котле». Человек эпохи Просвещения, Кокс не поддался «вере в колдовство или мелкие суеверия», и «по внимательном рассмотрении мы узнали наших старых знакомцев – евреев, готовивших их и нашу вечернюю трапезу» [58]58
Ibid. P. 142, 188, 201, 205.
[Закрыть]. Повидав «кишащих» «без конца» евреев, Кокс усвоил с этими «старыми знакомцами» презрительно-фамильярный тон. Его описания евреев становились все более и более настороженными, и могила прекрасной еврейки сменилась страшными фигурами в балахонах. Отмахнувшись от суеверий, Кокс доказал собственную просвещенность, одновременно показывая читателям, насколько отсталой была Восточная Европа и населявшие ее евреи.
Изучая польское население, Кокс, как и Сегюр, убедился, что Европа осталась позади: «Своими чертами, обычаями, платьем и внешним обликом поляки напоминают скорее азиатов, чем европейцев; предками их, несомненно, были татары». Важное доказательство – их манера стричь волосы: они «обривают головы, оставляя только кружок волос на затылке». Кокс ссылался на немецкого историка, полагавшего, что «манера стричь волосы, принятая у поляков, возможно, самое древнее свидетельство их происхождения», так как «уже в V веке некоторые народы, известные под именем скифов, придерживались такого же обычая» [59]59
Ibid. P. 143–144.
[Закрыть]. Для изучения азиатских черт Восточной Европы недостаточно обратиться к ее татарским корням; для Кокса, как и для Сегюра, главный признак азиатского происхождения – родство с варварами классической древности, со скифами. В России они словно сошли в своих овчинах с барельефов колонны Траяна; в Польше их можно узнать по стрижке, не изменившейся за тысячу с лишним лет.
Интерес к волосам поляков снова возникает у Кокса в самом конце его пути через Польшу, когда он обратил внимание на болезнь, предположительно связанную с ними.
Перед тем как завершить мое описание Польши, я должен вкратце упомянуть, что, проезжая через эту страну, мы поневоле замечали людей со спутанными или спекшимися волосами. Это болезнь, называемая Plica Polonica, или «польский колтун». Такое название она получила, так как считается присущей Польше; однако она встречается в Венгрии, Татарии и у некоторых соседних народов [60]60
Ibid. P. 209.
[Закрыть].
Приписав эту болезнь полякам, венграм, татарам и соседним народам, Кокс очертил территорию, в которой легко узнаешь Восточную Европу. В сущности, она очень похожа на зону обитания зубра в Литве, на Карпатах и на Кавказе. Знатоком естественной истории Литвы был француз, знатоком древних корней польского народа был немец, и знатоком «польского колтуна» был тоже иностранец, «талантливый швейцарский врач, давно поселившийся в Польше». В своем трактате, написанном по-французски, он описывал «едкие, вязкие соки, которые пропитывают трубкообразные волосы», а затем «выделяются или через их стенки, или через окончания и склеивают их в отдельные клоки или в одну сплошную массу». Симптомы включали «зуд, опухоль, сыпь, нарывы, перемежающуюся лихорадку, головную боль, вялость, упадок духа, ревматизм, подагру, а иногда даже судороги, паралич и умопомешательство». Когда болезнетворные соки впитывались волосами, образуя колтун, симптомы исчезали, но если голову обрить, то они возобновлялись, пока волосы не отрастут и не сваляются вновь. «Эту болезнь считают наследственной, и в острой стадии она заразна» [61]61
Ibid.
[Закрыть].
Предполагалось, что «польский колтун» был болезнью наследственной и заразной, и именно потому его описывали как местную болезнь и в географическом, и в демографическом смысле, свойственную «соседним» странам и народам, характерную восточноевропейскую патологию. Ее распространение в Польше и Татарии удивить не могло, поскольку поляки «происходили от татарских предков». «Польский колтун», который нельзя было сбрить, легко заметен постороннему наблюдателю, и для людей вроде Кокса, знавших о происхождении поляков, его связь со скифским стилем польских причесок была несомненной. Само тело поляка несло печать болезни и варварства. И впрямь, называя возможные причины «польского колтуна», Кокс прямо связал эту болезнь с отсталостью. Он упомянул, во-первых, «воздух в Польше, нездоровый из-за множества лесов и болот»; во-вторых, воду, – «хотя в Польше и достаточно хороших источников, простой народ обычно пьет что под руку попадется, из реки, из озера, из стоячего пруда»; и, в-третьих, «полное небрежение чистотой среди местных жителей». Среди этих причин первая предопределена географией, а вот вторая и особенно третья сводили все к «безразличию» и «небрежению» самих поляков. Заговорив о чистоте в самом конце польского маршрута, Кокс подвел итог теме «грязи и убожества», привлекавшей его внимание в течение всего пути. Из-за вспышек чумы в Юго-Восточной Европе, в Оттоманской империи многие из этих тем затрагивали и другие путешественники, посетившие регион в XVIII веке. Кокс полагал, что социальные предпосылки «польского колтуна» – те же, что и проказы, также «преобладающей среди невежественных в медицине народов, не способных остановить развитие этой болезни, но редкой в тех странах, где принимают меры, чтобы предотвратить ее распространение» [62]62
Ibid. P. 209–210.
[Закрыть]. Восточная Европа, таким образом, была ареалом распространения «польского колтуна», отмечавшего ее печатью невежества и отсталости.
«Вблизи цивилизованных областей Европы»
Благодаря недавним территориальным разделам, пересечение русско-польской границы было столь же географически обманчивым, как и пересечение польско-австрийской границы за месяц до того. Восемнадцатого августа «мы переправились через Березину, которую некоторые современные географы ошибочно считают новой границей между Польшей и Россией», а два дня спустя «въехали в Россию в маленькой деревне под названием Толицын, до 1772 года принадлежавшей Польше» [63]63
Ibid. P. 205; Coxe, Travels into Poland and Russia // Travels in Poland, Russia, Sweden, and Denmark, 5 thed. (London, 1802; reprinted New York: Arno Press and New York Times, 1970), I. P. 251.
[Закрыть]. Политические последствия раздела Польши делали границу между двумя странами расплывчатой, так что весь регион выглядел как некое единое пространство, и сходство языков только усиливало это впечатление. Нанятый Коксом переводчик был не поляком и не русским, а выходцем из Богемии, и примечание для читателей поясняло, что «и богемский, и русский языки являются диалектами склавонского». Описывая различия между Польшей и Россией, Кокс отметил, что «наиболее разительное отличие происходит из их манеры стричь волосы: русские, вместо того чтобы обривать свои головы, позволяют волосам свисать над бровями и ушами и стригут их коротко на шее» [64]64
Coxe.Travels into Poland and Russia, I. P. 255–256, 272; см. также: Anthony Cross.British Knowledge of Russian Culture (1968–1801) // Canadian-American Slavic Studies 13, no.4 (Winter 1979): 412–435.
[Закрыть]. Это подчеркнутое внимание к волосам, и в России, и в Польше, выдает решимость путешественника найти внешние признаки, позволяющие различать чужие народы.
По дороге из Смоленска в Москву эти признаки убеждали Кокса, что он действительно движется на восток. Однажды путешественники остановились в «сносной хижине», где «наша хозяйка была настоящей азиаткой». Это было видно из ее одежды: «на ней было синее одеяние без рукавов, опускавшееся до колен и повязанное вокруг живота красным поясом; она носила кусок белого полотна, повязанный вокруг головы как тюрбан, серьги и ожерелье из пестрых бусин; ее сандалии были закреплены голубыми тесемками, обвязанными вокруг ее колен и поддерживавшими грубые полотняные обмотки, заменявшие чулки». Грубость одеяний выдавала грубость самого народа, и Кокс заключил, что «русские крестьяне в целом кажутся грубой, выносливой расой». Они носят или «грубый шерстяной балахон» ниже колен, или овчины. Подобно хозяйке-«азиатке», они носят «обмотанное вокруг ног полотно вместо чулок», а их обувь сделана из бересты. Сегюр также отмечал характерные для «полудикарей» овчины и топоры за поясом. Для Кокса эти топоры стали не просто частью одежды и элементом общей дикости внешнего облика, а признаком примитивного уровня цивилизации. Он поражался тому, как русские крестьяне строили свои дома – то есть хижины – «с помощью одного лишь топора», поскольку они были «незнакомы с употреблением пилы» [65]65
Coxe.Travels into Poland and Russia, I. P.267, 270.
[Закрыть].
Как и в Польше, Кокс не упустил случая осмотреть эти хижины изнутри, тем более что только в них путешественник и мог найти ночлег. Иногда его будили куры, а однажды «компания свиней подняла меня в четыре утра, хрюкая мне прямо в ухо». В одной комнате с ним спали два его спутника и их слуги, на полу – «трое русских, с длинными бородами и в грубых рогожных штанах и рубахах», на лавке – трое женщин и на печи – «четверо почти голых детей». Позже Кокс даже намекнул на неуместность нахождения в одной комнате «мужчин, женщин и детей, без различия пола и состояния, и часто почти без одежды». Он жаловался также на «удушающую вонь» [66]66
Ibid., I. P. 271–272; II. P. 68–69.
[Закрыть].
Встречавшиеся вдоль дороги города описывались с разочарованием, по уже устоявшейся формуле: «Издалека все эти шпили и купола, скрывающие окружавшие их лачуги, заставляют незнакомого с этой страной путешественника ожидать появления большого города; вместо этого он встретит лишь кучку деревянных хижин» [67]67
Ibid., I. P. 268.
[Закрыть]. Это описание явно воспроизводит идею контраста, на этот раз между впечатляющими церковными шпилями и куполами, с одной стороны, и убогими лачугами – с другой. В устах Кокса, однако, этот контраст становится проявлением обмана и иллюзии. В описании 1778 года поражает, насколько точно оно предваряет легенду о «потемкинских деревнях», связанную с поездкой Екатерины II в Крым в 1787 году. Кокс применяет формулу обманчивой роскоши и обманутых ожиданий даже к самой Москве:
Москва возвестила о своем приближении за шесть миль появлением каких-то шпилей, возвышавшихся в самом конце широкой лесной просеки; две или три мили спустя мы въехали на холм, с которого нам открылась великолепная панорама огромного города. Он простирался в форме громадного полумесяца; неисчислимые церкви, башни, позолоченные шпили и купола, белые, красные и зеленые здания, блестя на солнце, представляли великолепное зрелище, странным образом оттенявшееся вкраплениями деревянных лачуг [68]68
Ibid., I. P. 277.
[Закрыть].
Несмотря на обширность этого города, стоило путешественнику отвести свой пораженный взор от блистающих позолоченных шпилей, как он замечал лачуги и понимал, что даже сама Москва была чем-то вроде «потемкинской деревни», городом обманчивых впечатлений. Кокс был «совершенно поражен огромностью и разнообразием Москвы», поскольку «в первый раз моему вниманию представал город столь беспорядочный, столь необычный, столь исключительный и столь противоречивый». Иногда ее контрасты делали Москву вовсе не похожей на город, «поскольку местами это огромное поселение похоже на заброшенный пустырь, местами – на многолюдный город; местами на презренную деревню, местами – на величественную столицу» [69]69
Ibid., I. P. 283.
[Закрыть]. В этом и выражалась власть путешественника над объектом его наблюдений: по его усмотрению, Москва в глазах Кокса могла превратиться в «презренную деревню».
Для Кокса эти московские контрасты были лишь частью глубинных противоречий, характерных для Восточной Европы. «Москву можно счесть городом, построенным по азиатскому образцу, но постепенно она становится все более и более европейской, демонстрируя беспорядочное смешение разнородных архитектурных стилей» [70]70
Ibid., I. P. 283–285.
[Закрыть]. Открытие Восточной Европы можно представить как отвоевание, в процессе которого все больше и больше внимания приковывалось к краям, становящимся более и более европейскими. «Разнородность» и «беспорядочность» как эстетические понятия удачно дополняли общую терминологию «контрастов» и «противоречий»: чтобы передвигаться по городу, Кокс и его спутники наняли карету, запряженную «шестью лошадьми разной масти». Кучер выделялся своей «длинной бородой и овчинным балахоном», а форейторы носили «грубые шерстяные одежды». У них с собой всегда было сено, и стоило карете остановиться, как они принимались кормить лошадей, смешиваясь с «кучками кучеров и форейторов, которые, подобно своим скотам, также удовлетворяли позывы голода заранее запасенной пищей, столь же мало при этом церемонясь». Пока кучера ели рядом с лошадьми, Кокс посещал дворцы, построенные «в стиле истинно азиатского величия», и самое главное, построенные одним топором: «большая часть леса, использованного при сооружении этих обширных зданий, была обработана топором. Хотя я часто наблюдал плотников за работой, я ни разу не видел у них в руках пилы» [71]71
Ibid., I. P. 287–289.
[Закрыть]. Куда бы Кокс ни обратился, он всюду видел характерные восточноевропейские черты: Азия проглядывала в стиле дворцов, и строительные методы напоминали об иных, первобытных временах. Кучер с бородой и в овчине и плотник с его топором соответствовали описанному Сегюром русско-скифскому прототипу.
В Москве Коксу не пришлось даже воображать легендарных скифов, поскольку там встречались реальные и вполне современные жители отдаленных провинций Российской империи, выходцы с самой границы европейского континента, с Урала и Кавказа. Ужиная с графом Алексеем Орловым, екатерининским адмиралом, Кокс обратил внимание на толпу клиентов, окружавших Орлова:
В этой свите был армянин, недавно прибывший с гор Кавказа и, по обычаю своей страны, поселившийся в разбитой в саду войлочной палатке. Его одежда состояла из длинного, свободного балахона, повязанного кушаком, широких штанов и сапог. Его волосы, на татарский манер, были подстрижены в кружок, а его вооружение состояло из кинжала и лука, сделанного из бычьих рогов, связанных жилами того же животного. Он был необычайно привязан к своему господину; будучи представлен ему, он добровольно присягнул на верность и с истинно восточным преувеличением поклялся сражаться со всеми врагами графа, предложив, в доказательство искренности, отсечь собственные уши; он также пожелал, чтобы все болезни, угрожающие в будущем его господину, пали на него самого… он сплясал калмыцкий танец, во время которого он напрягал каждую мышцу и корчился как в конвульсиях, не двигаясь при этом с места. Он пригласил нас в сад, где с огромным удовольствием показал нам палатку и свое оружие, и выпустил несколько стрел, поднявшихся на удивительную высоту. Мы были поражены, насколько характер этого армянина сохранил свою природную естественность; он казался дикарем, только вступившим на путь цивилизованности [72]72
Ibid., I. P. 306–307.
[Закрыть].
Это была картина Восточной Европы в ее географической и антропологической крайности, доступная тем не менее путешественникам в саду московского дворца. Похоже, что искусственность этой ситуации не могла подорвать интерес Кокса к «природной естественности» армянина. Его образ был отчасти схож с образами американских индейцев – палатка, лук из бычьих рогов и жил, – но калмыцкий танец и татарская прическа несомненно помещали армянина в восточноевропейский контекст. Стрижка в кружок, как мы помним, объединяла в глазах Кокса Польшу и Татарию. Если армянину он приписывал «восточное преувеличение», то сам он говорил на языке западной снисходительности, сводя концепцию Восточной Европы к образу «дикаря, только вступившего на путь цивилизованности».
Открывая Восточную Европу, путешественник мог наблюдать, как «цивилизованность» распространялась в этом краю. Его взору открывались не только отдельные дикари, но и картины общества и природы в целом. В сентябре Кокс выехал из Москвы в Санкт-Петербург, направляясь на северо-запад. Он проезжал мимо пастухов, «платьем и манерами напоминавших кочующие орды татар». Он посещал дома, где обитатели простирались на полу перед иконами «святых, грубо намалеванными на дереве, которые часто более похожи на калмыцкого идола, чем на человеческое лицо». Иногда обитатели простирались на полу даже перед Коксом и его спутниками, которых зачастую «поражало это восточное выражение подчинения» [73]73
Ibid., II. P. 66, 69, 70.
[Закрыть]. Эти калмыцкие и татарские образы, встречающиеся по дороге в Санкт-Петербург и напоминающие увиденного в Москве армянина, словно издевались над попытками путешественников дать четкое географическое определение своим впечатлениям. Подобно образам скифов и сарматов, отрицавшим все законы времени и истории, татарские и калмыцкие мотивы также отрицали все законы географии, создавая бесформенное антропологическое пространство, населенное едва отличимыми друг от друга примитивными народами.
Местность, через которую проезжали путешественники, «была почти непрерывным болотом», и дорога часто пропадала, в результате чего «при движении карета постоянно сотрясалась». Россия не прошла простейшую проверку на цивилизованность, проверку колесом: «Плохие дороги расшатали наше новое колесо, которое было собрано кое-как и уже подвержено преждевременному гниению; мы остановились, чтобы починить его, но ремонт был столь же ненадежен, поскольку вскоре оно опять сломалось». Подобные «механические» проблемы делали дорогу из Москвы в Санкт-Петербург наглядной иллюстрацией развития, продвижения от варварства к цивилизованности, демонстрируя, что ожидает русских крестьян с их топорами и армянина с его луком.
Отсталость русских крестьян в области механических наук по сравнению с другими европейскими народами видна даже поверхностному наблюдателю. По мере приближения к Петербургу, вблизи цивилизованных областей Европы, деревни содёржали все больше и больше удобств, и жители были лучше знакомы с необходимыми искусствами…Доски были реже расщеплены топором, и нам чаще попадались ямы для пилки досок, – мы уже было сочли их редкостью; жилища были более просторными и удобными, в них имелись большие окна и, как правило, дымоходы; там также было больше мебели. …Тем не менее они крайне незначительно продвинулись на пути к цивилизованности, и мы наблюдали множество проявлений глубочайшего варварства [74]74
Ibid., II. P. 62, 64, 67, 72.
[Закрыть].
Присутствие мебели и использование пилы были важными признаками, поскольку они делали уровень цивилизованности видимым для путешественников, даже для «поверхностных наблюдателей». Сегюр обнаружил в Санкт-Петербурге, что «внешние формы европейской цивилизованности» скрывали незаметное поверхностному наблюдателю наследие прошлого, но Кокс, еще по дороге в Санкт-Петербург, различил «глубочайшее варварство» даже во внешних формах. В действительности его наблюдения подразумевали шкалу относительной цивилизованности, схему развития от глубочайшего варварства к обычной отсталости, постепенно приближаясь к цивилизованности как таковой. Продвижение России по пути к цивилизованности совпадало с его собственным продвижением по дороге на Санкт-Петербург, на северо-запад. Степень цивилизованности в России измерялась относительно «других европейских народов», проживающих в «более цивилизованных областях Европы». Таким образом, в сознании эпохи Просвещения складывалась карта распространения цивилизованности в Европе.
Новгород пробудил было ожидания путешественников, поскольку «на некотором удалении этот город представлял собой великолепное зрелище». Он оказался, однако, еще одной потемкинской деревней, где «наши ожидания были обмануты», и Кокс отозвался о городе точно так же, как о Кракове и Варшаве: «Ни одно другое место не вызывало во мне столько грустных размышлений о падшем величии». В Новгороде Коксу пришлось оставить свою карету, «разбитую плохими дорогами», и продолжить свой путь в Санкт-Петербург в чрезвычайно неудобной русской повозке (кибитке). «Местность, по которой мы проезжали, не могла облегчить наши страдания», писал он, «отвлечь наше внимание от нас самих и обратить его на окружающие нас виды». Путешественники продвигались вдоль «мрачной дороги» через «печальный в своем однообразии» лес. Затем, «внезапно», Кокс увидел возделанную землю, «оживленный домами пейзаж», дорога улучшилась и стала сравнимой с «лучшими английскими шоссе», и в конце просеки открылась «панорама Петербурга, предмет наших стремлений, где наши испытания подходили к концу» [75]75
Ibid., II. P. 77, 91–94.
[Закрыть]. Цивилизованность, пункт конечного назначения, наконец показался в виду.
В своих размышлениях о Санкт-Петербурге Кокс сразу же обратился к теме его недавнего основания: «Прогуливаясь по этой столице, я был охвачен удивлением при мысли, что недавно, в начале этого века, место, на котором теперь стоит Петербург, было занято болотом и несколькими рыбачьими хижинами». Перенос Петром двора из старой столицы в Москве в новую столицу в Санкт-Петербурге повторял в глазах Кокса проделанное им самим путешествие. Царь стремился к «внутренним улучшениям» в России, «приблизив столицу к более цивилизованным областям Европы», чтобы «содействовать собственному намерению цивилизовать своих подданных» [76]76
Ibid., II. P. 97–98.
[Закрыть]. Наблюдения путешественников, таким образом, подводили итог успехам на поприще цивилизации не только отдельных «дикарей», но России в целом. Опасность, описанная в географических координатах, состояла в том, что «если двор вернется в Москву и ослабит связи с европейскими державами прежде, чем во нравах этого народа произойдут существенные изменения, то Россия быстро вернется к своему первоначальному варварству». Раз уподобившись географическому направлению, цивилизованность становится для Кокса обратимым процессом. Даже Петербург, недавно построенный в «трясине», в «низком и болотистом месте», и «подверженный наводнениям», вплоть до «полного затопления», оказывается уязвимым с точки зрения географии [77]77
Ibid., II. P. 107.
[Закрыть].
Пока же петербургские особняки были, согласно Коксу, обставлены «столь же элегантно, как парижские или лондонские». Он встречал дам, носивших «высокие прически по парижской и лондонской моде зимы 1778 года». Для Кокса внешние проявления цивилизованности, так же как отсталости и варварства, вновь свелись к стилю причесок, и Санкт-Петербургу предстояло выдержать сравнение с двумя европейскими столицами. Однако при дворе Коксу удалось обнаружить «следы азиатской помпезности, смешанные с европейской утонченностью» [78]78
Ibid., II. P. 104, 134.
[Закрыть]. В конце концов, он находился в Восточной Европе.
Это становилось очевидным, как только он переводил свой взор с аристократии и придворных на «простой народ за работой». Он был поражен тем, что на них «мороз как будто не действовал», даже если их бороды были «покрыты комками льда». Их овчинные одежды казались хорошо приспособленными к холоду, а голые шеи «надежно защищены бородами». Кокс был поражен, увидев женщин, которые стирали одежду в Неве и делали проруби с помощью топоров. Овчины, бороды и топоры складывались в знакомую картину. Кокс наблюдал за кучерами и слугами, ждавшими на морозе своих господ и раскладывавшими костры, чтобы не замерзнуть насмерть. Эта сцена была описана как произведение искусства: «Я с удовольствием представлял себе живописные группы русских в их азиатских одеждах, с длинными бородами, собравшихся вокруг огня» [79]79
Ibid., II. P. 121–122.
[Закрыть].
Как Кокс обнаружил на придворных маскарадах, живописность достигалась благодаря костюмам. На этих маскарадах «туземцы низкого происхождения появлялись в костюмах их провинций», таким образом «демонстрируя некоторые костюмы, которые действительно носят различные обитатели Российской империи». Он наблюдал «такое разнообразие причудливых фигур, какое в других странах самое буйное воображение едва ли может изобрести и для маскарада». В Москве, расположенной между Европой и Азией, ощущение «разнообразия» создавалось благодаря «разнородной архитектуре». В Санкт-Петербурге «разнообразие» достигалось благодаря костюмам: Восточная Европа была для Кокса изобретена «самым буйным воображением… для маскарада» в других странах – например, в Англии и во Франции. Восточная Европа могла быть фантастической или смешной, но главное, она была «изобретена», и честь этого изобретения принадлежала Европе Западной. Ее живописность не ограничивалась архитектурой и платьем, а относилась и к населявшим ее народам. Здесь также преобладала «разнородность»: «Путешественник, посещающий дома русских дворян, бывает поражен разнообразием лиц и телосложений среди их слуг и домочадцев; русские, финны, лапландцы, грузины, черкасы, поляки, татары и калмыки» [80]80
Ibid., II. P. 140, 156.
[Закрыть]. Восточная Европа проявлялась не только в этнографически значимых деталях костюмов и причесок, но и в расовых признаках, в чертах лица и цвете кожи. Даже в Санкт-Петербурге, соседствующем с «более цивилизованными областями Европы», путешественнику было достаточно лишь перевести свой взгляд со светских дам на их слуг, чтобы понять, что Восточная Европа была разнородным смешением примитивных народов.
«Места, вовсе у нас неизвестные»
16 января 1717 года леди Мэри Уортли Монтэгю, готовясь покинуть Вену и отправиться в Константинополь, куда ее мужа назначили английским послом, с волнением писала своей сестре: «Теперь, дорогая сестра, я расстанусь с вами – надолго и с Веной – навсегда. Я намереваюсь завтра начать путешествие через Венгрию, несмотря на крайний холод и глубокий снег, которые бы остановили и куда более отважного человека». Леди Мэри была не в ладах с орфографией, но эмоциональность этого эпистолярного прощания подчеркивала значимость границы, которую ей предстояло пересечь, неизбежность «расставания» в краю, где нельзя положиться даже на почту. Отъезд леди Мэри из Вены в Венгрию в начале XVIII века сопровождался зловеще-драматическими предчувствиями, напоминая отъезд Сегюра из Берлина в Польшу в конце того же столетия. Она тоже отклонилась от наиболее удобного маршрута, из Англии в Константинополь по морю, и расставалась с Веной «навсегда», поскольку, несмотря даже на приглашение императорской четы Габсбургов, не собиралась возвращаться по суше: «Их императорские величества пригласили меня посетить Вену на обратном пути, но я не собираюсь вновь так себя утомлять». На самом деле она могла только предвкушать это утомление, поскольку само путешествие еще не началось. Отправляясь на восток, и из Вены, и из Берлина, путешественники в XVIII веке испытывали волнение. «Прощай, дражайшая сестра, – писала леди Мэри, – я дам о себе знать, если переживу это путешествие». Ее особенно беспокоило «утомление, ожидающее моего несчастного ребенка», поскольку она путешествовала со своим сыном, еще не достигшим четырехлетнего возраста [81]81
Montagu Lady Mary Mortley.The Complete Letters of Lady Mary Wortley Montagu, ed. Robert Halsband, Vol. I (1708–1720) (Oxford: Claredon Press, 1965). P. 293–296.
[Закрыть].
Опасения леди Мэри нельзя объяснить ни удаленностью от Англии, ни особенной хрупкостью английских аристократок, поскольку ее страхи разделяли и сами венцы, у которых восприятие Восточной Европы как некоей бездны обострялось географической близостью Венгрии. «Дамы, с которыми я здесь познакомилась, так хорошо ко мне относятся, что, встречая меня, всякий раз плачут, поскольку я твердо решилась предпринять это путешествие», – писала она. «Всякий, кого я встречаю, пугает меня все новыми трудностями». Даже принц Евгений Савойский, одержавший свои победы как раз в тех местах, через которые пролегал ее маршрут, предупреждал леди Мэри о «пустынных равнинах, покрытых снегом, где холода столь жестоки, что многие замерзают насмерть». Она понимала, что говорит со знатоком тех краев: «Признаюсь, эти ужасы произвели на меня очень глубокое впечатление, поскольку я верю, что он говорит мне всю правду, как она есть, и никто не осведомлен лучше его». Именно победы принца Евгения на протяжении двух последних десятилетий XVII века позволили Габсбургам освободить Венгрию из-под власти Оттоманской империи. В 1717 году он вновь замышлял кампанию против турок, которой суждено было завершиться его самым громким триумфом – взятием Белграда. Леди Мэри притворялась, что была напугана его предупреждениями, но в ее письме из Вены Александру Попу «ужасы» Восточной Европы почти обращаются в шутку: