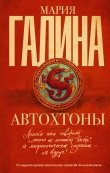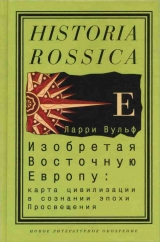
Текст книги "Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения"
Автор книги: Ларри Вульф
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 38 страниц)
В своем лингвистическом предисловии Пейсоннель стремился доказать, что славянский не был родным языком коренных жителей адриатической Иллирии, но его привнесли варвары из-за Дуная. Их нашествия определили очертания славянского лингвистического ареала в античной истории, который легко можно было обнаружить и в современности: «В Европе на нем говорят в Далмации, Либурнии (или Хорватии), то есть в западной части Иллирии, в Западной Македонии, в Эпире, Боснии, Сербии, Болгарии, России, Московии, Богемии, Польше, Силезии; он жив еще и в некоторых странах Азии». Во всех этих землях, согласно Пейсоннелю, говорят на родственных диалектах одного языка; исследователь, правда, исключил из славянской группы венгерский язык, связывая его корни с татарским или турецким и предполагая, что зародился он в Сибири. Лингвистические поиски истинного происхождения славянского языка вновь сводились к «распутыванию» Восточной Европы; столько народов, «объединенных общим именем славян, теснили и сменяли друг друга», что все «перемешалось и перепуталось». Пейсоннель был готов «разобраться в этом хаосе настолько, насколько позволят» его «разыскания в области славянского языка» [749]749
Peyssonnel.P. vii – ix, xv – xvi.
[Закрыть]. Эта формула непреодолимо подталкивала исследователей в XVIII веке к открытию Восточной Европы, и хотя язык мог служить, и действительно служил, ключом к запутанному коду, Пейсоннель, в своих поисках корней славянского языка переводил этот предмет на новый уровень контекстуального хаоса. Ссылаясь на Тацита, он заканчивает свои поиски бессмысленно всеобъемлющей отсылкой к древним сарматам, «которые посредством множества набегов заселили, под общим именем славян, Польшу, Россию, Моравию, Венгрию и все те земли, где их язык до сих пор жив» [750]750
Ibid. P. xxxvi – xl.
[Закрыть]. Наименование «Сарматия», в «Древней географии» д’Анвилля обозначавшее земли Восточной Европы, для Пейсоннеля, писавшего историю этих земель в античности, также служило наиболее общей этнографической рубрикой.
Лингвистическую схему Восточной Европы Пейсоннель изображал в виде концентрических окружностей. В центре находились Трансильвания и Венгрия, где говорили на языке венгров, «происходивших от варваров Туркестана». Далее следовала окружность, скорее полукружье, состоявшее из Молдавии и Валахии, которые дугой располагались вокруг Трансильвании, где говорят на «разновидности латыни, засоренной смесью из всех варварских языков, поочередно заражавших эту страну». Славянский язык образовывал последнюю, самую большую окружность, обрамлявшую все прочие и определявшую протяженность Восточной Европы. Эта схема, искажавшая географию сведением ее к геометрии, показывает, как эффективно можно использовать язык в качестве аналитического критерия, конструируя внутренне однородный ареал. Пейсоннель предложил также «новое изображение славянских народов», сразу же и с легкостью распутывая тот хаос, который сам некогда с такими усилиями описывал: «Нет более нужды обращать внимание на различное происхождение этих народов, совершавших в прошлые века все те набеги, о которых я достаточно подробно рассказывал; их всех надлежит теперь считать славянами» [751]751
Ibid. P. 9–10, 71.
[Закрыть]. По всей видимости, Восточная Европа находилась в глазах самого смотрящего и создавалась за счет возможности сосредоточиться на тех или иных деталях, возможности на что-то обращать или не обращать внимание, за счет ошибки зрения – или, быть может, с введением лингвистического критерия речь шла уже об ошибке слуха.
Если Пейсоннель понял, что славянский язык может стать структурообразующей особенностью Восточной Европы, то Пьер-Шарль Левек был первым французом, вполне осознавшим, что свободное владение этим языком необходимо для изучения и древней, и новой истории этого региона. Его «История России» вышла в Париже в 1782 году, тогда же, когда Рюльер начал публичные чтения отрывков из своей истории Польши. Эти труды двух современников стали историографическими шедеврами французского Просвещения в области изучения России и Польши и сохранили свое значение в XIX веке. Книгу Рюльера опубликовали лишь в 1807 году, когда Наполеон основал Великое Герцогство Варшавское, Левек же был переиздан сначала в 1800 году, а позже еще раз – в 1812-м, когда император вторгся в Россию. Однако если Польша в изображении Рюльера была по большей части плодом научных разысканий, проведенных в Париже, то Левек вел свои исследования непосредственно в России. Он отправился туда в 1773 году, одновременно с Дидро, даже взял у него рекомендации, и задержался в стране намного дольше великого философа, вернувшись в Париж лишь в 1780 году. Левек преподавал литературу в Санкт-Петербурге в военной школе, не оставляя своих научных трудов, сделавших его лучшим французским славистом своего века. В предисловии к «Истории России» он сам довольно высоко оценил свои академические заслуги:
Напрасно француз будет задаваться целью написать историю России, оставаясь в своем парижском кабинете или ограничившись разысканиями в обширнейших собраниях наших библиотек…. Следует поехать в Россию, приговорить себя к нескольким годам упорных и кропотливых занятий, выучить не только современный русский язык, но и древний славяно-русский диалект, на котором написаны все летописи. … Именно так я и поступил [752]752
Levesque Pierre-Charles.Historié de Russie. Vol. I. Hambourg; Brunswick: Chez Pierre-François Fauche, 1800. P. viii – ix.
[Закрыть].
Такая подготовка позволила Левеку не только написать полную историю России, но и составить вступление «Славяне в древности». Тот лингвистический ареал, который так неопределенно описан Пейсоннелем, приобретал в труде Левека некую культурную однородность благодаря исследованиям религиозных мифов.
Рюльеру в «Польской анархии», в общем-то, нечего сказать о древней истории, и он просто объявил поляков и русских ветвями одного народа, «который, под общим именем словенов ( Slovene), или славян ( Slav), расселился двенадцать веков назад по всему востоку Европы». Напротив, Левеку в его «Истории России» есть что сказать, и его концепция совсем не столь проста. Он не стал отождествлять русских со славянами, а предположил, что из-за схожести языка и обычаев, а также из-за древности источников «их стали путать со славянами». Самих же славян «древние путали со скифами». Левек считал, что славяне «пришли с Востока» и остановились в России, ставшей «их первым местом обитания в Европе». Они могли обрушиться на Римскую империю как «северные» варвары, но по своему изначальному происхождению они, согласно Левеку, относятся к варварам «восточным». Племена, вторгшиеся в империю, были далекими предками тех, кто «сейчас населяет Богемию, Болгарию, Сербию, Далмацию, часть Венгрии», а также Померанию и Силезию в Германии. Те же, кто остался в России и Польше, разделились на племена: «Ляхи ( Lekhs) на берегах Вислы, поляне на берегах Днепра, полотчане на берегах реки Полоты, впадающей в Двину, дреговичи между Двиной и Припятью» [753]753
Rulhière Claude Carlomande. Revolutions de Pologne. Vol. I. Ed. Christien Ostrowski. Paris: Librairie de Firmin Didot Frères, 1862. P. 1–2; Levesque.I. P. 1–6.
[Закрыть]. Он предлагал всеобъемлющую систему античной этнографии, организованную вокруг географических ориентиров того региона.
«Многие полагают, – писал Левек, – что, взойдя на трон, Петр I нашел вокруг себя лишь пустыню, населенную дикими животными, которых он сумел превратить в людей» [754]754
Levesque.I. P. 55–56.
[Закрыть]. Проследив русскую историю вплоть до самых доисторических древнеславянских племен, Левек переходил к изложению русской истории, постепенно подбираясь к царствованиям Петра I и Екатерины И, а не начиная с них. Таким образом, он стремился предложить взгляд более широкий, нежели у старшего поколения просветителей, особенно у Вольтера. Влиятельность традиционной точки зрения была так сильна, что Гримм в своей «Correspondance Littéraire» отзывался об «Истории России» Левека со скукой: «Нетрудно догадаться, что в древней истории России мало интересного; эти ранние эпохи являют лишь образцы войн и диких обычаев» [755]755
Mohrenschildt, Dmitri von.Russia in the Intellectual Life of Eighteenth-Century France. New York: Columbia Univ. Press, 1936. P.227.
[Закрыть]. Даже после того, как историография стала более восприимчива к более раннему периоду восточноевропейской истории, петровская парадигма по-прежнему привлекала внимание – и не только историков России. В «Общей истории Венгрии» Клода-Луи де Саси, вышедшей в 1780 году, почти в одно время с «Историей России» Левека, изложение шло «от первого нашествия гуннов до наших дней». Противопоставляя Венгрию и Францию как «две крайние точки Европы», Саси косвенно признавал существование на континенте двух центров притяжения, разделявших его на Восточную и Западную Европу. На этом фоне совершенно логично звучали его слова о том, что правление Марии-Терезии, умершей в 1780 году, стало для Венгрии «эпохой революции, подобной той, которую совершил Петр Великий в России». Эта «революция» состояла в привнесении цивилизации: «В стране стали процветать полезные ремесла; даже науки стали распространять свой благотворный полусвет ( demi-jour)» [756]756
Sacy Claude-Louis de.Histoire générale de Hongrie: Depuis la première invasion des Huns, jusqu’à nos jours. Vol. I. Yverdon, 1780. P. vii, xxxi.
[Закрыть]. Понятие demi-jourхорошо отражало представление, что Восточная Европа находится посередине между мраком варварства и светом цивилизации. Благодаря этому представлению история древних варварских нашествий, в том числе гуннов и славян, а также скифов и сарматов, стала неотъемлемой частью образа Восточной Европы в сознании Просвещения.
«Древнее и нынешнее состояние Молдавии»
В своей напоминающей концентрические круги схеме славянского мира Пейсоннель выделял Венгрию и румынские княжества Молдавию и Валахию как лингвистически своеобразные области. Если он в 1750-х годах изучал в Крыму влияние языка и древней истории на современное состояние провинции, то д’Отрив занялся тем же в 1780-е годы в Молдавии. С 1785 по 1787 год он официально служил французским секретарем и неофициально – французским консулом в Яссах при господаре, правителе Молдавии, находившемся в подданстве оттоманского султана. Одним из его предшественников в секретарской должности был Жан-Луи Карра, будущий месмерист и революционер, написавший «Историю Молдавии и Валахии», которая начиналась утверждением, что «Франция, Англия, часть Германии и Италии занимают центр континента, и из этого центра распространяются лучи, освещающие другие области земного шара». Молдавия и Валахия, согласно Карра, могли бы быть с успехом колонизованы, как не очень отдаленные районы земного шара: «ведь расстояние не столь велико, и можно полагаться на все ресурсы цивилизованной Европы». Однако распространение света из Западной Европы в Европу Восточную предполагало и обратный процесс – получение известий и научных знаний о таких землях, как Молдавия и Валахия; Карра счел нужным соответствующим образом прояснить отношения между странами и народами.
Не эти варварские, невежественные народы должны первыми узнать нас; напротив, это наша задача… разгадать ( démêler) характер, таланты и даже физиономию ( physiognomy) современных народов, которые помещены на этой земле как будто для того, чтобы служить объектами наших наблюдений и критических замечаний. Итак, мы должны узнать эти народы еще до того, как они сами смогут познать себя и, в свою очередь, захотеть узнать нас [757]757
Iorga.P. 104–108; Darnton Robert.Mesmerism and the End of the Enlightenment in France. Cambridge, Mass.; Harvard Univ. Press, 1968. P. 98–100; Carra Jean-Louis.Historié de la Moldavie et de la Valachie. Jassy: Socit Typographique des Deux-Points, 1777. P. xvi – xvii, 220.
[Закрыть].
В 1787 году д’Отрив, пробыв два года в Яссах, написал так и не опубликованную «Записку о древнем и современном состоянии Молдавии», составленную в эпистолярной форме и обращенную к новому фанариотскому господарю Александру Ипсиланти, именуемому здесь «мой государь» (« Mon Prince»).
Адресованная князю записка выглядит как наставление в просвещенном абсолютизме, и автор обещает господарю, что в истории он сможет почерпнуть «свет и вдохновение великих образцов». Однако когда д’Отрив обращается к древней истории и ее влиянию на обычаи молдавского народа, тон его напоминает скорее «Соображения» Руссо, нежели письма Вольтера.
Если бы я, мой государь, принадлежал к народу, которым Вы будете править, ради Вас я принял бы на себя роль его историка, посвятив свой труд прежде всего тому, чтобы поднять этот народ в ваших глазах, чтобы ответить на клевету и предубеждения, пытающиеся принизить его, как будто он недостоин и не способен насладиться благом счастливого правления. Я бы не побоялся объявить всем народам, которые окружают нас и так гордятся своей древней генеалогией, что из всех них мы сохраняем в своих обычаях и законах наибольшую верность обычаям и законам своих предков-основателей. … Мы единственный народ, который, не являясь неотъемлемой частью огромной империи, но платя дань, сохраняет свое имя и гражданские институты. … Мы, наконец, единственный народ, хранящий законы и язык первейшего народа во всей вселенной, как свидетельства родства, которые показывают наше благороднейшее происхождение; некоторые их обычаи сохраняются у нас как народные традиции, и, наконец, мы храним драгоценные и неизгладимые следы простоты как древних римлян, покоривших вселенную, так и никем не покоренных скифов [758]758
Hauterive Alexandre-Maurice Blanc de Lanautte, comte d’.Mémoire sut l’état ancien et actuel de la Moldavie: Présenté S.A.S le prince Alexandre Ypsilanti, Hospodar régnant, en 1787, par le comte d’Hauterive. Bucharest: L’Institut d’arts graphiques Carol Gobi, 1902. P. 20–22.
[Закрыть].
Риторическое отождествление себя с молдавской нацией («мы единственный народ»), самоуверенное признание этого народа «достойным» и «способным» и, главное, оценка древних обычаев как «народных традиций» поразительно напоминают призыв Руссо к полякам. «Соображения» были опубликованы в Париже в 1782 году, и д’Отрив вполне мог прочитать их до своего отъезда в Константинополь в 1784 году. Руссо считал, что среди всех стран Европы лишь Польша хранит отблеск древнего духа греков и римлян, что именно «национальные установления» создают «национальную физиономию», отличающую поляков от других народов, и что поэтому совершенно необходимо сохранять «древние обычаи», главная ценность которых – в «простоте нравов» [759]759
Rousseau Jean-Jacques.Considerations sure le gouvernement de Pologne // Discours sur l’économie politique, Projet de constitution pour la Corse, Considerations sure le gouvernement de Pologne. Ed. Barabara de Negroni. Paris: Flammarion, 1990. P. 170–17.
[Закрыть]. Так как Восточная Европа в целом предоставляла обширный материал для теоретических импровизаций на тему национальной самобытности, то и поляков, и молдаван можно было втиснуть в одну интеллектуальную схему.
Надо сказать, что д’Отрив обладал гораздо большими познаниями в области древней и новой истории Восточной Европы, нежели Руссо. Он предлагал читателям детальный указатель «народов, которые окружают нас» (то есть молдаван), сообщавший, что в древности «здесь прошли даки, гунны, готы, визиготы, остроготы, авары, вандалы и куманы ( Comans)», а в менее отдаленные времена «правителями этой земли по очереди побывали болгары, венгры, трансильванцы, казаки, русские и поляки» [760]760
Hauterive.Mémoire. P. 42–44; Hauterive Alexandre-Maurice Blanc de Lanautte, comte d’La Moldavie en 1758: faisant suite au journal d’un voyage de Constantinople à Jassy // Mémoire sut l’état ancien et actuel de la Moldavie: Présenté S.A.S le prince Alexandre Ypsilanti, Hospodar régnant, en 1787, par le comte d’Hauterive. Bucharest: L’Institut d’arts graphiques Carol Gubl, 1902. P. 357–358.
[Закрыть]. Почти за двадцать лет до того Вольтера приводила в восторг мысль о том, что войска Екатерины перейдут Дунай и завоюют Молдавию; теперь противодействие российскому влиянию входило в обязанности д’Отрива как агента французского Министерства иностранных дел. Основную цель своей «Записки» он видел в том, чтобы развенчать в глазах любого молдаванина, и в особенности господаря, «безумную надежду на улучшения при смене одного господина на другого» [761]761
Hauterive.Mémoire. P. 236.
[Закрыть]. Это было всего лишь политической задачей, однако д’Отриву в «Записке» удалось замечательно выразить политические идеи с помощью рассуждений о языковом родстве и древней истории.
Если Пейсоннель был поражен, услышав, как Валахию называют «романской землей», то д’Отрив с готовностью воспринимал такую «генеалогию» и «свидетельства родства», благодаря которым Молдавия и Валахия оказывались римскими землями, то есть Румынией. Язык этих народов он считал «римским», то есть романским, языком «первейшего народа во вселенной», а в самих молдаванах ему виделись «неизгладимые черты» древних римлян – но также и древних скифов! Такое скрещение, породившее современных молдаван, было прекрасным культурным противоядием от российского империализма, так как ни скифы, ни римляне славянами уж точно не были. Кроме того, помещая Молдавию исторически между западной цивилизацией римлян и восточным варварством скифов, эта концепция отлично отражала создаваемую в XVIII веке концепцию Восточной Европы.
Д’Отрив подтверждал «братство народов, живущих между Дунаем, Днестром и Черным морем и говорящих, как в Италии, на наречии, несомненно восходящем к латыни». Он воспевал связь молдаван с римлянами и, в руссоистском ключе, хвалил молдавских бояр за «приверженность старинным обычаям, строгий нрав и не слишком большую склонность к европейской цивилизации, которая, если не подействует мгновенно и всеобъемлюще, лишь добавляет к старым порокам новые» [762]762
Ibid. P. 176; Hauterive.La Moldavie. P. 359.
[Закрыть]. Он не уточняет, относятся ли эти древние обычаи, делающие молдаван устойчивыми к влиянию европейской цивилизации, к наследию Римской республики или достались от скифской орды. В другой записке, не адресованной напрямую господарю, д’Отрив признается, что, когда он в 1785 году прибыл в Молдавию, ему самому мешал недостаток европейской цивилизации, вызывая у него раздражение: «Вначале облик казался мне варварским, одежды нелепыми, военная форма – лохмотьями, дома – грязными норами, священники – нищим и лицемерным сбродом, а язык ужасающим ( épouvantable). Со временем мои глаза и уши стали привыкать к этому» [763]763
Hauterive.La Moldavie. P. 331–332.
[Закрыть]. После возвращения из Молдавии в 1787 году, д’Отрив в 1792-м получил свое следующее дипломатическое назначение, во французское консульство в Нью-Йорке.
Молдавский язык, который вначале показался д’Отриву таким «ужасающим» на слух, стал важным предметом рассмотрения в его «Записке»; в особенности исследователя занимало его античное происхождение. Хотя в более раннем донесении от 1785 года он называет молдавский «наречием, несомненно восходящим к латыни», в записке 1787 года появляется более сложная схема языкового родства, в какой-то степени предвосхитившая современные гипотезы о происхождении румынского языка. Не говоря более о диалекте, восходящем к классической латыни или ставшем результатом ее вырождения, д’Отрив предположил, что молдавский был «языком римского простонародья», указывая в качестве доказательства на отношения между артиклями и существительными. Такое представление о языке означало также, что Молдавия оказывалась посередине между цивилизацией и варварством.
И все же это язык римлян, хотя и не язык Цицерона и века Августа. Он восходит к куда более древней эпохе. Молдавский язык – это язык солдат Ромула; он сохранил жесткость их нравов и грубость их манер. Те изменения, которые в процессе развития римской цивилизации смягчили просодию благозвучными ударениями и мелодичными окончаниями, не коснулись простонародного языка, или, по крайней мере, крестьяне не участвовали в этих событиях цивилизации. В своем наречии они сохранили варварство ранних веков [764]764
Hauterive.Mémoire. P. 252, 258.
[Закрыть].
Таким образом, для д’Отрива молдавский – язык, более древний, чем латынь, но менее цивилизованный. Он настаивал, что язык – это важнейший фактор сохранения национальной самобытности, так как обычаи, законы и религия могут измениться под воздействием обстоятельств, но «никто не может принудить народ забыть свой язык» [765]765
Ibid. P. 264–266.
[Закрыть].
В области политики д’Отрив постоянно указывал, что Российская империя представляет собой опасность; вполне естественно, что оттуда же исходила, с его точки зрения, и главная угроза молдавскому языку. Он беспокоился, что в Молдавии в православных церквях служат на церковно-славянском; кроме того, Россия поощряла также использование в письменном молдавском кириллицы вместо латинского алфавита. Чтобы показать, как мало подходит кириллица для молдавского языка, д’Отрив рисует гипотетическую и абсурдную, с его точки зрения, возможность кириллического письма на французском: «Представим, что Людовик Святой привез из Палестины славянский алфавит и дал его французам. Тогда мы бы вместо mortговорили moart.… Наш язык не стремился бы к постепенному смягчению, но становился бы все более экспрессивным и жестким» [766]766
Ibid. P. 266–270.
[Закрыть]. Возможно, в этом пассаже д’Отрив хочет не столько дать совет молдавскому господарю, сколько развлечь своих будущих коллег из королевской Академии надписей и изящной словесности («наш язык»). Как бы там ни было, записка увидела свет лишь в XX веке – в 1902 году, когда ее представили румынской Академии в Бухаресте. Когда Молдавия и Валахия объединились в 1859 году в независимую Румынию, латинский алфавит был утвержден для письменного румынского, но в Молдавской Советской Социалистической Республике снова ввели кириллицу. Рассматривая случай Молдавии в контексте Восточной Европы, д’Отрив пришел к новому, современному взгляду на взаимодействие международной политики, национальной самобытности и языка.
Д’Отрив говорит о молдавском как о «языке солдат Ромула», а устанавливая связи между языком и этнографией, вспоминает о солдатах Траяна, завоевавшего Дакию в начале II века. Трактуя буквально идею Руссо о «национальной физиономии», д’Отрив, глядя на молдаван, видит в них солдат с колонны Траяна в Риме:
Кода XVIII век открывал Восточную Европу, колонна Траяна несла важную и сложную смысловую нагрузку, она оказалась своего рода тотемом для западноевропейских путешественников. Сегюр прибыл в Россию в 1785 году, тогда же, когда д’Отрив приехал в Молдавию. Глядя на русских, Сегюр увидел в них оживших «скифов, даков, роксоланов и готов, наводивших некогда ужас на римлян»; это были «полудикие фигуры с барельефов колонны Траяна в Риме», которые возродились и оживают «перед вашим взором» [768]768
Ségur Louis-Philippe, comte de.Mémoires, souvenirs, et anecdotes, par le comte de Ségur. Vol. I // Bibliothèque des mémoires: relatif à l’histoire de France: pendant le 18e siècle. Vol. XIX. Ed. M.Fs. Barrière. Paris: Librairie de Firmin Didot Frères, 1859. P. 329–330.
[Закрыть]. Сегюр, подобно д’Отриву, постоянно вспоминает об этой колонне, путешествуя по Восточной Европе. Д’Отрив, навязывая молдаванам национальную самобытность, отождествлял их с римскими солдатами, изображенными на колонне, которые отличались «жесткостью нравов и грубостью манер». Это, конечно, лишь одна половина предков, которых д’Отрив приписывал молдаванам; другая половина была скифской, а значит, откровенно варварской. Сегюр же, глядя на русских, думал не о римских солдатах, изображенных на колонне, а о пленных варварах, в том числе о даках и скифах. Воззрения Сегюра и д’Отрива дополняли друг друга, возможно немного переплетаясь и путаясь, но восходя по спирали барельефов к вершине колонны. Кто это, римские солдаты или скифские варвары? Именно в Восточной Европе эти образы оживали «перед вашим взором», и мир древних варваров представал перед современным этнографом.
«Толпы дикарей»
Труд Гиббона «Закат и падение Римской империи», один из самых значительных и долговечных литературных памятников Просвещения, четко обозначил взгляд науки XVIII века не только на римскую цивилизацию, но и на варваров, приблизивших ее закат и падение. Двигаясь через Восточную Европу, северные и восточные варвары, согласно классификации Пейсоннеля, обрушились на Рим, а затем на Константинополь. Гиббон посетил Рим, где ему и явилось его научное откровение, в 1764 году, то есть за год до выхода в свет труда Пейсоннеля о варварах Дуная и Черноморского побережья. Родившийся в 1737 году Гиббон был на десять лет моложе Пейсоннеля и приходился почти ровесником Левеку, родившемуся в 1736 году. Всерьез работать над «Закатом и падением…» Гиббон стал в начале 1770-х, а уже в 1776 году вышел в свет первый том, принесший автору сенсационный успех. Следующие два тома были опубликованы в 1781 году, когда «История России» Левека должна была вот-вот выйти в Париже, а последние строки своего шедевра Гиббон дописывал в 1787 году, когда д’Отрив уже сочинял свою записку о Молдавии. Последние тома вышли в следующем, 1788 году. Таким образом, путь Гиббона в науке совпал по времени с деятельностью Пейсоннеля, Левека, д’Отрива; важно отметить, что территории, историей которых они занимались, пересекались географически. Основное внимание Гиббона в «Закате и падении…» сосредоточено на Риме и Константинополе, однако рядом неизбежно появлялись географические и этнографические детали, относящиеся к Восточной Европе, причем к середине и заключительным томам этих деталей все больше. Несомненно, эта книга была самым читаемым и влиятельным исследованием Восточной Европы античного периода.
Гиббон обращается к Восточной Европе в самом начале своего колоссального исторического труда, повествуя о завоевании Траяном Дакии и «полном покорении варваров». Далее он уточняет очертания захваченной провинции:
Ее естественными границами были Днестр, Тисса ( Teyss), или Тибискус ( Tibiscus), нижний Дунай и Эвксинское море. Следы военной дороги можно и сейчас еще найти на пути от берегов Дуная к окрестностям Бендер, места, ставшего знаменитым в новой истории и служащего нынешней границей между Турецкой и Российской империями [769]769
Gibbon Edward.The Decline and Fall of the Roman Empire. New York: Modern Library, n.d. I. P. 6.
[Закрыть].
Перечисляя эти географические пункты, Гиббон переносится в ту же область, о которой повествует в своей истории Пейсоннель, – между Дунаем и Черным морем. Подобно д’Отриву, он с легкостью переходит от «древней» к «нынешней» истории Восточной Европы, упоминая события новой истории и современные ему империи. Судя по тону повествования, можно даже подумать, что Гиббон сам посетил остатки римской дороги, которая вела от Дуная к Днестру, однако примечание указывало, что это наблюдение принадлежит д’Анвиллю, картографу, занимавшемуся древней географией. Когда дело доходило до Восточной Европы, Гиббон был таким же «кабинетным путешественником», как и Вольтер. В сущности, когда он говорил о Бендерах как о «месте, знаменитом в новой истории», он имел в виду, что читатели наверняка знают о нем из «Карла XII» Вольтера. Именно в Бендерах, расположенных на Днестре, между Молдавией и Татарией, разбил лагерь этот король, получивший приют у татар после поражения под Полтавой. Позднее Бендеры вновь привлекли к себе внимание, когда армия Екатерины успешно осаждала их в 1770 году и Вольтер приветствовал это событие из Ферне. Эти аллюзии у Гиббона показывают, что он усвоил взгляды и стереотипы своего века, связанные с Восточной Европой.
Десятую главу первого тома, вышедшего в 1776 году, Гиббон посвятил «большому вторжению варваров», что вынудило его сделать обзор всей Восточной Европы. Речь в данном случае шла о готах. Гиббон придерживается версии об их скандинавском происхождении, хотя и намекает на еще более древние корни, лежащие в «азиатской Сарматии». Подготавливая читателей к великому «вторжению» III века, Гиббон говорит о предшествовавшей ему миграции из Швеции через Балтику – «к устью Вислы», а потом переходит к своему главному предмету – «второй миграции готов с Балтики к Эвксину». Он снова обращается к д’Анвиллю, чтобы проследить речную одиссею готов по Днепру (для него Борисфену): «Изгибы этого огромного потока, текущего по равнинам Польши и России, определяли направление их движения» [770]770
Gibbon.I. P. 211–214.
[Закрыть]. Здесь они сталкивались с разными племенами, которых Гиббон определяет как сарматские, язигами ( Jazyges), аланами и роксоланами; в конце концов готы встретились со «скифскими ордами». Таким образом, миграция готов позволяет Гиббону познакомить читателя с варварами, населявшими Восточную Европу от Балтики до Черного моря.
Интересно, что готы у Гиббона проделывают в точности тот же маршрут, по которому вслед за Карлом XII свершал свое вымышленное путешествие Вольтер, отправляясь из Швеции, пересекая Балтику, проходя через Польшу и Россию к Украине и Крыму. Вольтер использует этот маршрут, чтобы представить Восточную Европу в XVIII столетии, Гиббон – чтобы изобразить ее в III веке. Вольтер по дороге тоже сталкивается с варварами, в том числе и с сарматами: «В польских солдатах вы все еще увидите нравы древних сарматов». Гиббон говорит об Украине как о добыче, способной прельстить любого завоевателя и в древности, и в новое время: «…страна значительных размеров и необычайного плодородия, рассекаемая судоходными реками, впадающими в Борисфен с обеих сторон, и покрытая огромными и высокими дубовыми лесами». В примечании Гиббон разъясняет свое антиисторическое смешение древней и новой украинской географии: «Нынешний облик страны в точности воспроизводит древний, так как в руках казаков она все еще пребывает в своем естественном состоянии» [771]771
Ibid., I. P. 214.
[Закрыть]. В своем «Опыте о нравах» Вольтер столь же небрежно уподобляет современных казаков людям древности:
Их образ жизни ничем не отличается от древних скифов и татар на берегах Черного моря. К северу и к востоку от Европы ( l’orient de l’Europe) весь этой край живет еще совершенно сельской жизнью: это образ так называемого героического века, когда люди, располагавшие лишь необходимым, грабежом отбирали это необходимое у своих соседей [772]772
Voltaire.Essay sur les moeurs // Oeuvres complètes de Voltaire. Vol. III. Paris: Chez Furne, 1835. P. 583.
[Закрыть].
Таким образом, говоря об истории Восточной Европы, оба – и Вольтер и Гиббон – смешивают древнее и новое, новое и древнее.
Центральным персонажем тридцать четвертой главы труда Гиббона стал Аттила, вождь гуннов, и гунны, с некоторой неопределенностью отнесенные к скифам, сразу же были помещены на карту Восточной Европы: «Их победоносные орды распространились от Волги до Дуная». Портрет самого Аттилы построен на расовых характеристиках, и точкой отсчета для Гиббона служат современные варвары: «Облик Аттилы несет в себе уродливость современного калмыка; крупная голова, смуглая кожа, маленькие, глубоко посаженные глаза, плоский нос, несколько волосков вместо бороды, широкие плечи и приземистое квадратное тело, мускулистое и сильное, но искаженное непропорциональными формами». Примечание отсылало читателя к «Естественной истории» Бюффона. Антропологическое уподобление древнего скифа «современному калмыку» фактически уравнивало их в варварстве. Предположив, что у гуннов Аттилы были человеческие жертвоприношения, Гиббон делает более общий вывод об отсутствии у них цивилизации. «Скифский царь, – отмечает он, – несмотря даже на свое невежество в науках и философии, вероятно, все же мог сожалеть о том, что его неграмотные подданные не ведали искусства, которое могло бы сохранить память о его подвигах». Под этим искусством Гиббон, конечно, понимал свое искусство – искусство историка. Аттила был настолько глух к возможностям цивилизации, что даже не смог использовать римских пленных, чтобы «распространить в степях Скифии начатки искусств, которые украшают и приносят пользу». Такие представления о распространении цивилизации свидетельствуют, что, по мысли Гиббона, цивилизация могла воздействовать на варваров, ускоряя их развитие. Однако Аттила, основавший свою столицу «между Дунаем, Тиссой и Карпатами на равнине Верхней Венгрии», навсегда сохранил «простоту своих скифских предков» [773]773
Gibbon.II. P. 245–247, 254, 263.
[Закрыть]. Для Гиббона, так же как для Пейсоннеля и д’Отрива, скифский фактор был незаменимым этнографическим индикатором варварства в Восточной Европе.
Представление Гиббона о Восточной Европе наиболее полно выражено в сорок второй главе, посвященной обзору «состояния варварского мира» в VI веке и представляющей «склавонские племена и их нашествия». Начинает он с разделения народа на две половины: «Дикий народ, живший на равнинах России, Литвы и Польши или бродивший там, можно подразделить на две большие группы – БУЛГАР и СКЛАВОНОВ». Первые отождествлялись с татарами, – «нет нужды повторять несложное и всем известное описание татарских нравов». Склавоны, однако, заслуживали больше внимания; исследователь описывал их язык, национальный характер и примитивную экономику.