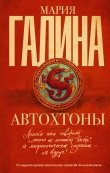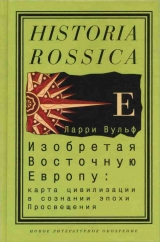
Текст книги "Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения"
Автор книги: Ларри Вульф
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 38 страниц)
В июле мадам Жоффрен писала из Варшавы д’Аламберу, что ее откровенность натолкнулась на ограничения: «Что за ужасная участь быть королем Польши! Я не осмеливаюсь сказать ему, каким несчастным я его считаю». Несчастье, видимо, следовало из самой природы его королевства, и гостье не удавалось выразить беспрепятственно и полностью именно свое недовольство Польшей. Еще до того, как попасть туда, она предсказывала, что сочтет эту страну «недостойной» своего сына, а оказавшись там, нашла ее еще менее достойной себя самой. Она писала д’Аламберу: «Все, что я видела с тех пор, как покинула свои пенаты, побуждает меня благодарить Бога за то, что я родилась во Франции, и за то, что я частное лицо» [661]661
Ségur Pierre.Le Royaume. P. 273–274.
[Закрыть]. Именно так и конструировали Восточную Европу в XVIII веке, относясь к ней свысока от имени более совершенной западноевропейской цивилизации. Мадам Жоффрен посетила Польшу лишь затем, чтобы обнаружить, как приятно быть француженкой. Кроме того, она радовалась, что была частным лицом, а не суверенным государем; это казалось бы несущественным, если бы, отправляясь в Польшу, она не возложила на себя корону Царицы Савской. Тем летом д’Аламбер получил еще одно письмо из Восточной Европы, автор которого был и вправду суверенным государем. Этим автором была Екатерина, знавшая, что мадам Жоффрен находилась в Варшаве, и воспринимавшая эту поездку как отвержение и Санкт-Петербурга, и ее самой. В августе она холодно написала д’Аламберу: «Я узнала о путешествии мадам Жоффрен уже после ее отъезда. Я никогда не предлагала и никогда не предложу ей побывать здесь», – вероятно, из-за чрезмерной «суровости климата». По возвращении в Париж мадам Жоффрен получила от Екатерины последнее, длинное письмо, в котором та хвасталась своими отношениями с Дидро и Вольтером, а также тем, что «приобрела» Фальконе [662]662
Ibid. P. 230, 461.
[Закрыть]. Ей нелегко было простить француженке, что та предпочла обнаружить все преимущества своего французского рождения в Польше, а не в России.
Хотя мадам Жоффрен и утверждала, что летом 1766 года сочувствовала «ужасному положению» польского короля, настоящие трудности у него начались только осенью, после ее отъезда. На сейме 1766 года Екатерина заблокировала его программу конституционных реформ и вызвала затяжной политический кризис, сопровождавшийся русским вмешательством во внутренние дела Польши; это привело в 1768 году к созданию Барской конфедерации, восставшей и против России, и против короля. Станислав Август был низложен, похищен, едва не убит и сохранил свою корону только благодаря победам русского оружия и лишь ценой унизительного расчленения своего королевства в 1772 году, Руссо, поддержавший. Конфедерацию и презиравший Станислава Августа за его связи с Россией, заключил в «Соображениях», что «сейчас он, пожалуй, просто неудачник». Подобно мадам Жоффрен, он жалел польского короля; подобно ей, он осмелился представить, пойдет ли ему корона, если бы он «оказался на его месте» [663]663
Rousseau.P. 259.
[Закрыть].
Хотя мадам Жоффрен и осталась недовольна своей поездкой в Польшу, по возвращении она выказала полное самообладание. Ее рассказ о прибытии в Варшаву – «как если бы» – эхом вторит рассказу Гримма о ее прибытии в Париж «так мало уставшей, словно она вернулась с прогулки». Ее путешествие, он полагал, было «просто невообразимым», особенно для женщины ее возраста [664]664
Martin.P. 76.
[Закрыть]. Первое же письмо, полученное ею в Париже от Станислава Августа накануне судьбоносного сейма, восстановило между ними эпистолярную дистанцию, вновь делая их отношения понятными для парижан и удобными для нее:
Хотя в этих словах и проглядывал намек на некоторую напряженность, сопровождавшую ее пребывание в Варшаве, уже к следующей весне стереотипы и иллюзии эпистолярного общения возобладали над неловкими воспоминаниями о непосредственной встрече. « Ma chère maman, вы уже в пяти сотнях лиг от меня, – писал король, – но дружба, эта потребность души, переносит меня к вам и заставляет меня писать так, как если бы я был рядом с вами» [666]666
Ibid. P. 276.
[Закрыть]. Переписка восстановила очарование, разрушенное непосредственной встречей.
К началу 1767 года мадам Жоффрен вновь стала поставщиком цивилизации в Польшу. Она справлялась, сможет ли мадемуазель Кларон, знаменитая французская актриса, появиться на варшавской сцене при столь неопределенной политической ситуации. Она устроила так, что Станислав Август стал получать «Correspondance Littéraire» Гримма с обзором текущих культурных новостей Просвещения. Она переслала в Варшаву копию «Велизария» Мармонтеля. Именно благодаря ей король получил бюст Вольтера, но она отказалась послать свой собственный портрет, упорно отзываясь о себе в третьем лице:
Вот что мадам Жоффрен, проживающая на улице Сен-Онорэ, отвечает по поводу портрета. Она признает, что в Варшаве, забывшись однажды от любови к своему королю, она пообещала ему оригинал ее портрета работы Натье; но по возвращении домой к ней отчасти вернулось хладнокровие, и она считает нахальством посылку своего портрета в Польшу [667]667
Ibid. P. 265–274, 294.
[Закрыть].
Она опасалась показаться «смешной», поднимая суету вокруг собственного портрета, однако те же доводы она могла бы привести и против самой поездки. Она повторила свой адрес, улица Сен-Онорэ, как бы подчеркивая, что никогда больше не отправится в Польшу, даже в виде портрета.
В конце 1767 года она признала путешествие в Польшу единственным «необычайным происшествием» в своей подробно спланированной и тщательно выверенной жизни, с еженедельными приемами художников по понедельникам и философов по средам. Она заверила Станислава Августа, что поездка все-таки была успешной:
Для меня она была вполне успешной. Я увидела моего короля, я увидела тех, кто его окружает, и, наконец, то, что я видела, я видела как следует; я довольна, что набралась смелости совершить эту поездку, и счастлива, что она прошла без всяких несчастных случаев. Вернувшись домой, я возобновила мою жизнь в обычном жанре [668]668
Ibid. P. 315–316.
[Закрыть].
Все одобрение, высказанное мадам Жоффрен в адрес Польши, заключено в сфинксоподобном бормотании «то, что я видела, я видела как следует», но и того достаточно, чтобы показать, как она горда, что непосредственно ознакомилась с этой страной. К началу 1768 года, желая выказать молодость духа, она заметила, что, вопреки «рассудку, мудрости и размышлениям», ее сердце, «быть может, вернуло бы ее опять в Польшу». На самом деле Польша стала для мадам Жоффрен, как и для Руссо, краем, куда сердце ее имеет прямой доступ. Она говорила о Станиславе Августе с приезжими из Польши и немедленно увлекалась: «Я могу поверить, что я все еще в Варшаве» [669]669
Ibid. P. 321, 329.
[Закрыть].
В 1769 году, когда политическое положение Станислава Августа становилось все более бедственным, мадам Жоффрен не могла заставить себя задуматься о Польше: «Я прячу голову в мешок» [670]670
Ibid. P. 355.
[Закрыть]. Тем не менее уже в следующем письме она строит фантастические предположения о том, что было бы, если бы она задержалась в Польше: «Нет сомнения, что, если бы я все еще была в Варшаве, все это все равно бы случилось». Политические противники короля постарались бы опорочить ее дружеские чувства к нему, дабы предотвратить любое возможное влияние с ее стороны. В конце концов, предположение, что она могла остаться в Варшаве, было менее фантастическим, чем идея, что ее присутствие изменило бы политические судьбы Польши – возможность, которую она, видимо, рассматривала, даже если и отрицала ее вероятность. При этом, благодаря своему посещению Польши, мадам Жоффрен могла претендовать на то, что в совершенстве понимает невероятно сложную политическую ситуацию в этой стране:
Хотя она и уехала как раз накануне сейма 1766 года, на котором и разразился кризис, само ее путешествие придавало Польше прозрачность, позволяя ей ясно видеть все происходящее там издалека, из Парижа, даже с мешком на голове. Руссо, конечно, стремился добиться от Польши той же прозрачности, но так никогда в Польше и не побывал. Свет Просвещения, таким образом, позволял взгляду западноевропейского философа проникать даже в самые темные углы.
Мадам Жоффрен сохранила в памяти почти фотографический образ Польши, сделанный летом 1766 года, и впоследствии считала его безупречным и не нуждавшимся ни в каких поправках. В 1770 году она отказывалась расспрашивать приезжавших в Париж поляков, «из опасения узнать о новых несчастьях». Более того, она сообщила королю: «Я не могу слышать даже имени Польши без содрогания» [672]672
Ibid. P. 365–366.
[Закрыть]. Ее ужас соответствовал общей географической сдержанности их корреспонденции, резко отличавшейся от переписки между Вольтером и Екатериной, наслаждавшихся географическими названиями с карты Восточной Европы, «которых никто до этого не слышал». Станислав Август иногда вводил такие названия в свои письма, но мадам Жоффрен не проявляла к ним ни малейшего интереса; такое безразличие вполне подходило тому, кто путешествовал через континент с закрытыми глазами, волшебным образом материализуясь уже в Варшаве. В 1768 году король упомянул, что название Барской конфедерации происходило от города Бар «в Подолии, по соседству с турками и татарами»; именно такие сведения больше всего интересовали Вольтера. Король писал мадам Жоффрен, что французский агент в Крыму подбивал турок объявить России войну [673]673
Ibid. P. 326–327, 336.
[Закрыть]. Он сообщил ей, что крестьяне на Украине восстали и совершают массовые убийства, – но такие известия были случайными и чуждыми общему духу их эпистолярного общения.
Я не могу сказать вам, выразить вам, до какой степени сердце мое проникнуто вами, вашей дружбой, и до какой степени иногда, например сейчас, когда я пишу вам, я бы хотел побеседовать с вами. Мне кажется иногда, что я вижу вас, оставляя титулы и страсти за дверями, мы садимся поболтать непринужденно, называя все вещи своими именами и смеясь над всеми теми важными несчастьями, которые нам приходится уважать [674]674
Ibid. P. 349, 379–380.
[Закрыть].
Представляя мадам Жоффрен, король почти видел галлюцинации; галлюцинации были у нее и когда она представляла себе Польшу. При этом конфедераты в Подолии, крестьяне на Украине и агенты в Крыму оставались лишь призраками за плечами у короля, о которых он забывал, пока писал письмо, а она не замечала, поскольку побывала в Варшаве, и этого с нее достаточно. В 1772 году Станислав Август объяснил ей, что Ченстохова, последний оплот конфедератов, был «маленькая крепость у границы с Силезией, известная из-за чудотворного образа Богоматери» [675]675
Ibid. P. 359, 382, 387, 432.
[Закрыть].
Приближаясь к своему семидесятилетию, мадам Жоффрен объявила Станиславу Августу: «Я ежедневно собираюсь в Польшу»; иными словами, она готовится умереть. Польша, таким образом, была метафорой для ожидавшего ее последнего путешествия. Тем не менее в 1770 году, когда Станислав Август попросил ее переслать ему в Польшу, за 500 лиг, немного парижского веселья, она ответила отказом, ибо пребывала в мрачном настроении. «Я видела в Варшаве зародыш всех ваших несчастий», – зловеще утверждала она [676]676
Ibid. P. 349, 379–380.
[Закрыть]. В 1773 году, после первого раздела, она судила Польшу очень строго и еще сильнее настаивала на том, что предвидела все заранее:
Я признаюсь Вашему Величеству, что несправедливости, заблуждения и недостойность поляков причиняли мне боль, но вовсе не удивили меня. Я видела в течение тех месяцев, что я провела в Варшаве, зародыш всего того, что теперь появилось на поверхности. Мне кажется, что я позволила Вашему Величеству увидеть это краем глаза, но я не хотела показать это слишком ясно, ибо я не видела лекарства и не желала отнять поддерживавшую Вас надежду [677]677
Ibid. P. 443.
[Закрыть].
Взор наблюдающих извне оказывался всепроникающим, по крайней мере – в ретроспективе. Польша была вне зоны действия философических советов из Парижа: «У меня нет ни советов, ни мнений, ни утешений для Вашего Величества». Ей самой было нечего сказать о Польше, и она лишь подтвердила: «когда кто-нибудь говорит о ней, мне хочется спрятать голову в мешок». Станиславу Августу она предложила отречься, прибавив: «Я бы отправилась в Рим». Она в последний раз притворилась коронованной особой, но лишь затем, чтобы показать, как надо презирать корону и отказываться от нее. Ему она предлагала стать кардиналом и жить на покое. «Прошу прощения за эту чушь, – писала она, – но Ваше государство выводит меня из себя» [678]678
Ibid. P. 451, 456.
[Закрыть]. Как раз в это время Дидро находился в Санкт-Петербурге, представляя Екатерине свои соображения в письменном виде и на всякий случай неловко извиняясь за то, что говорит чушь.
В переписке мадам Жоффрен и Станислава Августа упоминалась и поездка Дидро в Санкт-Петербург, поскольку философ не сделал остановки в Варшаве. Мадам Жоффрен оскорбила Екатерину, не пожелав после Польши посетить еще и Россию, а Дидро оскорбил Станислава Августа, проехав через Польшу и не явившись засвидетельствовать королю свое почтение. В 1774 году мадам Жоффрен утешала короля тем, что с Дидро в любом случае скучно, он чересчур «мечтатель», и рекомендовала взамен Гримма, который по пути из Санкт-Петербурга был не прочь завести еще одного коронованного приятеля [679]679
Ibid. P. 464–466.
[Закрыть]. В том же письме она сообщала о новом французском короле, Людовике XVI, и выражала мнение, что парижане, в отличие от поляков, умеют «любить своего короля». Здесь мадам Жоффрен оказалась плохой пророчицей – из всех монархов той эпохи лишь Людовик XVI закончил свое царствование еще более печальным образом, чем Станислав Август. Пока Париж праздновал начало нового царствования, мадам Жоффрен ожидала Гримма: «Для меня будет очень сладостно поговорить о Вашем Величестве». Когда они с Гриммом наконец встретились и побеседовали о Польше, разговор этот принес не только сладость, но и горечь:
Увы, он говорит мне, что во всей Варшаве нашел опечаленным лишь Ваше Величество. Он привел меня в негодование, рассказывая, что народ веселится, что они там танцуют и поют; в общем, что в Варшаве вовсе не ощущаются общественные бедствия. Народ, столь бесчувственный, предназначен быть покоренным [680]680
Ibid. P. 470–471, 475–477
[Закрыть].
Она уже осудила поляков за их «недостойность» и теперь, под воздействием рассказов Гримма, наконец призналась в том, что перешла на вольтеровские позиции в оценке произошедших разделов. Поляки не только недостойны, они еще и «предназначены быть покоренными». Преданность Руссо делу польской свободы привела к появлению новой и блестящей концепции Восточной Европы, основанной на национальной идентичности, которую нельзя ни расчленить, ни покорить. Мадам Жоффрен в своей переписке со Станиславом Августом присоединилась к более традиционной формуле просвещенного абсолютизма, сотрудничеству Философии и Власти, управлению отсталыми землями, где дороги нельзя назвать дорогами, а вода «отвратительна». И в самом деле, ведь она, в образе аллегорической Истины, лично проделала путешествие в Восточную Европу, и то, что она видела там, она видела как следует.
«Последний народ в Европе»
Сенсационная поездка мадам Жоффрен в Варшаву в 1766 году и последовавший сразу же за ней затяжной кризис, закончившийся разделом Польши в 1772-м, привлекли беспрецедентное внимание иностранцев к этой стране и ее месту в Восточной Европе. В 1765 году статья Жакура о Польше, помещенная в «Энциклопедии», зафиксировала общепринятый минимум основных сведений и критических суждений; после 1766 года последовал настоящий взрыв интереса к Польше и изобилие писаний о ней, среди которых «Соображения» Руссо были лишь одним эпизодом, хотя и наиболее значительным с точки зрения мировой интеллектуальной истории. Накал интереса к Польше в эти годы был сравним с интересом к Венгрии в течение первых десяти лет XVIII века, и сходство это стало еще более очевидным после восстания Барской конфедерации против России в 1768 году. Война, которую конфедераты вели против Екатерины, поляризовала общественное мнение в Европе, особенно во Франции, подобно тому как это было с восстанием Ракоши против Габсбургов в 1703 году. Манифест Ракоши был незамедлительно переведен на французский и обнародован в Париже, и манифест Барской конфедерации был в 1770 году издан там же, чтобы оправдать Польшу в глазах иностранного общественного мнения. Наконец, интерес к Венгрии, порожденный восстанием Ракоши, привел к тому, что страну эту нанесли на карту Европы, откуда Габсбурги уже не могли ее стереть; сходным образом сенсационное внимание к Польше в годы, предшествовавшие первому разделу, произвели глубочайшее воздействие, придавшее некое постоянство обычной географической нестабильности. Руссо в «Соображениях» уже мог представить, что Польша перестанет существовать как государство, и предусмотрел, что, несмотря на эту катастрофу, она обретет непреходящее место на карте в рамках заново переосмысленной картографии. Барскую конфедерацию он приветствовал настойчивым предписанием: «Необходимо начертать эту великую эпоху во всех польских сердцах» [681]681
Rousseau.P. 172.
[Закрыть]. Тем не менее, хотя Руссо и делал вид, что занимается искусством гравировки на польских сердцах, его «Соображения» были наиболее привлекательны именно для западноевропейских читателей, с их сознанием, воспоминаниями и картографическими образами.
Энтузиазм, с которым Руссо поддержал Барскую конфедерацию, был лишь реакцией на презрение Вольтера, логически его дополняя; презрение это, в свою очередь, было побочным продуктом вольтеровской преданности Екатерине. Идеологические соперники среди философов Просвещения могли обращаться к Польше или России, выбирая один из двух взаимоисключающих образов Восточной Европы. В действительности же интерес Вольтера к Польше был так же стар (хотя и не так силен), как его интерес к России, и в «Карле XII» просвещенная публика заочно знакомилась с двумя действующими лицами, Станиславом Лещинским и Станиславом Понятовским, отцом Станислава Августа. Позже Лещинский принимал Вольтера при своем дворе в Лотарингии, оказывал ему покровительство и даже еще раз стал литературным персонажем, появившись в «Кандиде» среди шести изгнанных королей: «Провидение даровало мне еще одно королевство, где мне удалось сделать больше добра, чем все короли Сарматии смогли когда-либо сделать на берегах Вислы». В 1761 году Вольтер обозначил точки отсчета для измерения польской отсталости в письме французскому дипломатическому представителю в Варшаве, Пьеру Эннину: «Я по-прежнему даю полякам пятьсот лет, чтобы научиться делать лионские ткани и севрский фарфор». Эннин надеялся переманить Вольтера «на сторону Польши» (« du côté de la Pologne»): отсюда видно, что к этому времени отношение к Польше уже стало для философов Просвещения признаком партийной принадлежности. Идея измерять уровень относительной развитости в столетиях обязана своим рождением работе маркиза д’Аржансона «Соображения о древнем и нынешнем образе правления во Франции». Эта книга вышла в 1764 году, но Вольтер читал рукопись еще в 1739-м. Именно к д’Аржансону обращался Вольтер, когда объявил Польшу, с ее «жалкой конституцией», «прекрасным предметом для разглагольствований» [682]682
Voltaire.Candide. Trans. John Butt. London: Penguin, 1974. Chapter 26; Dzwigala Wanda.Voltaire’s Sources on the Polish Dissident Question // Studies on Voltaire and the Eighteenth Century. Vol. 241. Oxford: Voltaire Foundation, 1986. P. 191–192; Rostworowski Emanuel.Républicanisme ‘Sarmate’ et les Lumières // Studies on Voltaire and the Eighteenth Century. Ed. Theodore Besterman. Vol. XXVI. Geneva: Institut et Musée Voltaire, 1963. P. 1417; Fabre.P. 316; см. также: Kot Stanislaw.Rzeczpospolita Polska w literaturze politycznej Zachodu. Cracow: Nalladem Krakowskiej Spólki Wydawniczej, 1919; Woloszynski Ryszard W.La Pologne vue par l’Europe au XVIIIe siècle // Acta Polonica historica (1965). P. 22–42; Woloszynski Ryszard W.Polska w opiniach francuzów: Rulhière i jego wslczesni. Warsaw: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964.
[Закрыть]. Именно в таком положении она оказалась после 1766 года, предоставляя просвещенным авторам предмет для разглагольствований.
Это отлично понимала Екатерина, когда она выбрала поводом для русского вмешательства во внутренние дела Польши проблему религиозной терпимости и переправила Вольтеру разнообразные материалы на эту тему, подготовленные в Санкт-Петербурге. На всем протяжении 1760-х годов Вольтер боролся с «позором» католической нетерпимости во Франции, проявившейся в делах Каласа, Сирвена и Ле Барра. Вопрос об участи некатолических диссидентов в Польше был очень близок ему и очень удобен для Екатерины, и в 1767 году он сочинил «Опыт исторический и критический о несогласиях церквей в Польше», вышедший под именем Жозефа Бурдильона, вымышленного профессора-всезнайки. Это произведение, направленное против католичества в Польше, было естественным наследником периодических изданий и памфлетов, выходивших в XVIII веке в протестантской Англии (а также в Пруссии), в которых выражалось возмущение польскими бесчинствами, начиная с волнений и экзекуций в Торуни в 1724 году. В сочинении Вольтера польская проблема толковалась расширительно, распространяясь и на соседние земли и очерчивая, таким образом, область екатерининских имперских устремлений: «Она не только устанавливает терпимость дома, но и стремится возродить ее среди ее соседей». Исправляя окончание после раздела 1772 года, Вольтер заключил: «Так был рассеян польский хаос» [683]683
Voltaire.Essai historique et critique sur les dissensions des églises de Pologne (1767) // Oeuvres de Voltaire: Mélanges historique. Vol. II. Paris: P. Pourrat Freres, 1968. P. 57–60; Fabre.P. 634, примеч. 144.
[Закрыть]. Эта фраза повторяла общее отношение Вольтера к Восточной Европе, выразившееся в его призыве к Екатерине «рассеять хаос» от Гданьска до Дуная.
Вольтеру недостаточно было рассказывать о Польше; он хотел, воспользовавшись возможностью, обратиться напрямую к самим полякам. В 1767 году, когда Бурдильон уже высказал свои соображения по польскому вопросу, Вольтер написал Станиславу Августу, призывая короля к политике просвещенного абсолютизма:
Ваше Величество, этот Бурдильон воображает, что Польша была бы намного богаче, более населенной и счастливой, если бы ее крепостные были освобождены, если бы их тела и души обрели свободу, если бы остатки готическо-славянско-римско-сарматского образа правления были однажды упразднены государем, который бы принял звание не первенствующего сына церкви, но первенствующего сына Разума [684]684
Rostworowski Emanuel.Voltaire et la pologne // Studies on Voltaire and the Enighteenth Century, ed. Theodore Besterman. Vol. LXII. Geneva: Institut et Muse Voltaire, 1968. P. 114; Fabre.P. 323.
[Закрыть].
Совершенная смехотворность «готическо-славянско-римско-сарматского образа правления» делала реформы тем более уместными в Польше, а эпистолярная форма, письмо в Восточную Европу, обозначала вектор просвещенного влияния. В 1768 году Вольтер изложил свой призыв к польской нации в «Обращении к католическим конфедератам в Каменце, в Польше», приписанном прусскому офицеру по имени Кайзерлинг. «Отважные поляки, – обращался он к ним в тех же выражениях, что и Руссо несколько лет спустя, – желали бы вы сейчас быть рабами и вассалами теологического Рима?» Поляки осмелились жаловаться, что Екатерина ввела русские войска в Польшу, и еще спрашивают, есть ли у нее на это право: «Я отвечаю вам, что это то право, по которому сосед тащит воду в горящий дом соседа». Русскую армию послали «установить в Польше терпимость». Вольтер напоминал полякам, что Екатерина приобрела библиотеку Дидро, и заключал презрительно: «Друзья мои, научитесь читать для начала, и тогда и вам кто-нибудь купит библиотеки» [685]685
Voltaire.Discourse aux confédérés catholiques de Kaminieck en Pologne, par le major Kaiserling, au service du roi de Prusse (1768) // Oeuvres de Voltaire: Politiques et Législation. Vol. II. Paris: P. Pourrat Freres, 1839. P. 154, 165–166.
[Закрыть]. Как и более дружелюбное обращение Руссо к отважным полякам, слова Вольтера предназначались его читателям в Западной Европе, которые, таким образом, могли воочию наблюдать, как философия несет полякам истину. Иллюзорность его мнимой аудитории была тем более очевидна в «Проповеди попа Николая Любомирского, говоренной в церкви Свято-Терпимской, в деревне литвянской», написанной Вольтером в 1771 году. То, что проповедь эта предназначалась парижской публике, а не литовским крестьянам, очевидно уже потому, что она была ответом на манифест Барской конфедерации, опубликованный в Париже в предыдущем году. «Я имею честь послать Вашему Императорскому Величеству перевод литовской проповеди, – писал Вольтер Екатерине. – Это скромный ответ на грубые и смехотворные вымыслы, которые польские конфедераты напечатали в Париже». Вольтер, таким образом, был полностью вовлечен в екатерининский поход на Польшу, и настолько, что в 1769 году Станислав Август подумывал об открытии дипломатического фронта в Ферне и отправил агента, чтобы, заручившись посредничеством Вольтера, добиться от Екатерины мирных переговоров [686]686
Voltaire and Catherine // Correspondence, in Documents of Catherine the Great: The Correspondence with Voltaire and the Instruction of 1767. Ed. By W.F. Reddaway (1931; New York: Russell à Rusel, 1971). P. 109; Dzwigala.P. 198.
[Закрыть]. Вольтер отказался ему помочь – то ли он был слишком увлечен екатерининскими войнами и завоеваниями, то ли как философ и сам хорошо понимал, что не может влиять на действия Екатерины в Польше, а может лишь оправдывать и воспевать их.
То, что вольтеровская проповедь 1771 года была обращена к западноевропейской аудитории, видно и из пародийных славянских имен «Любомирский» и «Свято-Терпимский» ( Chariteskiи Saint Toleranski), превращавших польский кризис в восточноевропейскую комедию. Вольтер обращался с польской ситуацией как с литературным развлечением, а как раз в то же время молодой Марат писал «Приключения юного графа Потовского», роман в письмах, где использовал современную ему Польшу и войну Барской конфедерации как фон для романтической истории. Всеобщность интеллектуального увлечения Польшей с 1770 по 1772 год была поразительной: поощряемые Вильегорским, Мабли и Руссо писали свои трактаты, Вольтер в Ферне обращался к полякам с сатирическими памфлетами, а Марат, работавший ветеринаром в Англии, в Ньюкасле, сочинял там свой роман. Если в «Польских письмах» Марат предлагал взглянуть на Западную Европу глазами поляка, то в «Приключениях» он живописал ощущения поляков, оказавшихся в гуще польского политического кризиса, который мешал воссоединиться двум юным влюбленным. Он использовал польские и псевдопольские фамилии – Потовский, Пулавский, Огиский, Собеский, – носители которых рассуждали о польских делах, причем одни восторженно поддерживали Барскую конфедерацию, а другие ее презрительно осуждали, что отражало различие мнений по этому вопросу и в Западной Европе, и в самой Польше.
Главный герой, которого ужасали зверства гражданской войны и иностранных вторжений, в конце концов осудил конфедератов, называя их «кучкой варваров». Однако окончательное суждение о состоянии дел в собственной стране сложилось у него после беседы с заезжим французом. Марат скромно называет поляка « moi» («я»), а француза – « lui» («он»):
Moi: Ты кажешься мне человеком знающим; мне будет приятно услышать, что ты думаешь о состоянии дел в несчастной Польше.
Lui: Вы пропали, и, быть может, пропали совершенно; но что за несчастья ни обрушились бы на вас, вы их, несомненно, заслужили.
Moi: Объяснись, пожалуйста, ибо я не понимаю тебя.
Lui: В состоянии анархии, в котором вы живете, как одни из вас могут не стать жертвами других или добычей ваших соседей? Ваш образ правления есть наихудший из всех существующих [687]687
Marat Jean-Paul.Les Aventures du jeune comte Potowski. Ed. Claire Nicolas-Lelièvre. Paris: Renaudot, 1989. P. 118, 130.
[Закрыть].
Этот вымышленный диалог между поляком и французом с его суровым приговором приводился в вымышленном же письме от одного поляка к другому; само оно, в свою очередь, было частью романа в письмах, написанного о Польше французом, проживающим в Англии. Таким образом, само расположение литературного материала в конечном итоге утверждало главенство Западной Европы. Если польские сочинения Марата оставались неопубликованными до 1847 года, то Жан-Батист Луве дю Кувре написал и издал в 1780-х годах «Любовные похождения шевалье де Фоблаза», где польский сюжет отсылал читателей в прошлое, ко временам Конфедерации. Французская публика настолько заинтересовалась романтической историей Лозвинского и Лодойской, что де Кувре переработал ее в драматическую комедию, «Лодойская и татары»; комедия эта, а также основанная на ней опера Керубини были поставлены в 1791 году в революционном Париже [688]688
Tomaszewski Marek.L’Universe héroique polonaise dans Les Amours du chavalier de Faublas et son impact sur l’imaginaire social à la fin due XVIIIe siècle // Revue de Littérature Comparée, no. 2 (April – June 1990): 430–431.
[Закрыть].
Вольтер использовал историю Станислава Августа и барских конфедератов в своей трагедии «Законы Миноса»; хотя она и была написана примерно во время первого раздела, действие в ней происходило на древнем Крите. Просвещенный царь жаловался: «Фанатизм и мятежи / Вечно беспокоят мою несчастную страну» [689]689
Voltaire.Les Lois de Minos, in Oeuvres complètes de Voltaire. Vol. 5, Théatre.Paris: Perronneau, 1817. P. 296.
[Закрыть]. Эта пьеса так и не увидела сцены; еще меньше внимания привлекло сатирическое стихотворение о Польше «Война конфедератов», которое Фридрих Великий написал в 1771 году, чтобы развлечь Вольтера. Руссо, Марат и Фридрих писали почти одновременно, но если Руссо симпатизировал полякам, а Марат колебался, то Фридрих был полон злобного презрения. В качестве наиболее уместной в данном случае музы у него выступает богиня глупости:
Avec plaisir elle vit la Pologne
Le même encore qu’à la création
Brute, stupide et sans instruction?
Staroste, juif, serf, palatine ivrogne,
Tous végétaux qui vivaient sans vergogne.
Она с удовольствием увидела Польшу,
Не изменившуюся с начала времен,
Грубую, глупую и необразованную,
Староста, еврей, крепостной, пьяный воевода,
Вот овощи, которые не знают стыда [690]690
Fabre.P. 249.
[Закрыть].
Фридрих не только рифмовал Pologne(Польша) с ivrogne(пьяный) и vergogne(стыд), но и составил традиционную восточноевропейскую комедию из «множества слабоумных, чье имя оканчивается на – ский». Однако и эта комичность, и презрение, капающие с ядовитого пера, обнажали подспудную связь между поэзией и властью, типичную для всех произведений, посвященных польскому кризису, как он виделся Западной Европе. Фридрих как раз задумывал свой план расчленения Польши, и Вольтер оценил сходство между этим стихотворением и разделом 1772 года: «Ваши деяния почти сравнялись с Вашим стихотворением о конфедератах. Приятно уничтожить народ и сложить о нем песню». Вольтер видел взаимосвязь между двумя талантами и льстил Фридриху: «Никто никогда не сочинял стихов и не завоевывал королевств с такой легкостью». Более того, Вольтер и сам раздел считал плодом гениального воображения, подобным поэме: «Предполагается, что именно вы, Ваше Величество, придумали расчленить Польшу, и я этому верю; в этом есть нечто гениальное». Что до самого Фридриха, то он начал злополучный 1772 год письмом Вольтеру, где приветствовал поляков как «последний народ в Европе» [691]691
Marat.Les Aventures. P. 256; Dzwigala.P. 201; M. Romain-Cornut.Koltaire: complice et conseiller du partage de la Pologne, 2 nded. Paris: Jacques Lecoffre, 1846. P. 17–21.
[Закрыть]. Именно эта иерархия народов, которых, несмотря на все унижения и вторжения, все же считали европейцами, определяла для Фридриха его поэтическое и политическое восприятие Восточной Европы.
«Экономические советы»
Такое ранжирование различных народов указывало одновременно и на возможность развития, и сторонники одного из важнейших экономических течений в XVIII веке, физиократы, проявляли особенный интерес к Польше именно в годы ее политического кризиса. Уже в наше время, после 1989 года, агонизирующая польская экономика стала лабораторным образцом для проверки действенности рыночного капитализма, а иностранные экономисты слетались в Варшаву со своими лекциями и рецептами. Точно так же, за два века до того, физиократы с их протокапиталистическими взглядами ухватились за возможность использовать польский кризис, чтобы экспортировать свои экономические теории и использовать эту страну для постановки научных экспериментов. Основателем этой доктрины был Франсуа Кенэ, написавший в 1758 году «Tableau économique», где доказывался приоритет сельского хозяйства перед коммерцией, преимущества свободной торговли, основанной на принципе laissez faire, и полезность единого налога на землю. Рассматривая Восточную Европу в свете этих идей, физиократы надеялись распространить влияние своих экономических доктрин на Польшу и Россию. Именно своей написанной в физиократическом духе диссертации под названием «Естественный и основной порядок благоустроенных обществ» Лемерсье был обязан приглашением в Санкт-Петербург в 1767 году. В том же году Мирабо-старший, отец известного революционера, придал физиократическому течению организационную форму, устраивая у себя дома ужины по вторникам; к концу года он уже мог похваляться в письме Руссо, что его салон отправил Лемерсье в Россию «с несколькими помощниками, которых мы ему придали, чтобы насадить там экономическое законодательство» [692]692
Jobert Ambrois.Magnats polonaise et physiocrates française (1767–1774). Paris: Librarie Droz, 1941. P. 20.
[Закрыть]. Их ожидали разочарования, но, очевидно, высокомерное поведение Лемерсье объясняется не только особенностями его характера; он был представителем целого научного направления, которое видело Восточную Европу в таком же свете.