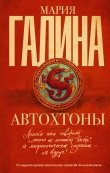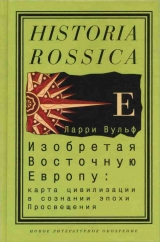
Текст книги "Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения"
Автор книги: Ларри Вульф
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 38 страниц)
Их многочисленные племена, в независимости от расстояния и отношений между ними, говорили на одном общем языке (грубом и беспорядочном) и были известны схожестью облика, которым они не походили на смуглых татар, а приближались, хотя и не до конца, к рослым и белокожим германцам. По областям России и Польши было раскидано четыре тысячи шестьсот деревень, и так как здесь было мало камня и железа, хижины в них строились из необработанного дерева. Высившиеся или, точнее сказать, укрывавшиеся в глуши лесов, по берегам рек или у болот жилища можно было бы сравнить с архитектурными постройками бобров, которые они напоминали и с суши, и с воды, однако такое сравнение польстило бы их диким обитателям, существам куда менее чистоплотным. трудолюбивым и социальным, чем это чудесное животное. Сельскохозяйственное изобилие у склавонов было обусловлено скорее плодородием почвы, нежели трудом самих жителей [774]774
Ibid., II. P. 591.
[Закрыть].
Следуя традиции, Гиббон счел славянский язык грубым и беспорядочным; д’Отрив был с ним полностью согласен. Его высказывание о расовом превосходстве германцев над славянами (славяне – не такие рослые и белокожие) было отправным пунктом, на научной достоверности которого германцы с XVIII и до самого XX века настаивали с возрастающим упорством. Экскурс Гиббона в область естественной истории, а также его сравнение славян с бобрами – его собственные изобретения, призванные явить остроумие; речь на. самом деле идет о проблемах цивилизованности. Он хвалит бобров за их строительные навыки и порицает славян за недостаток чистоплотности, трудолюбия и социального инстинкта.
В другом месте Гиббон благодушнее отзывается о славянах как о «целомудренном, терпеливом и гостеприимном» народе (воздерживаясь от язвительных сравнений с добродетелью бобров). Как и Левек, Гиббон признавал существование у славян примитивной религии, божества грома и чего-то вроде нимф. Политического устройства он у славян не находит вообще: «Склавоны считали ниже своего достоинства подчиняться тирану, князю или даже судье». Их метод ведения военных действий предстает у Гиббона как воплощение дикости, так как сражались они «практически обнаженными», а оружием им служили «лук, колчан с маленькими отравленными стрелами и длинная веревка, которую они ловко бросали, захватывая врага в мертвую петлю». Их обращение с пленниками еще отвратительней в своей дикости: «Без различия звания, возраста или пола пленных сажали на кол, с них снимали заживо кожу, подвешивали к четырем столбам и били дубинами, пока те не испустят дух, или, заперев их в какой-нибудь большой постройке, предавали потом огню». Живописуя эти ужасы варварства, Гиббон ссылался на Прокопия, хотя и признавал, что византийский историк мог преувеличивать [775]775
Ibid., II. P. 591–594.
[Закрыть]. В эпическом повествовании Гиббона о борьбе между цивилизацией и варварством оплотом варварства представала Восточная Европа и ее дух, «живший на равнинах России, Литвы и Польши или бродивший там».
В пятидесятой главе Гиббон подробно рассказывает о Мухаммеде, исламе и арабах, сравнение с которыми оборачивается не в пользу скифов [776]776
Ibid., III. P. 61.
[Закрыть]. Все эти темы остаются предметом первостепенной важности и в последующих главах, так что в начале пятьдесят пятой главы Гиббон просит прощения у читателя за то, что несколько отклонился в сторону, отмечая, что «в войне, в религии, в науке, во времена процветания и упадка, арабы не могут не вызывать у нас интереса». Однако эта оправдательная речь – лишь подступ к подлинной теме главы, Восточной Европе, народы которой, по мнению автора, недостойны подобного интереса и внимания историка:
Но напрасно тратить подобные усилия на изучение толп дикарей, которые в VII–XII веках спускались с равнин Скифии и находились в состоянии то ли периодических нашествий, то ли непрестанных переселений. Их имена грубы, их происхождение сомнительно, их действия непонятны, в своих суевериях они были слепы, в своей отваге жестоки, а единообразие их общественной и частной жизни не было смягчено невинностью или облагорожено государственным устройством. В своем величии византийская держава отразила их нападения и выстояла под их беспорядочным натиском; большая часть этих варваров исчезла без следа, а жалкие остатки стонут и будут еще долго стонать под властью чужестранного тирана. Рассказывая о древностях I. Булгар, II. Венгрови III. Русских, я ограничусь лишь теми фактами, которые заслуживают упоминания [777]777
Ibid., III. P. 316.
[Закрыть].
Здесь Гиббон снова конструирует представление о цивилизации от противного, то есть описывая ее отсутствие у варваров. Вновь из беспорядочного жизнеустройства народа в древности выводится его жалкое состояние в настоящем. Политическая формула, благодаря которой Гиббон с готовностью подчинил народы Восточной Европы чужестранной тирании, была вполне традиционной, но в данном случае отдавала двусмысленностью. Он, вероятно, имел в виду болгар, стоявших первыми в его списке и находившихся под властью константинопольского султана. С другой стороны, в 1780-х годах, когда Гиббон писал эту главу, венграми правили венские Габсбурги в лице Иосифа II, чей скипетр нес им дух строжайшего абсолютизма; русские же были подданными Екатерины, немецкой принцессы, чье правление отличалось не меньшей самодержавностью. В любом случае Гиббон был готов истолковать нынешнее подчинение этих народов иностранной тирании как заслуженное воздаяние за их варварство и дикость в древности.
Свой рассказ о болгарах Гиббон начинает с ошибочного утверждения об их славянском происхождении. Строя свои доказательства на вполне достоверной посылке – болгары говорили на славянском языке, – он с небрежностью включает и валахов в список родственных народов:
Их язык неопровержимо подтверждает происхождение болгар от склавонской или, точнее, славянской расы; а родственные сервы ( Servians), боснийцы, раски ( Rascians), хорваты, валахи и другие следовали образцу или примеру главного племени. В качестве пленников или подданных, союзников или врагов Греческой империи они заполнили собой все пространство от Эвксина до Адриатики [778]778
Ibid., III. P. 317–318.
[Закрыть].
В терминологии Гиббона название «славяне» означало множество племен, составлявших одну общую расу; его обозначение «от Эвксина до Адриатики» указывало протяженность Восточной Европы и ее западные пределы. Цитирует он труд о происхождении славян Иоанна Христофора де Йордана, написанный на латыни и вышедший в Вене в 1745 году, однако ставит под сомнение ценность этой работы из-за происхождения ее автора. «Его собрания и исследования могут быть полезны для изучения древностей Богемии и прилегающих стран, – пишет Гиббон о Йордане, – однако его взгляду не достает широты, стиль у него варварский, критика поверхностна, и придворный советник не смог освободиться от своих богемских предрассудков». Но собственные предрассудки Гиббона, его причисление болгар к славянам по происхождению, позволили ему использовать древние богемские источники в работе над историей Болгарии. В то же время он допускает скифское влияние, повествуя драматическую историю поражения, нанесенного в 811 году византийскому императору Никифору болгарским ханом Крумом, сделавшим из императорского черепа золоченый кубок. «Эта дикарская чаша, – пишет Гиббон, – имеет оттенок скифских степных нравов» [779]779
Ibid., III. P. 318–319, note 8.
[Закрыть]. Странное употребление слова «оттенок» с его цветовыми коннотациями смутно намекает здесь на расовый подход к антропологии, с помощью которого историк XVIII века стремился показать происхождение и распространение обычаев у варваров древности.
«Когда черные тучи венгров впервые надвинулись на Европу около 900 года от Рождества Христова, – писал Гиббон, представляя следующий народ из своего списка, – их из страха и суеверия приняли за Гога и Магога из Писания, знамения и предвестников конца света». Гиббон ссылается на латинские сочинения венгерских ученых XVIII века, а именно книгу Георга Прая, вышедшую в Вене в 1775 году, и книгу Стефана Катоны, вышедшую в Пеште между 1778 и 1781 годами. «Их рационалистическая критика уже не удовлетворяется тщеславной родословной, восходящей к Аттиле и гуннам», – замечает Гиббон, после чего сам без колебаний приписывает венграм еще более неопределенную родословную, называя их «одним из скифских племен». Как и в случае болгар, их переселения определили пределы Восточной Европы от Волги до Дуная, и даже после того, как они осели на территории современной Венгрии, одновременно с ними на Волге продолжали жить их «давно потерянные братья», «язычники и дикари, тоже носившие имя венгров» [780]780
Ibid., III. P. 321–322.
[Закрыть]. Так Гиббон определяет промежуточное положение Восточной Европы с ее различными степенями и изменчивым соотношением цивилизации и варварства.
Обращаясь к сочинениям византийского императора X века Константина Багрянородного, Гиббон сознавал, что наука его времени («современная наука») способна уточнить традиционную классификацию варварских народов. Лингвистические исследования показали, что «венгерский язык стоит особняком, как будто в изоляции, среди склавонских диалектов; однако он состоит в близком и очевидном родстве с языками феннической ( Fennic) расы, расы таинственной и дикой, населявшей некогда северные области Азии и Европы». Гиббон ссылается и на «татарское свидетельство», связывающее венгерский с языками народов Сибири [781]781
Ibid., III. P. 322–323.
[Закрыть]. Когда Гиббон работал над своим исследованием, наука XVIII века уже в общих чертах пришла к современной лингвистической классификации, относящей венгерский язык к финноугорской группе. Это открытие стало результатом различных географических исследований, проводившихся, в частности, в Сибири, начиная с царствования Петра. В 1720-х годах Штраленберг, швед, оказавшийся в петровском плену, занимался собиранием лексики и сравнением языков Сибири; примерно в то же время и в той же области вел свои исследования русский историк Татищев. В 1730-х годах немецкий историк России Г. Ф. Мюллер стал составлять списки сибирской лексики; Й. Е. Фишер, продолживший его дело в 1740-х годах, составил сибирский словарь и прямо указал на лингвистические связи между Сибирью и Венгрией. Работа Фишера о происхождении венгров была опубликована в 1770 году, и Гиббон цитирует ее в примечании [782]782
Ibid., III. P. 322–323, note 22; Gulya Janos.Some Eighteenth Century Antecedents of Nineteenth Century Linguistics: The Discovery of Finno-Ugrian // Studies in the History of Linguistics: Traditions and Paradigms. Ed. Dell Hymes. Bloomington: Indiana Univ. Press, 1974. P. 260–263.
[Закрыть]. Тем не менее почти в то же время, в 1765 году, Жакур совершенно ошибочно сообщает в «Энциклопедии», что «язык Венгрии есть диалект славянского». Сомнения ученых по этому лингвистическому вопросу усугублялись общей тенденцией XVIII столетия смешивать и связывать между собой народы Восточной Европы и в древней, и в новой истории. Для Гиббона лингвистическое сравнение позволяло связать современных венгров с татарами, повторяя и подкрепляя его идею о близости древних венгров к скифам.
Изображение этих варваров у Гиббона выдержано в духе живописной дикости: «Шатры у венгров были из кожи, одежда из шкур; они брили голову и делали надрезы на лице». Однако в руках у них Гиббон видит предмет вполне определенного этнографического происхождения: «Их традиционным и смертоносным оружием был татарский лук». Что касается до древней Скифии, то она возникает лишь в виде неопределенных намеков и метафор, скорее для создания образа; к примеру, когда венгры приходили в ярость, «они в своей скифской стремительности за день опустошали и истребляли все на пять миль в окружности». Гиббон признает, что «их страсть к сырому мясу могла породить известные легенды о том, что они пили кровь и пировали сердцами убитых». Пускается он в рассуждения о менее свирепых, хотя тоже связанных с кровью, вопросах: речь идет уже не о поглощении крови, а о ее наследовании как факторе формирования венгерской нации. «Кровь коренной народности, принадлежавшей к тюркской или феннической группе, – писал Гиббон, – смешалась с новыми поселенцами скифского или склавонского происхождения» [783]783
Gibbon.III. P. 324–326, 329.
[Закрыть]. Здесь славянская и скифская составляющие Восточной Европы оказались соединены буквально кровью.
Переходя наконец к русским, Гиббон связывает их происхождение с племенами, «родственными шведам и норманнам», которые, как и готы до того, пересекли Балтику и «посетили ее восточное побережье, тихое место обитания феннических и склавонских племен». В «тишине» этих восточных берегов жили народы, о которых до того не слыхала древняя история, и Гиббон неуклюже переносит обозначение «русских» со скандинавских пришельцев на эти мирные племена. «Первобытные русские с озера Ладога, – пишет он, – беличьими шкурками платили дань этим чужестранцам, которых они называли варягами ( Varangians), то есть грабителями». В конце концов чужестранцы «кровью, религией и языком смешались с русскими». Как и финноугорское происхождение венгерского языка, скандинавско-варяжские корни русских были уже в достаточной степени признаны наукой XVIII века, чтобы удовлетворить Гиббона. По большей части Гиббон ссылается на историю Левека, которая вышла в 1782 году, предоставив Гиббону возможность опосредованно познакомиться с русскими летописями. Цитирует он и путевые записки Кокса, вышедшие в 1784 году и поддерживавшие общий интерес к России еще до того, как в 1788-м появились последние тома «Заката и падения…» [784]784
Ibid., III. P. 330–331, note 45.
[Закрыть]. Так Гиббон и познакомился с Россией, благодаря чужому путешествию и подробным примечаниям.
В качестве географического источника он ссылается на составленную д’Анвиллем «Российскую Империю, ее образование и распространение»; он, вероятно, имел также в виду «Древнюю географию» этого картографа, так как местонахождение России определялось им через ссылку на «географию Скифии» и даже на «расплывчатую и неопределенную картину скифских степей». Гиббон прослеживает, как русские заселяли земли вниз по Днепру до Черного моря, намечая торговый путь, проходивший через Восточную Европу «от Балтики до Эвксина, от устья Одера до константинопольского порта». Сюжет повествования Гиббона сосредоточен вокруг русских походов на Константинополь в IX и X веках. С уничижительной снисходительностью он изображает взгляд варваров на византийскую цивилизацию: «Они завидовали дарам природы, которых не мог дать их климат; они жаждали завладеть произведениями искусства, которые из-за своей лени не могли повторить, а из-за бедности не могли купить». Однако последовавшие «пиратские экспедиции» не относились исключительно к древней истории, и «образ их морских походов вновь ожил в прошлом веке, когда эскадры казаков отправлялись из Борисфена в плавание по тем же морям и с теми же целями». Вновь рушится граница между древней и новой историей, и казаки XVII века садятся в свои «челны» ( canoe) на Днепре и отплывают назад в X век. Еще более явно эта мысль проступала в примечании, где приводилась цитата из «Описания Украины» Боплана, написанного в XVII веке и указывающего, что, «если бы не появление пороха, мы могли смело принять современных казаков за древних русских». Такая точка зрения была далека от историчности, однако позволяла Гиббону связать древнюю историю и царствование Екатерины: «В наше время морские силы России уже не спускаются по Борисфену, а совершают плавания вокруг всей Европы» [785]785
Ibid., III. P. 332–333, 335, note 58, 337.
[Закрыть]. Русские, таким образом, вновь появляются у Константинополя, хотя уже и не в челнах; при этом, судя по всему, их цель остается прежней.
Кульминацией этой главы становится рассказ о принятии Киевом христианства и отказе русских от человеческих жертвоприношений; в завершение Гиббон делает некоторые общие замечания о пришествии христианства к варварам Европы. «Северные и восточные оконечности Европы, – пишет он, формулируя географическое определение Европы Восточной, – приняли религию, отличавшуюся от поклонения их традиционным божествам более в теории, нежели на практике». Хотя Гиббон не смог удержаться от того, чтобы нанести такой удар по христианству, он вовсе не считал разницу между цивилизацией и варварством незначительной.
Принятие варваров в лоно гражданского и церковного сообщества избавило Европу от вторжения, с суши и с моря, норманнов, венгров, русских, которые стали учиться беречь своих собратьев и улучшать свои владения. Установление закона и порядка происходило под влиянием духовенства; в диких областях земного шара стали появляться начатки искусства и науки [786]786
Ibid., III. P. 343.
[Закрыть].
Таким образом, Гиббон плавно переходит от древней истории к современности, и основной точкой отсчета становится уже не Рим и не Византия, а Европа. После возникновения «склавонских и скандинавских королевств» историку нет нужды сверяться со своим компасом, чтобы определить, где находится источник цивилизации: «Они восприяли свободный и щедрый дух европейской республики и постепенно стали приобщаться к свету знаний, шедшему из западного мира» [787]787
Ibid., III. P. 343–344; Spadafora David.The Idea of Progress in Eighteenth-Century Britain. New Haven, Conn.: Yale Univ. Press, 1990. P. 223–224; Porter Roy.Edward Gibbon: Making History. London: Weidenfeld and Nicholson, 1988. Chapter 6. «Civilization, Barbarism, and Progress». P. 135–157.
[Закрыть].
«Множество маленьких диких народностей»
В 1764 году, когда Гиббон отправился в Рим, двадцатилетний Иоганн Готфрид Гердер приехал в Ригу, где стал учителем и священником. Начиная с 1710 года, когда Петр Великий отобрал ее у Швеции после поражения Карла XII, Рига вместе с провинцией Ливонией, нынешней Латвией, принадлежала России. Однако даже в составе петровской империи она пользовалась относительной автономией; управление было в руках немецкого среднего класса, и город еще пользовался остатками своей ганзейской независимости. Летом 1764 года, незадолго до незаметного прибытия туда Гердера осенью того же года, Рига встречала куда более важного гостя, свою новую императрицу Екатерину. Позднее, в 1780-х годах, та уничтожила ливонскую автономию, отказавшись признать местные ограничения ее просвещенного абсолютизма, но даже после этого, как на рубеже веков свидетельствовал Коббетт, Рига осталась открытой навстречу Балтике, хотя и став частью России, но находясь на самом ее краю. Надо сказать, что в XVIII веке все Балтийское побережье вплоть до своей крайней восточной точки в Санкт-Петербурге было своего рода открытой границей Восточной Европы. Гердер прибыл в Ригу с запада из Кенигсберга, под свежим впечатлением от лекций Канта; а Кенигсберг был в Пруссии, во владениях Фридриха. К западу на том же побережье находился Гданьск, игравший в Польше ту же роль, что Рига в России, и подобно ей сохранявший городское самоуправление. И Гданьск и Рига благодаря рекам, на которых они стояли, Висле и Двине, были точками доступа в Восточную Европу.
Гиббон покинул Рим, ошеломленный его былой славой, и это позволило ему расставить по местам всех варваров Европы, выстроив их по отношению к неоспоримому центру цивилизации. Гердер в 1769 году покинул Ригу, отправившись через Балтийское море и Ла-Манш во французский Нант; оттуда он позже поехал в Париж. Таким образом, он совершил путешествие от крайней оконечности Восточной Европы к самому сердцу Европы Западной. Однако его описание этой поездки, «Журнал моего путешествия в 1769 году», целиком посвящено Восточной Европе, которую Гердер оставлял позади, так что действие развивалось в направлении, прямо противоположном самому путешествию. Уже в первой фразе записок слышна растерянность, которую подчеркивает путаница во времени из-за использования в России другого календаря: «23 мая / 3 июня я выехал из Риги и 25 мая / 5 июня пустился по морю сам не знаю куда» [788]788
Herder Johann Gottfried.Journal meiner Reise im Jahr 1769. Ed. Katharina Mommsen. Stuttgart: Philipp Reclam, 1976. P. 7.
[Закрыть]. Большую часть своей остальной жизни Гердер провел в гетевском Веймаре, но представление о Восточной Европе, рожденное в Риге и сформулированное в дневнике 1769 года, навсегда осталось с ним. Гиббон расселял варваров по их отдаленным уголкам с великолепной снисходительностью, а нередко и с иронией прекрасного стилиста. Гердер во время своего морского путешествия писал о тех же самых варварах с живым интересом и бурным восторгом в стиле, который вскоре стал известен как Sturm und Drang.Он втиснул древних варваров в этнографическое настоящее, даже в будущее, созданное его неистовым воображением. В конце концов двадцать лет спустя они обрели покой, найдя свое место в обширной схеме «Идей к философии истории человечества» в части IV (книги XVI, раздела IV), озаглавленной «Славянские народы». Для Гиббона славяне как персонажи древней истории были немногим лучше бобров, а может быть, в чем-то и хуже. У Гердера славяне вызывали увлечение и восторг, а их особенности и характер можно было постигнуть с помощью новых наук – этнографии и фольклористики.
Сильнейшее влияние на путевой журнал 1769 года оказала сама Балтика, и начинался он размышлениями о Севере, как он представал его воображению со стороны моря: «Холодный Север кажется здесь колыбелью морских чудовищ, вроде варваров, людей-великанов и опустошителей мира». У Гердера, чей интеллектуальный компас указывал в этот момент на север, в одном ряду стоят понятия, взятые из древней истории и из мифов о чудовищах. Однако как только он пускается в древнюю историю глубже, его ориентация в географическом пространстве немедленно нарушается: «Были ли Vagina hominumСевер или Юг, Восток или Запад?» В ответ Гердер предлагает метафору, навеянную мореплаванием, – идею двух «потоков» первобытного распространения культуры. Один из них шел с Востока в Грецию и Италию, неся с собой «музыку, искусство, науки и мораль». Другой шел «через Север из Азии в Европу» (то есть по тому же пути, которым следовал сам Гердер, плывущий из Риги в Нант), создавая беспорядочную картину неравномерного развития [789]789
Ibid. P 15.
[Закрыть]. Он думал о Риге, которую покинул и куда надеялся когда-нибудь вернуться, чтобы создать там национальную школу и «превратить естественного в своей дикости Эмиля, как его описал Руссо, в дитя ливонского народа». Дикость Эмиля была ему дорога как признак естественности, но для Ливонии он приуготовлял именно программу цивилизации:
Сегодня все нужно соотносить с политикой; это необходимо и мне с моими планами! Моя школа будет бороться с роскошью и за улучшение нравов! Она должна будет приблизить наш язык и образование к вкусам и утонченности нашего века, не дать оставаться позади. Следовать примеру ( nachzueifern) Германии, Франции и Англии! Нести честь и образованность знати! Стать надеждой Польши, России и Курляндии! [790]790
Ibid. P. 38–39.
[Закрыть]
Слова о следовании примеру, улучшении нравов и отставании ясно показывают, что для автора существовала шкала относительного развития. Географический центр будущего развития Гердер помещал в Риге, которая представлялась ему пограничным пунктом между Германией, Францией и Англией, с одной стороны, и Польшей, Россией и Курляндией – с другой, то есть он призывал следовать примеру Западной Европы, тем самым признавая ее превосходство; одновременно эта школа должна была стать маяком надежды для Восточной Европы. Пока его корабль плыл на запад, оставляя Восточную Европу позади с географической точки зрения, Гердер твердо решил, что в культурном отношении она «оставаться позади» не должна.
«Я проплывал мимо Курляндии, Пруссии, Дании, Швеции, Норвегии, Ютландии, Голландии, Шотландии, Англии, Нидерландов, направляясь во Францию», – писал Гердер, обозначая на карте свой балтийский маршрут. «И вот некоторые мои морские мечты ( Seetraüme) политического свойства». Мечты, содержание которых он далее излагает, были плодом его размышлений о будущем, ибо как раз в этот момент Гердер достиг северо-западной оконечности Европы и, оглянувшись, внезапно увидел самую живописную картину Восточной Европы из всех, созданных в XVIII веке:
Какой вид откроется с северо-запада на эти области, когда однажды их посетит дух цивилизации ( Kultur)! Украина станет новой Грецией: прекрасное небо, под которым живет этот народ, его веселая жизнь; его музыкальность; его плодородная почва и так далее, проснутся однажды: из множества мелких диких народностей, которыми когда-то были и греки, родится утонченная ( gesittete) нация: ее границы раздвинутся до Черного моря и далее по всему миру. Венгрия, эти новые народы, а также области Польши и России составят новую цивилизацию ( Kultur); с северо-запада этот дух распространится по Европе, которая объята сном, и сделает ее полезной ( dienstbar). Все это лежит впереди и должно однажды совершиться; но как? когда? кем? [791]791
Ibid. P. 77–78.
[Закрыть]
Таковы были масштабы морских мечтаний Гердера; он смотрел с Балтики, и взгляд его простирался до самого Черного моря, охватывая всю Восточную Европу. Увлекшись ассоциациями, он использовал для создания образа Восточной Европы «множество мелких диких народностей», а также Украину, Венгрию, Польшу и Россию. В своем воображении Гердер объединил все эти части общим немецким понятием Kultur.Украина, которая, по мнению Гиббона, еще оставалась «в естественном состоянии» и была соблазнительной добычей для завоевателя, для Гердера – центр этой новой цивилизации; ее народ «весел» и «музыкален», ему недостает лишь «утонченности». Он говорил о наступлении новой эры, предрекая будущее Восточной Европы на тысячу лет вперед. Однако при всем его энтузиазме, агентом цивилизации был для него дух Северо-Запада или, скорее, Западо-Севера, глядевший на Восточную Европу глазами самого Гердера, стремящегося сделать ее «полезной».
Наконец, почти в самом конце своего путешествия во Францию, Гердер обращается к особому случаю – Российской империи, подданным которой он был на протяжении пяти лет. Подобно другим философам-просветителям, он размышляет, принесут ли законодательные планы Екатерины «истинную цивилизацию» в Россию. «В чем состоит истинная цивилизация?» – спрашивает он и отвечает: «Не только в даровании законов, но и в воспитании нравов». Сделав эту традиционную оговорку, Гердер задумывается, какие именно законы подойдут для России, отвергая проекты «законодательных умов» ( gesetzgeberische Köpfe) Англии, Франции или Германии, а также пример Древней Греции и Рима. Законы для России должны быть вдохновлены Востоком, и лишь тогда они будут соответствовать «характеру, многочисленности и разнице в уровнях ( Stufe) ее народов». Подчеркивая разницу «уровней», на которых находятся народы России, Гердер подходит к созданию для Восточной Европы самой, быть может, изощренной шкалы относительного развития, существовавшей в его столетии. Россия в целом и находилась на низком уровне развития, но и внутри нее Гердер выделял «развитые, частично развитые и дикие области». Эти степени развития ложились в основу географической схемы: «Дикие народы на границах империи; полуцивилизованные внутри самой страны и цивилизованные на морском побережье. Использование ( Gebrauch) Украины. Смотри вышеизложенный план» [792]792
Ibid. P. 80–81.
[Закрыть]. Загадочные слова об «использовании Украины» выставляли и эти его цивилизационные предсказания в несколько ином свете. Упомянутый «план» предполагал использовать Украину, ее «музыкальность», а главным образом – ее «плодородную землю», сделать ее сельскохозяйственно «полезной», поставить на службу своим политическим замыслам, отчего разные части России достигнут общего уровня развитости.
Согласно Гердеру, «законодательные умы» стран Западной Европы не могли помочь России; мало того, взявшись за подобную задачу, эти страны поставили бы под угрозу собственную цивилизацию: «Один из величайших торговых народов, например английский, взбудоражит другой, дикий народ и тем самым разрушит и самого себя – и этим диким народом может оказаться Россия!» Взбудоражив Россию, можно было спровоцировать «людское наводнение». Гердер указывал на закат и падение Римской империи: «С Римом и варварами было нечто подобное: там, как говорят в простонародье, долго бурлило ( munkelte), а в наше время будет бурлить еще дольше, но затем взорвется еще внезапнее» [793]793
Ibid. P. 90.
[Закрыть]. Гердер перенес историю падения Рима в современность, точнее, превратил ее в предсказание будущего; при этом изменились ее географические координаты, и теперь Западная Европа ожидала вторжения варваров, а Восточная Европа была источником этого людского потопа.
По своей пророческой загадочности высказывание Гердера может сравниться в XVIII столетии лишь со словами Руссо, предсказавшего в «Общественном договоре», что татары покорят Россию, став «ее – и нашими повелителями». Подобно Руссо, Гердер с некоторым сомнением относился к цивилизации, а потому был, видимо, готов поверить, что ее могут победить варвары, мелкие дикие народности, новая цивилизация. Гердер считал, что слава французской культуры осталась в прошлом: «Век Людовика миновал; а значит, и век Монтескье, д’Аламбера, Вольтера, Руссо: нам остались лишь обломки». Наивысшим доказательством литературного застоя для Гердера была «Энциклопедия» Дидро, показывавшая, что французы неспособны более к оригинальному творчеству [794]794
Ibid. P. 91–92.
[Закрыть]. Однако путь его лежал именно во Францию, и прежде чем закончить свой путевой журнал, он бросает прощальный взгляд на Россию, стараясь разглядеть ее будущее.
«Великая императрица!» – восклицает он, обращаясь к ней напрямую, подобно многим другим философам; вслед за ними, он без колебаний заявляет ей, что все ее усилия по кодификации законодательства просто неверны ( unrecht). Она не смогла понять сущность и последствия деспотического правления в России. «Великая императрица!» – восклицает он вновь и вопрошает: «Где же теперь Монтескье?!», найдется ли сегодня «второй Монтескье»? В своей работе о Гердере и России Конрад Биттнер утверждает, что этим вторым Монтескье, который сумеет создать законы, соответствующие российскому духу, Гердер считал себя самого [795]795
Ibid. P. 101–102; Bittner Konrad.Die Beurteilung der russischen Politik im 18 Jahrhundert durch Johann Gottfried Herder // Im Geiste Herders. Ed. Erich Keyser. Kitzingen am Main: Holzner-Verlag, 1953. P. 47.
[Закрыть]. Действительно, в 1760-е годы, наверное, едва ли не каждый философ, от почтенного Вольтера в Ферне до юного Гердера в Риге, воображал себя собеседником и советником Екатерины. Казанова обсуждал с ней в 1765 году в Петербурге реформу календаря; в 1767-м Лемерсье приехал с намерением реформировать все остальное. В 1765 году Гердер написал хвалебную оду Екатерине и в 1767 году получил приглашение оставить преподавание в Риге и стать школьным инспектором в Петербурге [796]796
Clark Robert T.Herder: His Life and Thought. Berkeley: Univ. of California Press, 1955. P. 60.
[Закрыть]. Была, конечно, огромная разница между приглашением в Россию такой всемирной знаменитости, как Руссо в 1766 году, и приглашением молодого, подающего надежды учителя. Как бы там ни было, Гердер предложение отклонил и пробыл в Риге до 1769 года, когда он окончательно покинул Российскую империю. Эта упущенная в 1767 году возможность наводит, однако, на мысль, что Гердер, как и многие другие философы, предпочел, чтобы его восторженный интерес к России оставался платоническим. Действительно, наибольшего накала он достиг, когда сам Гердер уже был на пути во Францию.
В 1769 году Гердер писал из Нанта в Ригу, чтобы заказать книги о России, в частности немецкое издание «Петра Великого» Вольтера, и чтобы узнать об успехах Екатерины в деле кодификации законодательства [797]797
Bittner.P. 50–51.
[Закрыть]. Интересы его, однако, смещались от политической жизни России к славянской этнографии и фольклору. Много лет спустя, в 1802 году, за год до смерти, он на какое-то мгновение вернулся к российским фантазиям предыдущего поколения. В выражениях, поразительно напоминающих письма Вольтера и беседы Дидро, Гердер сожалеет, что Петр выбрал местом для своей новой столицы Санкт-Петербург, а не Азов. «Ведь облик России был бы совсем другим!» – вздыхает он. Российская столица в Азове пользовалась бы всеми преимуществами «прекрасного климата, удачно располагаясь в устье Дона, в самом центре империи, так что монарх мог бы располагать своими европейскими и азиатскими провинциями как правой и левой рукой». Всем этим Петр пожертвовал ради возможности через Санкт-Петербург «включиться в мелкую торговлю маленькой Западной Европы ( des kleinen westlichen Europa)» [798]798
Ibid. P. 68–69.
[Закрыть]. В этом изложении Западная Европа выглядит чем-то мелким и незначительным, потому что для Гердера она стала понятием относительным и с политической, и с философской точки зрения.