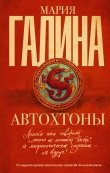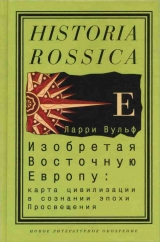
Текст книги "Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения"
Автор книги: Ларри Вульф
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 38 страниц)
После смерти Рюльера между его семьей и французским правительством началась продолжительная борьба за неопубликованную рукопись о Польше. Обе стороны заручились поддержкой тех, кто при жизни предыдущего поколения участвовал в связях эпохи Просвещения с Восточной Европой. Правительство было представлено Пьером Эннином, писавшим Вольтеру из Варшавы в 1761 году; родственники Рюльера советовались с Мармонтелем, который в 1766 году писал мадам Жоффрен из Варшавы. Революционный шторм захлестнул эту тяжбу, брат Рюльера погиб во время сентябрьской резни 1792 года, но в 1805 году, уже при Наполеоне, рукопись купил один парижский издатель. Ее отредактировали, вычистив из нее антирусскую направленность, а значит, и политический пафос; слово «варвар» было выпущено всюду, где оно относилось к русским [722]722
Ibid. P. 372–380.
[Закрыть]. Таким образом, и в случае России, и в случае Польши выбор между двумя тесно переплетенными идеологическими альтернативами сводился лишь к редакторской правке, а различие между цивилизацией и варварством было подвержено произвольным изъятиям и исправлениям. Однако в 1806 году правительство неожиданно перехватило отредактированную и уже готовую к публикации рукопись, намереваясь отменить правку и вернуться к первоначальному тексту. Министром иностранных дел в это время был Талейран, читавший первоначальную рукопись еще в 1783 году и критиковавший ее за недостаточно республиканский дух. Теперь же Наполеон задумал воссоздать Польское государство, отчасти чтобы оказать давление на Россию, сражавшуюся в то время против французов в составе Третьей коалиции; в этой ситуации польские симпатии Рюльера казались вполне уместными. В 1807 году император создал Великое Герцогство Варшавское, а в Париже в четырех томах наконец-то вышла «История польской анархии».
Интеллектуальная привязанность французов к Польше в кризисный период после 1766 года оказалась теперь переплетенной с французским имперским присутствием в Восточной Европе в эпоху Наполеона. Посмертную карьеру Рюльера, однако, ожидал еще один резкий поворот; стоило четвертому тому его книги выйти в свет в 1807 году, как Наполеон заключил с Россией Тильзитский мир (продолжавшийся до самого 1812 года, когда Великая армия вторглась в Российскую империю). Теперь царь Александр, внук Екатерины, протестовал против издания Рюльера во Франции, и в 1808 году национальный архив решил исследовать подлинность первоначальной рукописи. Директором архивов в это время был тот самый д’Отрив, восхищавшийся «живописностью» Болгарии в 1785-м на пути в Молдавию. В 1810 году национальная академия осудила Рюльера-историка за предвзятость; самым многословным среди его академических критиков был престарелый физиократ Дюпон, отправившийся в 1774 году в Варшаву и присвоивший себе «высокую честь создания нации посредством народного образования». Его слова вполне можно было применить к интеллектуальным отношениям с Польшей целого поколения, включая и самого Дюпона: он сравнил сочинение Рюльера с «одним из тех романов, которые столь некстати называют историческими» [723]723
Fabre.P. 571, примеч. 42.
[Закрыть].
«Республика Востока»
За год до Французской революции маркиз де Сад, опасный сексуальный преступник, обладавший своеобразным литературным талантом, находился в заточении в Бастилии и работал над романом в письмах «Алина и Валькур». Один из его философических протагонистов сначала обосновал утверждение, что «инцест есть установление человеческое и божественное», а затем непринужденно предложил заново разделить Европу, оставив «только четыре республики под названиями Запад, Север, Восток и Юг». Продолжавшаяся на протяжении всего XVIII века концептуальная смена континентальной оси «север – юг» на ось «запад – восток» достигла равновесия в неустойчивом воображении маркиза де Сада, превратившего Восточную Европу в республику Востока:
Россия образует республику Востока; я желаю, чтобы она уступила туркам, которых я отправлю из Европы восвояси, все азиатские владения Санкт-Петербурга. … В качестве возмещения я присоединю к ней Польшу, Татарию и все оставшиеся от турок владения в Европе [724]724
Marquis de Sad.Aline et Valcour // Oeuvres. Vol. I. Paris: Gallimard, 1990. P. 852–853.
[Закрыть].
Карта перекраивалась с небрежной самоуверенностью, и даже Россия подверглась разделу, чтобы установить четкую границу между Восточной Европой и Азией, между европейской республикой Востока и самим Востоком как таковым. Консолидация Восточной Европы в одно целое была затем представлена как возмещение России за понесенные ею потери. Подобные геополитические фантазии недалеко ушли от замыслов Вольтера, которые он взволнованно излагал в письмах к Екатерине, и пока де Сад занимался творчеством в Бастилии, эти фантазии обретали второе дыхание. Начиная с 1788 года Иосиф и Екатерина вновь вели войну с Оттоманской империей. Армия Габсбургов опять осадила Белград, а русская армия вступила в Молдавию. Дипломаты работали над сложными схемами взаимных компенсаций, отрезая и передавая из рук в руки части Польши и Оттоманской империи во имя жадной утопии стратегического равновесия. Этот международный кризис достиг своей наивысшей точки с территориальными разделами Польши в 1793 и 1795 годах.
Поначалу казалось, что турецкая война Екатерины предоставила полякам шанс вернуть себе независимость; это они и попытались сделать на Четырехлетнем сейме 1788–1792 годов. Тем самым, когда в 1789 году разразилась Французская революция, в Польше была в разгаре своя, параллельная революция; обе они в 1791 году произвели конституции. В польской революции ведущую роль играл сам Станислав Август, которому помогали два итальянца, служившие связующим звеном между ним и философами Просвещения, остававшимися за границей. Сципионе Пьятолли, прибывший в Польшу из Флоренции как частный учитель, в конце концов участвовал в написании польской конституции. Филиппо Мацей, работавший в Европе на Патрика Генри и Томаса Джефферсона во время американской Войны за независимость, теперь представлял Станислава Августа в революционном Париже, состоя в дружеских отношениях с Лафайетом. В 1790 году, когда Станислав Август пожертвовал свои драгоценности на дело независимости, Мармонтель из Франции приветствовал его патриотизм и послал новое издание «Велизария», первое издание которого за двадцать лет до того было посвящено Екатерине. Польский король ответил, что похвала из Парижа напомнила ему о словах, сказанных Александром Македонским: «О, афиняне, что только не сделаешь, чтобы заслужить вашу похвалу!» Он подчеркнул, что не собирается нескромно сравнить себя с Александром, а лишь уподобляет Париж Афинам древности [725]725
Fabre.P. 510; см. также: Rostworowski Emanuel.Ostatni Król Rzeczeposoplitej: geneza i upadek konstytucji 3 maja. Warsawa; Wiedza Powszechna, 1966.
[Закрыть]. В этой формуле вновь подтверждается иерархия европейских наций, остававшаяся в силе, даже когда и Франция и Польша были заняты каждая своей революцией.
Французские революционеры, со своей стороны, приветствовали польскую конституцию 3 мая 1791 года с умеренным энтузиазмом и неуверенной снисходительностью. Самые преувеличенные восхваления польской конституции во всей Западной Европе раздавались из уст Эдмунда Бёрка, красноречивейшего из всех идеологических противников Французской революции. Он одобрял бескровность польской революции, подчеркивая тем самым, как потрясен он был революцией французской. Изумляясь, что поляки, «не имеющие искусств, промышленности, торговли или свободы», неожиданно произвели «счастливое чудо» мирной революции, он явно смотрел на них глазами Западной Европы. Тем временем французские революционеры поставили польских революционеров на место, особо подчеркивая их отсталость. Камилл Демулен в 1791 году допускал, что, «принимая во внимание точку, откуда польский народ начал свой путь, видно, что, если говорить относительно, они сделали столь же большой рывок к свободе, как и мы»; другой парижский революционер с удовольствием отмечал, что пример Франции «повторяют на окраине Европы». В обращении к французам оговорка об относительности польской революции принималась как данность: «Польша только что совершила революцию, без сомнения, очень достойную для этой страны, но, господа, желали бы вы иметь такую конституцию?» Французские революционеры могли обратиться и прямо к полякам, в любимой риторической манере эпохи Просвещения, предписывая им, например, усовершенствовать свою революцию, предоставив свободу крестьянам [726]726
Handelsman Marcel.La Constitution polonaise du 3 mai 1791 et l’opinion française // La Revolution Française. Vol. LVIII. Paris, 1910. P. 416, 425, 429, 433.
[Закрыть]. Подкупленный русскими Жан-Клод-Ипполит Мейе де ла Туш утверждал, что «Франция и Польша не имеют между собой ничего общего» [727]727
Fabre.P. 27, 575, примеч. 28.
[Закрыть]. Робеспьер Неподкупный, напротив, исключил всякие иерархические сопоставления между революциями и выдвинул нелепое утверждение, что «французский народ, как кажется, обошел остальное человечество на две тысячи лет».
В 1791 году, когда была принята польская конституция, общественное мнение в Англии было возбуждено Русско-турецкой войной и русскими намерениями в Восточной Европе. Уильям Питт подготовил ультиматум Екатерине, требуя мира и сохранения статус-кво в Восточной Европе, в противном случае угрожая послать британский флот на Балтику и в Черное море. Одна лондонская газета беспокоилась, что «Россия шаг за шагом проглотит все соседние государства», но русское посольство в Лондоне в ответ заказало несколько памфлетов, в частности «Серьезное исследование мотивов и последствий настоящего вооружения против России», написанное по-французски, а затем переведенное на английский Джоном Парадайзом [728]728
Anderson M.S.Britain’s Discovery of Russia 1533–1815. New York: St. Martin’s Press, 1958. P. 165–169.
[Закрыть]. Питт отложил свой ультиматум, и Екатерина завершила войну с турками без постороннего вмешательства. Затем в 1792 году она вторглась в Польшу, чтобы уничтожить конституцию, и произвела в 1793 году второй раздел. Вольтер к этому времени уже умер и не мог оценить ее достижения, как он оценил в своей переписке с Екатериной первый раздел; Гримм, однако, был все еще жив (хотя ему и исполнилось семьдесят) и написал ей в духе столь любимого ею непристойного подтрунивания. Он счел уместным описать раздел 1793 года следующей метафорой: Польша была «маленькой шлюшкой» ( petite égrillarde), которой надо было «укоротить юбки, затянуть корсет, даже подстричь ногти». В том же самом году Эдмунд Бёрк, с энтузиазмом поддержавший конституцию 1791 года, смирился с произошедшим недавно разделом со следующими словами: «Что касается нас, то Польшу на самом деле можно считать страною, расположенной на Луне». В том же 1793 году Кондорсе более реалистично описал происходящие географические перемещения, сочинив стихотворение о «Поляке, сосланном в Сибирь» [729]729
Lortholary.P. 263; Anderson.P. 193; Arnold Robert.Geschichte der Deutschen Polinlitteratur: von den Anfogen bis 1800. Halle: Max Niemeyer, 1900. P. 168.
[Закрыть].
В 1795 году Польша была окончательно расчленена и перестала существовать как государство. Тем не менее, хотя все державы-участницы раздела и договорились, что само название Польши «должно отныне и навсегда подвергнуться забвению», поэтическое перо Томаса Кэмпбелла ухватилось за эту тему, нарушая установленное табу:
Where barbarous hordes of Scythian mountains roam,
Truth, Mercy, Freedom, yet shell find a home. …
Oh, bloodiest picture in the book of Time,
Sarmatia fell, unwept, without a crime [730]730
Camblee Thomas.Poland // David Perkins (ed.), English Romantic Writern. New York: Harcourt, Braceà World, 1967. P. 603.
[Закрыть].
Там, где в скифских горах бродят варварские орды,
Истина, Милосердие, Свобода еще не нашли себе места.
………………………………………………
О, кровавейшая картина в книге Времени,
Сарматия пала, неоплаканная, без вины.
Век Просвещения открыл Польшу (вместе с остальной Восточной Европой), а теперь эстафету готовилась принять эпоха романтизма, целиком перенимая эту изощренную конструкцию, со всеми ее интригующими намеками на древнюю Сарматию, варварскую Скифию и даже Луну. Руссо призывал поляков сохранить Польшу в своих сердцах, но его собственные «Соображения», а также труды других авторов его поколения, несмотря на их увлечение Польшей, помогли вписать ее имя и в интеллектуальную программу Просвещения.
Французская революция нанесла удар отношениям Екатерины с Просвещением. Она с открытой враждебностью относилась к революции, считая ее международной идеологической угрозой, так что в 1791 году в Санкт-Петербурге даже запретили издание Вольтера. Вольней, один из философов Просвещения, писавший об оттоманском Востоке, возвратил ей почетную медаль, некогда посланную ему из России; Гримм, впрочем, все еще был к ее услугам и от имени императрицы заверил Вольнея, что она уже «забыла и ваше имя, и вашу книгу» [731]731
Lortholary.P. 263–264.
[Закрыть]. Теперь в Санкт-Петербург толпами прибывали не просвещенные философы, а эмигранты-роялисты; через двадцать лет после визита Дидро русская столица принимала брата Людовика XVI, графа Артуа, ставшего после реставрации Карлом X. Существовал даже план основать отдельную эмигрантскую колонию на Азовском море – двадцать лет спустя после того, как Вольтер и Екатерина мечтали поселить на том же самом месте швейцарских часовщиков.
В 1795 году в Санкт-Петербург прибыла Элизабет Виже-Лебрен, любимая портретистка Марии-Антуанетты. В своих мемуарах она оперирует традиционными формулами XVIII века, упоминая «внутреннюю часть России, куда еще не проникла наша современная цивилизация». На самом деле она почти не видела этой внутренней части, и даже короткая поездка за пределы столицы в сопровождении русского слуги напомнила ей о «Робинзоне Крузо и Пятнице» [732]732
Vigée-Lebrun Elizabeth.The Memoirs of Elizabeth Vigée-Le Brun (Bloomington: Indiana Univ. Press, 1989). P. 161, 189; Mohrenschildt Dmitri von.Russia in the Intellectual Life of Eighteenth-Century France. New York: Columbia Univ. Press, 1936. P. 25–26.
[Закрыть]. В Санкт-Петербурге она рисовала по памяти Марию-Антуанетту, но успела лишь начать портрет Екатерины, как в 1796 году царица скончалась. У нее была еще возможность написать портрет Станислава Августа, который лишился своего государства и прибыл в Санкт-Петербург в 1797 году, за год до своей смерти. Мадам Виже-Лебрен вспоминала, как впервые услышала о нем в Париже, за много лет до того – «от многих людей, встречавших его у мадам Жоффрен», а теперь она сама пользовалась его благосклонностью: «Ничего не было трогательнее, чем снова и снова слушать, как счастлив бы он был, если бы я приехала в Варшаву, пока он еще царствовал». Она написала «два больших поясных портрета, один в костюме Генриха VI, другой в бархатном сюртуке». Что до самого Станислава Августа, то он, возможно, и рад был познакомиться с мадам Виже-Лебрен, но самой важной его встречей в Санкт-Петербурге было паломничество в Эрмитаж, где разместили библиотеку Вольтера [733]733
Vigée-Le Brun.P. 208–366; Fabre.P. 552.
[Закрыть]. Екатерина купила ее после смерти философа в 1778 году и перевезла книги в Санкт-Петербург, где они стоят и сейчас.
В 1801 году, первом году нового века, в Англии Уильям Коббетт напечатал в газете «The Porcupine» («Дикобраз») серию открытых писем к министру иностранных дел лорду Хоксбери, будущему лорду Ливерпулю. В своих письмах Коббетт осуждал проходившие в то время в Амьене переговоры о заключении временного мира между Англией и Наполеоном. Именно закрытие континента для Англии и господство там Бонапарта сделали Коббетта особенно чувствительным к проблеме очертаний Европы. Он вглядывался в отдаленные восточные окраины, пытаясь найти страны, все еще неподвластные Наполеону. Там, однако, он и подавно отказывался видеть источник международной поддержки для Англии:
Какие политические отношения могут у нас быть со странами, расположенными за Неманом и Борисфеном? Мы поддерживаем сообщение с этими странами через Ригу, подобно тому как с Китаем мы поддерживаем сообщения через Кантон. Не правда ли тогда, что добрая половина Европы покорена Францией, а оставшаяся половина лежит простертой у ее ног? [734]734
Cobberr William.Letters to the Right Honourable Lord Hawksbury, 2 nded. London: Cobbett and Morgan, 1802. P. 82.
[Закрыть]
В этом исключительном абзаце Коббетт подвел итог конструированию Восточной Европы в XVIII веке и предвосхитил последствия такого подхода, наступившие в XIX и XX столетиях. Представление о крае, лежащем за Неманом и Днепром, вполне соответствует видению Бёрка, словно в телескоп глядевшего на Польшу, которая «может считаться страною, расположенной на Луне». Неизбежный и решительный ответ на вопрос о том, «какие политические отношения могут у нас быть», – вторжение в Россию, начатое Наполеоном в 1812 году.
Сравнивая страны, лежащие за Неманом и Днепром, с Китаем, Коббетт основывался на том, что век Просвещения упорно считал Восточную Европу «Востоком Европы». Точкой доступа туда для него, как и для Дидро по дороге в Санкт-Петербург за двадцать лет до того, была Рига. В XX веке Рига, к тому времени столица Латвии, превратилась в. передовой пост, откуда после революции американские дипломаты, включая молодого Джорджа Кеннана, докладывали о событиях в Советской России:
Старый Петербург был, конечно, мертв или по большей части мертв – и зачастую недоступен для путешественников с Запада. Но Рига все еще жива. Это один из тех случаев, когда копия пережила оригинал. Жизнь в Риге, таким образом, означала во многих отношениях жизнь в царской России. … Внизу, в промокшей от дождя гавани слышались крики маневровых паровозов и стук побитых ширококолейных товарных вагонов, завершавших свой месячный путь к докам бог знает откуда, из пространных внутренних частей России [735]735
Kennan George.Memoirs 1925–1950. New york: Pantheon Books, 1967. P. 29–30.
[Закрыть].
Кеннан и американские дипломаты сознательно поддерживали представление о преемственности между царской Россией и Советским Союзом; но одновременно заметна и наивная преемственность взглядов между воспоминаниями Элизабет Виже-Лебрен, где во внутренние части России «еще не проникла наша современная цивилизация», и мемуарами Джорджа Кеннана, обозначившего ту же самую территорию «бог знает откуда».
Коббетт говорил о принципиальном различии между «доброй половиной Европы» и «другой половиной», по умолчанию определявшейся как «страны, расположенные за Неманом и Борисфеном». В заключении к этому письму он проводил линию через весь континент, еще четче формулируя это разделение: «Европа, милостивый государь, закрыта для нас; от Риги до Триеста мы можем проникнуть в нее лишь через Францию» [736]736
Cobbett.P. 83.
[Закрыть]. И до и после 1801 года, когда Коббетт написал свое письмо, линия от Риги до Триеста обозначала историческое подразделение Европы на две части. В 1772 году Вольтер провозгласил создание «новой вселенной» от Архангельска до Борисфена, а в 1773-м приветствовал намерение Екатерины «упорядочить хаос» от Гданьска до устья Дуная. Очерченная Вольтером территория от Балтики до Черного моря более или менее совпадала с описанным у Коббетта пространством от Балтики до Адриатики. При этом до XVIII века ни то ни другое не воспринималось как осмысленная и логичная комбинация стран и народов. Лишь позднее Рюльер и Сегюр смогли писать о «востоке Европы» или «европейском Востоке», а де Сад – изобретать европейскую «республику Востока». Так свершалось изобретение Восточной Европы. В XX веке Джордж Кеннан легко делал обобщения о «неясном интеллекте», который он обнаружил «в странах, расположенных к востоку от Вислы и Дуная»; именно там, от Гданьска до Дуная, Вольтер помещал свой «хаос» [737]737
Kennan.P. 26.
[Закрыть]. В 1946 году Черчилль описал «железный занавес», пролегший «от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике», возвещая тем самым новую эпоху в международных отношениях. Однако предложенная им карта была не нова, поскольку проведенная Черчиллем линия предложена Вольтером (с начальным пунктом на Балтике) и Коббеттом (с конечной точкой на Адриатике). «Железный занавес» опустился в XX веке как раз там, где эпоха Просвещения провела границу между Западной Европой и Восточной, натянув занавес культурный, сотканный не из железа, а из более тонких материй.
Глава VII
Населяя Восточную Европу. Часть I: Варвары в древней истории и современной этнографии
«Разобрать мешанину»
Самым знаменитым иностранцем, побывавшим в Оттоманской империи в XVIII веке, был барон де Тотт, ставший объектом шуток для Вольтера и соперничества – для Мюнхгаузена; однако когда Рюльер занялся изучением турок и татар, он справлялся в архивах французского Министерства иностранных дел с донесениями не только Тотта, но и Шарля де Пейсоннеля. В 1755 году, как раз когда Тотта послали в Константинополь, Пейсоннель отправился в Крым в качестве французского консула; они не только одновременно состояли на дипломатической службе, но и сферы их интересов часто совпадали, так как Крым в то время был все еще политически связан с Оттоманской империей. Тотт, однако, в основном интересовался военными делами, приобретя свой международный ореол таинственности именно как советник при оттоманской артиллерии, в то время как Пейсоннель занимался куда менее взрывоопасными предметами. Гораздо больше артиллерии его интересовала археология, и, находясь в Крыму, он мирно изучал древнюю историю Восточной Европы. В качестве консула он сначала заинтересовался черноморской торговлей и в 1755 году направил в Министерство иностранных дел свою «Записку о гражданском, политическом и военном состоянии Малой Татарии» [738]738
Iorga Nicolae.Les Voyageurs Française dans l’Orient Europen. Paris: Boivin, 1928. P. 105.
[Закрыть]. В 1765 году, однако, Пейсоннель представил на рассмотрение королевской Академии надписей и изящной словесности свои «Исторические и географические замечания о варварских народах, населявших берега Дуная и Черного моря», где его познания о современном Крыме переносились хронологически и растягивались географически, становясь основой для исследования древней истории значительно более обширного региона. Первая глава служила введением в географию придунайских стран, «бывших во все времена местом встречи и пристанищем для всех варваров, собиравшихся в этом краю, чтобы отсюда распространиться не только в соседние области, но и по всей Европе, и даже в самые отдаленные районы Азии и Африки». Далее Пейсоннель обещает «распутать крайнюю неразбериху», образовавшуюся в результате подобного стечения варваров, движущихся в самых различных направлениях [739]739
Peyssonnel Charles de.Observation historiques et géographiques, sur les peuples barbares qui ont habit les bords du Danube à du Pont Euxin. Paris: Chez N.M.Tillard, 1765. P. 1–2.
[Закрыть]. Таким образом, в своем исследовании древней истории и географии он брал на себя роль, прямо перекликавшуюся с той, которую Вольтер приписал имперской политике Екатерины, – «рассеивание хаоса».
Пейсоннель выделял два основных вектора варварских нашествий; он говорил о « Barbares Orientaux», «восточных варварах», главным образом скифах, двигавшихся с востока на запад, и « Barbares Septentrionaux», «северных варварах», главным образом славянах, шедших с севера на юг. Он цитировал Плиния, доказывая, что «к восточным скифам следует относить всех варваров, устремившихся на запад и известных под именами даков, гетов ( Getae) и сарматов». Они происходили из «азиатской Скифии», которую географически описывали еще и как «великую Татарию», то есть из Средней Азии и Сибири. Однако сам Пейсоннель был лично знаком лишь с «малой Татарией», Крымом и Черноморским побережьем. «Во время военной кампании, которую в 1758 году я проделал вместе с ханом татар, у меня была возможность проехать вдоль всего побережья», – писал он; в этом районе можно было обнаружить этнографические материалы для работы над древней историей варварских завоеваний:
В этих странах, лежащих вокруг Черного моря, можно найти следы народов Колхиды и азиатской Скифии, гуннов, аваров, аланов, венгерских турок, булгар, печенегов и прочих, в разное время приходивших сюда, чтобы совершать набеги на берега Дуная, куда до этого вторгались галлы, вандалы, бастарны ( Bastarnae), готы, гепиды ( Gepids), славяне, хорваты, сербы [740]740
Ibid. P. 4–7.
[Закрыть].
Судя по всему, Пейсоннель убежден, что, когда нужно было идентифицировать различные племена восточноевропейских варваров, ему могла помочь этнография, воссоздавая древнюю историю на основании классических источников.
Это убеждение представляется еще более важным, если принять во внимание, что путешественники, посещавшие Восточную Европу в XVIII столетии, часто испытывали сходное хронологическое смещение, когда они делали историю варварских племен фоном для своих современных впечатлений. Через двадцать лет после выхода в свет книги Пейсоннеля Сегюр заметил, что, въезжая в Польшу, «оказываешься посреди полчищ гуннов, скифов, венедов, славян и сарматов». Немного позже, уже в России, он нашел, что при виде крестьян «на ваших глазах оживают скифы, даки, роксоланы, готы, наводившие некогда ужас на римский мир». Можно предположить, что Сегюр просто пользовался перечислением народов, чьи имена стали нарицательными, как литературным приемом, чтобы передать ощущение варварства; однако Пейсоннель, несомненно, считал подобные поиски «следов» древних народов скорее научными, чем литературными. Сравнивая Пейсоннеля и Сегюра – при том что оба они в конце концов обнаружили в современной Восточной Европе варваров древности, – мы видим, что граница между литературным образом и антропологическим исследованием была довольно размытой. Именно в восточной части Европы, как ни в каком другом месте, эти «следы» древней истории лежали на поверхности и античная история перетекала в современную этнографию. У Пейсоннеля, и особенно у Гиббона, категории античной истории, в которых описывались варварские народы Восточной Европы, не только перекликались с наблюдениями современных путешественников, но и прямо вошли в научный аппарат формировавшейся тогда новой общественной науки – этнографии, что особенно ярко проявилось в открытии славян Гердером. Хотя славяне – лишь один из многочисленных варварских народов, упоминавшихся у Пейсоннеля и Сегюра, именно им суждено было стать центральным элементом современного представления о Восточной Европе.
Распутывая узел варварских завоеваний, Пейсоннелль главным образом хотел определить, в каком направлении двигалось каждое из племен, будь то шедшие на запад скифы или стремившиеся на юг славяне. Эта подвижность физической географии несколько осложняла этнографическую классификацию народов. Болгары, к примеру, описывались как «восточные скифы», пришедшие из-за Волги к «Понтийской Скифии» на Черном море; гунны же оказывались «скифами подлинно славянскими, или сарматскими» [741]741
Ibid. P. 30.
[Закрыть]. Они происходили из «европейской Сарматии» на Дону, поэтому «их не должно смешивать с венграми», которые пришли позднее из Туркестана. Характеризуя гуннов, Пейсоннель обращается и к древним источникам, и к современным этнографическим наблюдениям:
Изображения этих народов, которые предлагают нам поэт и историк, невероятно напоминают наших сегодняшних татар, особенно ногайцев, которые с виду исключительно безобразны и грязны, отличаются проворством и неутомимостью и всю жизнь проводят в седле. … Хотя между этими двумя племенами можно усмотреть совершенное сходство обычаев и хотя в далеком прошлом они, возможно, имели общих предков, их тем не менее необходимо рассматривать как два совершенно различных народа, поскольку в их языках нет ни малейшего сходства. Гунны относились к славянским или сарматским скифам, тогда как ногайцы являются скифами татарскими и черкесскими [742]742
Ibid. P. 39.
[Закрыть].
В данном случае язык помешал установить прямую связь между варварами древними и современными, хотя вся методология Пейсоннеля явным образом направлена на установление именно такой связи.
В главе «Первое появление аваров и славян на этом берегу Дуная» Пейсоннель сам признается, что его раздражает многочисленность и разнообразие варварских племен, вопрошая: «Как разобраться в этом смешении различных народов?!» К VI веку берега Дуная уже были испещрены «осколками всех варварских племен, населявших некогда Паннонию» и успевших «так смешаться, что, даже живи мы в ту эпоху, нам было бы сложно определить с точностью, какие из этих народов стали предками аваров» [743]743
Ibid. P. 50–51.
[Закрыть]. Восточная Европа уже тогда была собранием этнографических осколков, и Пейсоннель, изучавший их «следы» в XVIII столетии, полагал, что его собственное научное замешательство лишь отражает смешение разных племен в прошлом. Считая своей задачей «распутывание», он тем самым подразумевал наличие путаницы, которую его собственные изыскания парадоксальным образом лишь увеличивали. Валахи представлялись ему особенно «запутанными»: «Этот народ, в сущности, следует рассматривать как смешение римлян и греков с даками, гетами, гепидами, язигами ( Jazyges), сарматами, саксонами ( Saxons), готами, гуннами, аварами, славянами, печенегами, турками и всеми восточными и северными варварами, последовательно завоевывавшими ту землю, которую сегодня населяют валахи и молдаване». Он лично посетил Валахию и был «совершенно поражен», услышав, как крестьянин называет ее «римской землей» (« Roman land»), то есть Румынией [744]744
Ibid. P. 194–195.
[Закрыть]. Представления Пейсоннеля о смешении всех племен и народов в Восточной Европе не допускали таких простых ответов.
Карты древнего мира, создававшиеся в XVIII веке, были менее туманны, чем представления Пейсоннеля; они должны были достичь хоть какой-то графической наглядности. В « Atlas Universel» Робера, вышедшем в 1757 году, на карте Римской империи к западу от «Германии» изображена широкая полоса «Германо-Сарматии», протянувшаяся через всю Восточную Европу от Балтики до Черного моря. Далее на востоке, на территории современной России, находится собственно «Сарматия», а в Северном Причерноморье располагается «Малая Сарматия» (« Parva Sarmatia»). На карте империи Карла Великого обозначены не только местности, но и народы, их населявшие, причем восточная граница империи заселена «склавами» (« Sclavi») и гуннами (« Hunni») [745]745
Vaugondy Rober de.Atlas Universel. Vol. 1 Paris, 1757. Maps 4, 12.
[Закрыть]. В «Древней географии» д’Анвилля, изданной в 1771 году, восточная часть Европы обозначена как «Сарматия», а далее к востоку лежит «Скифия» [746]746
Anville Jean-Baptiste d’.A Complete Body of Ancient Geography. London: Robert Sayer, 1771. Maps 1, 3.
[Закрыть].
Представления Пейсоннеля о древней истории плохо поддавались картографированию, так как описывали географию движения, вторжение различных варварских племен. Основная схема действия этих этнографических сил выглядела как вектор движения восточных варваров, главным образом скифов, а позже – как вектор движения северных варваров, главным образом славян. В XVIII веке скифов находили по всей Восточной Европе; они определяли ее варварские черты, которые в конечном итоге ассоциировались с современными татарами. Скифы были известны по той важной роли, которую им отводит Геродот в своей четвертой книге, рассказывая о том, как они сопротивлялись персам, приносили в жертву пленных, пили кровь своих поверженных врагов. Франсуа Артог предположил, что для Геродота и греков скифы были воплощением культурной «инакости» и что неопределенность античной географии превратила скифов Геродота в «народ, живущий где-то посередине между двумя мирами, на границах Азии и Европы» [747]747
Hartog Franois.The Mirror of Herodotus: The Representation of the Other in the Writing of History. Trans. Janet Lloyd. Berkeley: Univ. of California Press, 1988. P. 30.
[Закрыть]. Такое место обитания делало скифов особенно удобным материалом, чтобы конструировать в XVIII веке концепцию Восточной Европы. Впрочем, использовались они и в других целях: например, в трагедии Вольтера «Скифы», написанной в 1767 году, под скифами подразумевались граждане Женевы. Однако и в этом случае Вольтер все же не мог избавиться от восточноевропейских ассоциаций и, посылая пьесу своему венгерскому корреспонденту Яношу Фекете, писал: «Потомок гуннов хочет увидеть мою скифскую драму». Хотя отождествление древних скифов с современными татарами признавалось вполне убедительным, в конце концов этнография Просвещения пришла к мнению, что еще более важная роль в сопряжении прошлого и настоящего Восточной Европы принадлежит славянам. В античных источниках славяне упоминались лишь как один из многих варварских народов, однако в современном мире они явно представляли собой большую языковую группу, связывавшую вместе различные страны Восточной Европы. Пейсоннель подчеркнул их значение, поместив в предисловии к своей книге исторический очерк славянского языка. Заинтересовавшись этой книгой после ее выхода в свет в 1765 году, Вольтер шутливо заявил, что намерен «хорошенько выучить язык древних славян» [748]748
Lortholary Albert.Le Mirage russe en France au XVIIIe siècle. Paris: Boivin, 1951. P. 297, note 87; Gyergyai Albert.Un correspondant hongrois de Voltaire: le comte Fekete de Galanta // Studies on Voltaire and the Eighteenth Century. Vol. 25. Ed.Theodore Besterman. Geneva: Institut et Musée Voltaire, 1963. P. 789.
[Закрыть].