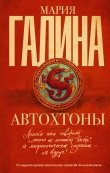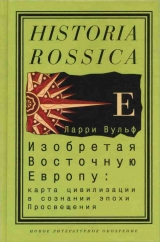
Текст книги "Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения"
Автор книги: Ларри Вульф
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 38 страниц)
От автора
Работая над этой книгой, я осознавал, сколь пугающе обширна выбранная мною тема; но одновременно у меня была возможность оценить наставления, помощь и поддержку, которые я все эти годы получал от своих учителей, коллег, друзей и близких. Кроме того, я в огромном долгу и перед теми учеными, которых я никогда не знал лично, но чьими трудами, иногда законченными за много лет до моего рождения, я руководствовался в своих попытках расставить по местам все детали этой запутанной головоломки. Ссылок на использованную литературу в конце этой книги совершенно недостаточно, чтобы выразить благодарность всем тем, чьи исследования позволили мне решиться на использование данных из самых разных отраслей исторической науки, и в особенности преодолеть по мере сил историографическую пропасть между Восточной Европой и Европой Западной, что совершенно необходимо, когда изучаешь историю их интеллектуальных взаимосвязей. При всем желании воздать должное за оказанную мне помощь, ответственность за предлагаемые в этой книге выводы я полностью беру на себя, тем более что многие сочтут их довольно спорными. Вопрос о том, как именно и почему эпоха Просвещения решила разделить Европу на две части, восточную и западную, кажется мне весьма злободневным и с исторической, и с политической точки зрения; я надеюсь, что высказанные мною соображения приведут к дальнейшему критическому обсуждению этой темы. Я сознаю, что масштаб этой исторической проблемы заставил меня вторгнуться в сферу компетенции многих моих коллег, и надеюсь, что мои выводы будут оспорены, уточнены и пересмотрены всеми теми, кто, подобно мне, считает отношения Просвещения с Восточной Европой крайне важной проблемой.
В академическом плане я прежде всего обязан профессору, бывшему моим мудрым научным руководителем в аспирантуре Стэнфордского университета, – Уэйну Вусиничу, «дядюшке Уэйну». Именно он поощрял мое стремление изучать Восточную и Западную Европу как единое целое, именно он помогал мне в работе над докторской диссертацией по истории взаимоотношений между Польшей и Ватиканом, именно он на своем примере показал, что Восточная Европа заслуживает от своих историков честности, аккуратности и научной утонченности. Есть у меня и еще более давний долг, перед Виктором Уэйнтраубом, который преподавал мне в Гарварде польский язык, литературу и историю идей. Книги, которые он давал мне читать, в том числе «Znaszli ten kraj?» Бойа и «Rodzinna Europa» Милоша, натолкнули меня на размышления о Западной Европе и Европе Восточной. Я считаю своей большой удачей, что он помогал мне своими советами в начале моей работы над этой книгой, и после его смерти в 1988 году мне очень не хватало и его самого, и его наставлений. Темой моей книги я обязан также и предыдущим поколениям ученых, учителям моих учителей, поскольку в основе ее лежат труды Роберта Кернера о Богемии в XVIII веке и Станислава Кота о польской теме в западноевропейской политической литературе.
Когда я учился в аспирантуре Стэнфордского университета, еще два профессора, Гордон Райт и Гордон Крэйг, помогли мне получить научную подготовку, необходимую для работы над подобной темой. В частности, Гордон Райт посоветовал мне прочесть «Storia dell’idea d’Europa» Чабода, а Гордон Крэйг подтолкнул меня к размышлениям о том, как воспринимали Восточную Европу в Вене на протяжении почти столетия, разделявшего принца Евгения и князя Кауница. Из-за моих особых связей со Стэнфордским университетом мне особенно приятно, что эта книга печатается в его Издательстве, и я благодарен Норрису Поупу за редактуру. Я также благодарен Уильяму Абрахамсу и Доррит Кон за их советы, связанные с публикацией моей рукописи.
Во время работы над этой книгой я пользовался финансовой поддержкой Бостонского колледжа и Американского Совета Ученых Обществ. В течение последних нескольких лет я представлял отдельные части этой книги на различных конференциях. Я особенно благодарен Алексу Петиту за предложение сделать доклад о Вольтере на Конференции по изучению XVIII века в Сиэтле (1991 г.), а также Сюзан Сулейман, пригласившей меня выступить в Центре по изучению грамотности и культуры в Гарварде (1992 г.). В 1988 году на Конференции по польско-французским связям в Корнельском университете я обдумывал отдельные аспекты своего замысла, и Алейн Гуэри любезно позволил мне ознакомиться с его трудом о польской тематике в сочинениях физиократов. Благодарен я и Майклу Уилсону, который помог мне осмыслить итоги этой конференции.
Многие ученые живо откликнулись на мой замысел, предложив интересные критические замечания и ценные советы. Я искренне благодарен Гаэтано Платаниа, который помог мне разобраться с Босковичем, и Марылине Жолтовской-Уэйнтрауб, пришедшей на помощь, когда речь зашла о Марате. Питер Станский помог мне установить, что леди Крэйвен и есть маркграфиня Ансбахская. Дена Гудман предостерегла меня от недооценки мадам Жоффрен. Симон Шама придал мне смелости взяться за Гиббона. Роберт Дарнтон любезно отозвался на мою просьбу о помощи, связанную с пребыванием Карра в Молдавии. Энтони Кросс откликнулся на мой призыв и не пожалел времени, чтобы помочь мне разобраться с Джозефом Маршаллом. Стивен Гринблатт и Энтони Мацак помогли мне ценными советами в области изучения путешественников и литературы о путешествиях. Ежи Едлицкий любезно позволил мне прочесть свою рукопись о польской теме в европейском сознании.
Я нахожусь в большом долгу перед Лесли Чокетг, которая не только помогла мне разобраться с маркизом де Садом, но и критически прочла первый вариант моей рукописи. Я также признателен Кати Энн Миллер, прочитавшей мое введение в разгар урагана. Я благодарен Марии Татар за помощь, совет и поддержку на всех стадиях этого исследования; меня необычайно воодушевляло ее умение находить равновесие, будь то равновесие между историей и литературой или равновесие между сохранением рассудка и научной работой. Кроме того, она доказала мне, что и вправду возможно написать третью книгу – и даже не растерять при этом всех своих друзей. Своим обращением к истории путешествий и путешественников я во многом обязан дружбе с Полом Марксом, с которым мы вместе преподавали историю и литературу в Гарварде в 1980-х; его интеллектуальный энтузиазм поддерживал во мне интерес к литературе о путешествиях. Мне очень не хватало Пола после его смерти в 1989 году.
С самого начала и до конца моей работы над книгой мои коллеги по историческому факультету Бостонского колледжа были настроены крайне благожелательно. Я особенно благодарен Тому Перри за наши беседы о Моцарте, Робин Флеминг за ее рассказы о скифах и Полу Брейнсу за ценные советы, касающиеся Гердера и Гегеля. Два моих аспиранта, Хью Гилдерсон и Йик Роу, побуждали меня обращаться в своей книге к центральным проблемам истории XVIII века. Я благодарен Библиотеке О’Нила в Бостонском колледже и ее замечательному библиотекарю Мэри Кронин, терпеливо сносившей мои неумеренные запросы и добывавшей мне книги, которые я и не надеялся достать в Бостоне.
Джим Кронин – замечательный человек и замечательный друг; его дружба помогла мне не только написать эту книгу, но и работать над ней с удовольствием. Его советы были столь умны, он поощрял меня с таким энтузиазмом, его пример был столь воодушевляющим, что я понял наконец-то, что такое «научная коллегиальность». Его глубокое постижение академической политики и психологии научной работы, а также умение ценить все те радости, которые приносит преподавание истории, изменили мою жизнь.
Перри Класс вновь, как и много раз до того, сносила мою душевную неуравновешенность и мое чересчур серьезное отношение к родовым мукам, в которых создавалась эта книга. Кроме того, она помогала мне исключительно точными советами касательно всех аспектов моего замысла, начиная с определения его хронологических и тематических рамок и кончая мельчайшими деталями окончательного формата. Эта книга стала намного лучше благодаря ее советам – в тех случаях, когда мне хватало мудрости им последовать; и именно она помогла мне взглянуть на Луизу Мэй Олкотт глазами поляков. Она (Перри Класс, а не Луиза Мэй Олкотт) долго была вместе со мной, разделяла мой интерес к Восточной Европе и даже ночевала некоторое время в палатке под Краковом. Именно она отправила меня назад в Восточную Европу, когда сам я, по своей глупости, не понимал, что пришло время ехать, и именно она нашла мне замечательного спутника, профессора Николаса Франча, тайного наследника престола Бразовии в романе «Принц и Патриот», вышедшем под номером 239 в серии «Loveswept Romance». Именно она служила мне примером для подражания, а также была моим любимым писателем и моей истинной любовью. Вместе нам удавалось вести домашнее хозяйство, где многое остается несделанным, но пишутся книги, подобные этой, и, в конце концов, даже дети не уходят в школу без завтрака. Дети вполне по-спортивному относились к изобретению Восточной Европы; Орландо видел, как я работаю над книгой, с самого начала, а Жозефина родилась в 1989 году, « annus mirabilis» Восточной Европы. Они поддерживали меня, как только дети умеют это делать.
Мой самый большой, глубокий давний долг – это мой долг перед родителями, которым и посвящается эта книга. Посвящается она и памяти моих дедов, благодаря которым я ощущаю некоторую личную связь с Восточной Европой.
Кроме моих личных долгов существуют и долги научные, список которых значительно удлинился за время работы над этой книгой. В поисках всеобъемлющих ответов на широко поставленные вопросы я полагался на знания других ученых, надеясь таким образом возместить ограниченность моих собственных познаний. В частности, я очень увлекся работами французских исследователей предыдущих поколений и даже попал в некоторую зависимость от них. Французским философам принадлежала ключевая роль в изобретении Восточной Европы веком Просвещения, и с самого начала XX столетия французские ученые играли ведущую роль в изучении идей и действующих лиц XVIII столетия. Я многим обязан трудам Абеля Мансуи о славянской тематике во французской литературе, Мариэтты Мартэн о мадам Жоффрен, Алис Шевалье о Рюльере, Амбруаза Жобера о физиократах и, самое главное, блестящим работам Альбера Лортолари об эпохе Просвещения и России и Жана Фабра об эпохе Просвещения и Польше. Я в большом долгу и перед относительно недавними работами восточноевропейских авторов, в частности незаменимыми трудами польского историка Эмануэля Ростворовского и венгерского историка Белы Кепеши, изучавших связи между их странами и Францией в XVIII веке. Наконец, лишь благодаря блестящим работам англо-американских ученых последнего поколения я смог подступиться к гигантским проблемам, вроде той, что находится в центре этой книги, а именно к проблеме отношений между Вольтером и Екатериной. Я никогда бы не смог довести свое повествование до конца, не обращаясь постоянно к работам о Вольтере Теодора Бестермана, Питера Гэя и Кэролин Уайлдбергер; когда речь заходила о Екатерине, я в еще большей степени полагался на сочинения Изабель де Мадариаги, Джона Александера и Дэвида Ран села. Я также нахожусь в неоплатном долгу перед М. С. Андерсоном, писавшим об англо-русских связях, и Р. Дж. Маршаллом и Глиндр Уильямс, исследовавшими связи Англии с остальным миром в XVIII веке. Должен повторить, что никто из этих ученых никоим образом не несет ответственности за мои идеи и выводы и что я иногда даже истолковывал их замечательные работы вопреки замыслу авторов.
Мне повезло и в том отношении, что над этой книгой я работал как раз в те годы, когда восточноевропейский вопрос привлекал самое настойчивое и вдумчивое внимание всего ученого мира. Особенно после революции 1989 года, многие проницательные авторы представляли в развернутом виде свои размышления о месте Восточной Европы в современном европейском доме. Я с огромным интересом следил за этими дебатами, особенно за тем, что писали Тимоти Гартон Эш, Тони Джудт, Жак Рупник, Даниэль Широ, Гэйл Стокс, Кришан Кумар, Милан Кундера, Жозеф Скворецкий, Станислав Баранчак, Адам Михник и Чеслав Милош. Все они в последние годы приняли участие в переосмыслении самого понятия «Восточная Европа», и я бы не смог заниматься волновавшими меня проблемами XVIII века, не принимая во внимание текущие процессы и современные дискуссии. Я надеюсь, что мои исторические штудии помогут по-новому взглянуть на эти проблемы. При этом я прекрасно понимаю, что мои собственные теории и выводы своим рождением в значительной степени обязаны тем, кто посвятил себя размышлениям о новейшей истории Восточной Европы, и тем, с кем я спорил, и тем, с кем я соглашался, их безоговорочной преданности предмету и глубочайшей эрудиции.
Мне кажется, что у меня есть еще один, необычный, долг: я в долгу перед героями моей книги, философами эпохи Просвещения. Мой интерес к ним был пробужден именно их горячим интересом к Восточной Европе. Я понимаю, однако, что моя книга может показаться суровой критикой самой сути их интереса, который даже в самых привлекательных своих проявлениях был искажен элементами «доминирующего дискурса», «ориентализма» и представлениями о некоей нормативной «цивилизованности». Я также осознаю, что в моих попытках применить новейшие приемы критического анализа к творчеству величайших умов Просвещения есть все признаки самонадеянности; я, несомненно, ощущаю свою интеллектуальную ничтожность на фоне протекших веков. Это тем более необходимо оговорить, что философы эпохи Просвещения были и остаются одними из любимых моих интеллектуальных героев; несмотря на все искажения, их интерес к Восточной Европе вызывал у меня одновременно и восхищение, и изумление. Он был для меня отражением интеллектуальной пытливости, смелости и гениальности, которые они привносили в каждый уголок своего мира и которые, мне кажется, в значительной степени создали тот мир идей, в котором мы сегодня обитаем. Именно поэтому их идеи стали для нас и объектом изучения, и мишенью для критики, а я на протяжении нескольких лет был всецело поглощен размышлениями о самой концепции Восточной Европы.
Из всех них больше всего меня занимает Вольтер. Он – один из моих героев, и лишь немногие персонажи интеллектуальной истории вызывают у меня большее восхищение. Я, впрочем, понимаю, что, подвергнув его идеи научному разбору и сделав его самого главным предметом обсуждения на протяжении значительной части этой книги, я выставил философа в критическом, иногда даже ироническом свете. В «Политических взглядах Вольтера» Питер Гэй тактично заметил, что «в своей переписке с Екатериной он предстает в наименее привлекательном свете». Я вовсю использовал эту переписку, подробно разбирая ее как главное проявление представлений эпохи Просвещения о Восточной Европе. Короче говоря, я представил своего героя как раз в наименее привлекательном свете. Я, конечно, верю в призраки не больше, чем в них верил сам Вольтер, но, как восторженному почитателю вольтеровского остроумия, мне слишком легко представить пренебрежительную небрежность, с какой он мог бы высмеять мое академическое нахальство. Меня это беспокоит тем более, что в своей предыдущей книге о Вене времен Фрейда я отнесся почти столь же критически к еще одному из моих любимых героев. Сочтите меня поэтому историком идей, которого связывают непростые отношения именно с теми умами, которыми он больше всего восхищается. Я смиренно признаю, что эпоха Просвещения была совершенно исключительным интеллектуальным проектом, и даже когда речь идет об изобретении Восточной Европы, она задала тот ландшафт, на котором я теперь предаюсь своим куда менее значительным упражнениям в истории идей.
Л.В.
Изобретая Восточную Европу
Введение
«От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике железный занавес опустился через весь Континент», – объявил Уинстон Черчилль в 1946 году, в Фултоне, штат Миссури, далеко в глубине другого континента. Этой фразе о «железном занавесе», разделяющем Европу на две части, западную и восточную, суждено было стать самой удачной риторической находкой в его политической карьере. Почти полвека занавес этот оставался важнейшим структурным разломом как в сознании современников, так и на карте. Карта Европы, с ее многочисленными странами и культурами, оказалась рассеченной этим идеологическим барьером, разделявшим континент во время «холодной войны». По словам Черчилля, «тень опустилась над странами, столь недавно освещенными победой союзников»; эта тень легла и на карту, окрасив страны за «железным занавесом» в сумеречные цвета. Любые несчастья, неприятности, страхи могли рисоваться воображению в этом сумраке – и в то же время он освобождал от необходимости вглядываться слишком пристально, позволял даже смотреть в другую сторону: в любом случае, что можно разглядеть сквозь «железный занавес», что можно различить в обволакивающем все сумраке?
Странам, оказавшимся за «железным занавесом», Черчилль дал такое географическое определение: «эти восточные государства Европы». Все они оказались теперь «в том, что я вынужден назвать советской зоной», и во всех этих странах коммунистические партии стремились установить «тоталитарный контроль». Тем не менее линия от Штеттина до Триеста не была географически безупречной границей этой зоны, и Черчилль допустил одно исключение: «Лишь Афины, Греция с ее бессмертной славой, остаются свободными». Что же до остальных «восточных государств», то, с одной стороны, Черчилль признавал, что «безопасность всего мира требует нового европейского единства, и ни одна нация не может быть навсегда исключена из него». С другой стороны, существовали веские причины для того, чтобы принять, одобрить и даже укрепить все более заметный барьер, разделивший Европу на две половины. «Перед самым железным занавесом, легшим поперек Европы, существуют иные причины для беспокойства», – объявил Черчилль, с самого начала не сомневаясь, какие страны находятся «перед» занавесом (он назвал Италию и Францию) и какие обречены быть «позади». Он опасался политической инфильтрации, идеологической эпидемии, поскольку даже в Западной Европе «коммунистические партии, или пятые колонны, все больше угрожают христианской цивилизации» [8]8
Churchill Winston.The Iron Curtain // Blood, Toil, Tears and Sweat: The Speeches of Winston Churchill, ed. David Cannadine. Boston: Houghton Mifflin, 1989. P. 303–305.
[Закрыть]. На протяжении всей «холодной войны» железный занавес воспринимался как карантинный барьер, охраняющий свет христианской цивилизации от любых опасностей, мелькающих в сумраке по другую сторону. Такое восприятие давало лишний повод не особенно вглядываться в этот сумрак.
Фултонская речь Черчилля оказалась пророческой, и его метафора, отлитая в металле геополитических реалий, стала фактом международных отношений. Однако поколение спустя такие историки «холодной войны», как Уолтер Лафебр и Даниэл Йергин, стали задаваться вопросом, не повлияло ли само это пророчество на ход последующих событий, не способствовала ли провокационная речь в Фултоне кристаллизации идеологических зон в Европе и окостенению границ между ними? Из мемуаров самого Черчилля видно, что он не наблюдал безучастно за несчастиями, постигающими «восточные государства Европы», но активно помогал делить континент и опускать занавес. В 1944 году, менее чем за два года до того, как он в сопровождении Гарри Трумэна отправился в Фултон предупреждать мир о коммунистическом сумраке, Черчилль в Москве встретился со Сталиным, чтобы договориться о послевоенном разделе влияния в этих самых «восточных государствах». Набросав несколько цифр на клочке бумаги, он предложил Сталину 90-процентный контроль в Румынии, 75 процентов в Болгарии, по 50 процентов в Венгрии и Югославии, но только 10 процентов в Греции с ее «бессмертной славой». Черчилль хотел сжечь этот документ, но Сталин посоветовал сохранить его.
В 1989 году революция в Восточной Европе, а точнее – череда связанных между собой революций в различных «восточных государствах» опрокинула установленные там после войны коммунистические режимы. Политические перемены принесли с собой демократические выборы, внедрение рыночного капитализма, возможность путешествовать за границу и в конце концов, в 1991 году, роспуск Варшавского договора. С 1950-х годов именно Варшавский договор, вместе со своим западноевропейским аналогом, НАТО, придавал военное измерение расколу европейского континента, сплотив отдельные страны в два противостоящих блока, которые вели между собой «холодную войну». С приходом революций, распадом коммунистических режимов в Восточной Европе и окончанием «холодной войны» такие традиционные понятия, отражавшие разделение Европы на две половины, как придуманный Черчиллем «железный занавес», «зона советского влияния» или пресловутая «тень», потеряли всякое значение. Казалось, раскол Европы надвое внезапно оказался в прошлом, был забыт и отменен историей, а две части континента вновь воссоединились в единое целое. В 1989 году я в составе целой группы американских профессоров посетил Польшу, чтобы обсудить с польскими профессорами пока еще неясные последствия, которые советская политика гласности несла для Восточной Европы. Совместными усилиями наша группа экспертов породила целые горы наблюдений, парадоксов, предсказаний и заключений, но мы не видели ни единого намека на разразившуюся через год революцию. Ни я, ни мои коллеги не имели ни малейшего представления о том, что таилось в дымке будущего; никто не мог даже вообразить, что последствия гласности окажутся столь огромными и через год сама идея Восточной Европы как отдельной геополитической единицы и предмета специальных академических штудий окажется далеко не очевидной.
Революция 1989 года почти отменила полувековую интеллектуальную традицию, сделав неизбежным взгляд на Европу как на единое целое. На настенных картах Европа всегда была разноцветным континентом, мозаикой многочисленных государств; на других картах, которые находятся в нашем сознании, темная черта «железного занавеса» отделяла «свет» цивилизации «перед» этой чертой от «сумрака» по ту его сторону. Эти карты предстоит исправить и пересмотреть, но проблема в том, что в основе их лежат крайне убедительные и глубоко укоренившиеся представления. В 1990-х обеспокоенные итальянцы депортируют албанских беженцев; «Albanesi, no grazie!» – написано на стене. Немцы встречают поляков насилием и неонацистскими демонстрациями, а в Париже туристов обыскивают в магазинах лишь потому, что они приехали из Восточной Европы. Государственные мужи, столь недавно с энтузиазмом рассуждавшие о европейском единстве, пытаются делать вид, будто осажденное Сараево находится где-то на другом континенте. Отчасти это отчуждение основано на экономической пропасти, пролегшей между богатой западной и бедной восточной половиной Европы; но несомненно и то, что эта пропасть окружена многовековыми наслоениями предрассудков и культурных стереотипов. «Железный занавес» ушел в прошлое, но тень по-прежнему лежит над Восточной Европой.
Эта тень по-прежнему с нами потому, что, хотя «железного занавеса» и нет, сама идея Восточной Европы жива. Дело здесь не только в том, что сложившиеся за полвека интеллектуальные привычки упрямо сопротивляются переменам, но прежде всего в том, что концепция Восточной Европы родилась задолго до «холодной войны». Изобретенная Черчиллем метафора «железный занавес» оказалась убедительной и живучей благодаря той исчерпывающей глубине, с какой она описывала возникновение советской зоны влияния как международный катаклизм исторических пропорций. В то же время, при всей своей глубине, эта метафора смогла так легко подчинить себе сознание современников лишь потому, что была основана на долгой интеллектуальной традиции. На самом деле проведенная Черчиллем линия «от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике» была нанесена на карту и осмыслена еще два столетия назад, во времена его знаменитого предка, воинственного герцога Мальборо. «Железный занавес» пришелся как по мерке, и тот факт, что раскол континента на две части, на Западную и Восточную Европу, восходит к другому периоду интеллектуальной истории, был почти забыт или намеренно затушевывался.
Этот раскол возник задолго до Черчилля и задолго до начала «холодной войны», но происхождение его вовсе не теряется во мраке веков. Он возник отнюдь не сам по себе, не в силу естественных причин, и не случайно, но был продуктом создавшей его культуры, плодом интеллектуальной ловкости, орудием саморекламы и идеологической корысти. Черчилль мог отправиться в Фултон, штат Миссури, дабы, притворяясь сторонним наблюдателем, анализировать издалека сам раскол Европы и его причины. Раскол этот, однако, был вполне домашнего происхождения. Именно Европа Западная в XVIII веке, в эпоху Просвещения, изобрела Восточную Европу, свою вспомогательную половину. Именно Просвещение, чьи интеллектуальные центры располагались как раз в Западной Европе, поддерживало, а затем монополизировало изобретенный в XVIII веке неологизм, понятие «цивилизованности»; а затем на том же самом континенте, в сумеречном краю отсталости, даже варварства, цивилизованность обнаружила своего полудвойника, полупротивоположность. Так была изобретена Восточная Европа. Эта исключительно живучая концепция с самого XVIII века всегда находила себе обильную пищу, а в наше время точно наложилась на риторику и реалии «холодной войны»; она, несомненно, переживет распад коммунистической системы, оставаясь и в нашей культуре, и на тех картах, которые мы носим в своем сознании. Чтобы понять концепцию Восточной Европы и хоть как-то преодолеть ее, мы можем лишь начать изучение причудливых исторических процессов, вписавших ее в ткань нашей культуры.
Для европейцев эпохи Ренессанса континент подразделялся на две основные части – Север и Юг. Итальянские города-государства были несомненными центрами наук и искусств, живописи и скульптуры, красноречия и философии, не говоря уже про финансы и торговлю. Итальянские гуманисты не стеснялись смотреть на другие страны с откровенным снисхождением, наиболее ярко выраженным Макиавелли в знаменитом «Призыве освободить Италию от варваров», последней главе его «Государя». Он вспоминал вторжение французского короля Карла VIII в Италию в 1499 году, бывшее для каждого флорентийца и почти каждого итальянца его поколения главным событием эпохи, как начало «варварских» набегов с севера, положивших конец quattrocento, периоду наивысшего расцвета итальянского Ренессанса. Еще более болезненным было поколение спустя, в 1527 году, разграбление Рима германскими солдатами императора Карла V. Итальянский Ренессанс у себя на глазах приходил в упадок под ударами варваров, и гуманисты, мыслящие понятиями античной истории, от разграбления Рима германскими наемниками в 1527 году обращались к разграблению Рима готами в 476 году: им становилось ясно, что на севере лежат именно земли варваров. Подобно древним римлянам, итальянцы эпохи Ренессанса узнавали из Тацита, что германцы совершают человеческие жертвоприношения, носят шкуры диких животных и в целом отличаются отсутствием культуры: «В перерывах между войнами они уделяют некоторое время охоте, но в основном предаются безделью, помышляя лишь о сне и пище» [9]9
Tacitus.Germania // The Agricola and the Germania, trans. H. Mattingly and S. A. Handford. London: Penguin, 1970. P. 114.
[Закрыть]. Тацит знал, что где-то дальше на восток обитают другие варварские племена, сарматы и даки, но основной его интерес был прикован к германцам на севере; подобное видение мира идеально соответствовало взглядам итальянцев эпохи Ренессанса. В этом смысле Макиавелли, используя для своих целей интеллектуальную традицию Древнего Рима, проявил столь же блестящий риторический оппортунизм, что и Черчилль, положивший в основу изобретенного им «железного занавеса» интеллектуальную традицию Просвещения.
Унаследованное из классической античности и пришедшееся столь по вкусу итальянским гуманистам разделение европейского континента на цивилизованную Италию и северных варваров дожило до XVIII века. Уильям Кокс, опубликовавший в 1785 году свои «Путешествия через Польшу, Россию, Швецию и Данию», все еще объединял эти страны под общей рубрикой «северных королевств Европы» [10]10
Coxe William.Travels into Poland // Travels into Poland, Russia, Sweden, and Denmark: Interspersed with Historical Relations and Political Inquiries. London, 1785; rpt. New York: Arno Press and New York Times, 1971, preface.
[Закрыть]. Тем не менее эта географическая перспектива становилась анахронизмом, и именно интеллектуальные достижения эпохи Просвещения привели к появлению новой оси координат на континенте и к обособлению Западной Европы и Европы Восточной. В сознании современников Польша и Россия более не ассоциировались со Швецией и Данией, а взамен оказались связанными с Венгрией и Богемией, балканскими владениями Оттоманской империи, и даже с Крымом.
За несколько столетий, пролегших между эпохой Ренессанса и веком Просвещения, культурные и финансовые центры Европы переместились из Рима, Флоренции и Венеции, с их сокровищами и сокровищницами, в более динамичные Париж, Лондон и Амстердам. В Париже XVIII века Вольтер видел Европу совсем иными глазами, чем Макиавелли во Флоренции века XVI. Именно Вольтер возглавил философов Просвещения, старавшихся найти и сформулировать новую концепцию континента, простиравшегося для них не с юга на север, а с запада на восток. При этом они сконструировали новый образ Европы, завещав его нам, видящим континент их глазами, – а вернее, это мы сами послушно переняли заново изобретенную ими картину Европы. Подобно тому как в век Просвещения новые центры пришли на смену старым столицам эпохи Ренессанса, край варварства и отсталости находился теперь не на севере, а на востоке. Две Европы, Восточная и Западная, были изобретены сознанием XVIII века одновременно, как две смежные, противоположные и взаимодополняющие концепции, непредставимые друг без друга.
Путешествия из Западной Европы в Европу Восточную были неотъемлемой частью этого процесса. О восточноевропейских странах в XVIII веке знали слишком мало, и каждый путешественник считал себя вправе дополнять, исправлять и пояснять воображаемую карту этого региона в своем сознании и сознании своих современников. В основе этой карты лежали прежде всего обобщения и сравнения – обобщение восточноевропейских стран под единой рубрикой, объединявшей их концептуально в единое целое, и сравнение их с Западной Европой, подразделявшее континент на разные части в зависимости от степени развития. Эта книга открывается историей одного путешественника, графа де Сегюра, француза, участника американской Войны за независимость, который зимой 1784/85 года проехал через Восточную Европу, направляясь в Санкт-Петербург посланником при дворе Екатерины II. По дороге из Пруссии в Польшу, примерно в тех же местах, где двести лет спустя опустился «железный занавес», он остро ощутил громадную важность пересекаемой им границы. Он почувствовал, что «оставил Европу позади», и более того, «перенесся на десять столетий назад». Завершается эта книга рассказом о путешественнике, который, наоборот, возвращался в Западную Европу, американце Джоне Ледъярде, обогнувшем земной шар вместе с капитаном Куком. В 1788 году попытка Ледъярда пересечь в одиночку Сибирь закончилась его арестом по приказу Екатерины II. Проехав на запад через всю Российскую империю и затем через Польшу, он лишь на прусской границе ощутил себя вновь в Европе. Именно там, между Польшей и Пруссией, проходил, по его мнению, «великий водораздел между азиатскими и европейскими манерами», который он с горячим энтузиазмом «перепрыгнул», чтобы «вновь принять Европу в… самые горячие объятия» [11]11
Ségur Louis-Philippe, comte de.Mémoires, souvenirs, et anecdotes, par le comte de Ségur, vol. I, in Bibliothèque des mémoires: relatif à l’histoire de France: pendant le 18e siècle, vol. XIX, ed. M. Fs. Barrière. Paris: Librairie de Firmin Didot Frères, 1859; Ledyard John.John Ledyard’s Journey Through Russia and Siberia 1787–1788: The Journal and Selected Letters, ed. Stephen D. Watrous. Madison: Univ. of Wisconsin Press, 1966.
[Закрыть]. Едва ли нужно справляться по атласу, чтобы заметить, что Сегюр «оставил Европу позади», даже отдаленно не приблизившись к границе континента, а двигавшийся в противоположном направлении Ледъьярд встречал Европу с распростертыми объятиями, уже проделав через нее тысячемильный путь.