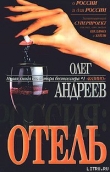Текст книги "Аферистка"
Автор книги: Кристина Грэн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
– Я должен был предохраняться, – сказал Пауль.
– К чему такие жертвы, дорогой? Немного денег – это все, что от тебя требуется.
Пауль относится к той категории мужчин, которые никогда не поймут истинных мотивов поведения женщины. Он героизировал женщин, жаждал близости с ними и страшно боялся их. Образом идеальной женщины для Пауля навсегда стали тихая добрая мать и девственница-сестра. Он всегда жил сытой жизнью, не испытывая нужды в деньгах. Женщины стали для Пауля святыми соблазнительницами, и ему было бы мучительно больно разочароваться в них. Он уютно устроился в своем маленьком безобидном аду, но тут явилась я и развела в нем слишком большой обжигающий огонь.
– О, как я хочу есть! – простонал Пауль и, встав с постели, отправился на кухню, чтобы поджарить себе колбасок.
А я в это время решила принять ванну и поразмыслить о финансовой стороне вопроса. Ванная комната была выложена зеленой плиткой и оборудована стереосистемой. Здесь стояла пальма, которую я, если бы дом принадлежал мне, непременно убрала бы. Но в общем и целом ванная очень нравилась мне. Она была просторной, и унитаз не размещался здесь впритык к раковине, в зеркалах можно было видеть свое отражение в полный рост, а пушистые полотенца подогревались. Ванная комната Пауля была оснащена джакузи и застекленной душевой кабиной с массажным душем. Отец Пауля оборудовал свой дом по последнему слову техники, прежде чем подняться в воздух и погибнуть в небесах. Но Пауль испытывал отвращение как к полетам, так и к бытовым техническим приспособлениям и установкам. Он не пренебрегал только приготовлением пищи. Однако я отказывалась есть приготовленные им жирные блюда и довольствовалась только выпивкой.
Я любила ванную комнату Пауля. Она совсем не походила на тот сырой чулан, в котором я обычно принимала душ. В этом чулане висела голубая пластиковая занавеска, которая имела обыкновение прилипать к влажному телу, безобразные обои впитывали влагу и покрывались плесенью, а с унитаза облезла эмаль. Если бы средства производства распределялись поровну, такие сырые чуланы, как моя ванная комната, давно бы уже были стерты с лица земли. Каждый имеет право на частицу роскоши. Клара всегда говорила, что у мыслителей, являвшихся предшественниками Маркса, были сердца капиталистов. Интересно, какую сумму готов заплатить за свою трусость мужчина, не пожалевший четверть миллиона на стереосистему?
– Я люблю тебя, Пауль.
Слова походили на мыльную пену. Я лежала в ванне, а Пауль сидел под пальмой с тарелкой, полной жареных колбасок, на коленях и с аппетитом ел. Он беспрерывно жевал, так как после секса или того, что он называл сексом, ему всегда ужасно хотелось есть. То, как едят мужчины, обычно вызывает у меня отвращение. Маркус, у которого была вставная челюсть, дробил пищу на мелкие кусочки, а затем насаживал их на вилку по три-четыре одновременно. После этого долго и внимательно смотрел на эту пирамидку и только потом не спеша отправлял ее в рот и тщательно пережевывал. Еда у Маркуса всегда остывала, прежде чем он успевал ее съесть. Однако он никогда ничего не оставлял на тарелке. Привычка старого человека, пережившего в детстве голодные послевоенные годы. Он всегда упрекал меня за то, что я не доедала свою порцию.
Зубной врач Луц ел очень быстро и всегда после еды проводил языком по зубам, как будто чистил их. Геральд жадно поглощал пищу или, наоборот, со скучающим видом ковырял вилкой в тарелке в зависимости от того, какое впечатление хотел произвести на окружающих. Пауль резал картофель ножом.
– Я не знаю, смогу ли я вынести ребенка, Фея. Я еще не готов к этому.
Мне стало жаль воображаемого ребенка в моей утробе. Какой никчемный отец достался ему, он не способен выносить ничего, кроме музыки Вагнера.
– Я хорошо понимаю тебя, Пауль. Ты – человек искусства, у тебя слишком обостренные чувства, ты не создан для супружеской жизни. Но я должна думать о ребенке, понимаешь? Ему нужны моя защита и забота.
Странно, но я каждый раз так вживаюсь в свою роль, что почти верю в то, что говорю. Придумывая новую ситуацию, я изменяю действительность в соответствии со своими правилами. Паулю оставалось только одно – внимать мне и так или иначе реагировать на мои действия и требования.
– Если бы мой отец был благоразумным человеком, я ни о чем не просила бы тебя. Но у меня за душой ни гроша, Пауль. Ты должен мне помочь.
Я встала в ванне, и он подал мне полотенце, оно было желтовато-зеленым, в тон кафельной плитке. Пауль всегда заботился о цветовой гармонии. В его взгляде я заметила выражение легкой брезгливости. Некоторые мужчины испытывают физическое отвращение к беременным женщинам. Среди моих так называемых подруг в Мюнхене ни одна, пожалуй, не рискнула бы испортить фигуру и забеременеть, не вступив предварительно в брак. Когда это случилось со мной, Геральд в течение дня договорился с одной из частных лондонских клиник, купил мне билет на самолет и забронировал номер в гостинице. В организационных вопросах он всегда был на высоте.
– По тебе не скажешь, что ты беременна, – заметил Пауль.
Я присела перед ним на корточки и положила голову ему на колени. Героини Вагнера не беременели, а его собственный жизненный опыт был слишком скуден, поэтому он не знал, как себя вести.
– Нашей бедной крошке всего лишь шесть недель, но скоро мои груди начнут набухать, а живот расти. Знаешь, это настоящее чудо…
Паулю нравилась моя грудь, но он считал, что она и так достаточно большая. Его сестра была более нежной и хрупкой, хотя на первый взгляд она чем-то походила на меня. Валькирии казались ему настоящими чудищами. В опере Пауль слушал пение с закрытыми глазами, потому что внешний вид грузных певиц портил все впечатление от музыки.
Слушая мои рассуждения о ребенке, Пауль осушил полбутылки виски.
– Сколько денег тебе нужно? – наконец спросил он, у него уже слегка заплетался язык.
– Ты хотел сказать: нам нужно? Думаю, тысяч сто, – отвертела я, уткнувшись лицом в его плодовитые чресла. Он некоторое время молчал, и я взглянула на него снизу вверх. Его глаза увлажнились от выпитого виски и жалости к себе. – О, Пауль, мне очень неприятно говорить о деньгах. Это так банально по сравнению с тем, что между нами было.
Пауль встал, ему явно не хотелось, чтобы я прикасалась к нему.
– Кругленькая сумма, – промолвил он.
И это говорит тот, для кого, по его собственным словам, деньги ничего не значат! Пауль налил себе еще виски. В ванной комнате стоял запах алкоголя и пряностей, которыми были приправлены жареные колбаски.
Пока Пауль, держась за пальму, потягивал виски, я объясняла ему, сколько стоит квартира, мебель, кроватка для младенца и детская коляска. При этом я обмолвилась о стоимости стереосистемы. На это Пауль заявил мне, что нельзя сравнивать искусство и детей. В его фигуре не было ничего героического, купальный халат топорщил набитый колбасками живот, отражавшийся в зеркалах ванной комнаты. Плечи Пауля были слишком узкими и покатыми для того груза вины, который он взвалил на себя.
– Мне это все страшно надоело, – сказал Пауль, и я стала утешать его.
Наконец он принес чековую книжку, выписал на мое имя чек на сумму, которую я назвала, и поставил размашистую подпись. У меня по телу побежали мурашки от только что принятой горячей ванны и чувства торжества. Я одержала маленькую победу над капиталом. Пауль сказал, что сам может купить все необходимое для младенца, но я, поблагодарив его, отказалась. У меня были совсем другие планы. Я была уверена, что смогу обменять полученный чек на ласковые слова и прикосновения Коэна. Искренняя любовь представлялась мне утопией, и я не верила в нее. Я считала, что щедро отблагодарила Пауля за его деньги, ведь я сумела внушить ему мысль о том, что он желанный, достойный любви мужчина. У него был выбор: он мог не выписывать чек и остаться со мной. У меня в свое время тоже был выбор: я могла не подписывать документы, которые мне подсунул Геральд. Человек не сразу понимает, по какой дороге ему следует идти, и блуждает по запутанным тропкам до тех пор, пока окончательно не заблудится и не остановится в полной растерянности.
– До свидания, Пауль, – сказала я, направляясь к такси, которое он для меня вызвал.
Человек, который любит Вагнера, не спрашивает о тестах на беременность и не требует медицинскую справку. Пауль с трагическим видом поцеловал меня на прощание. Лежавший в кармане моей кожаной куртки чек согревал меня в ту холодную ночь. Таксист по дороге рассказывал мне о своей супруге, страдавшей от невыносимых болей и превратившей его жизнь в ад. Судя по всему, она просто терроризировала его, пользуясь своим слабым здоровьем или его легковерием, а он не понимал этого. Таксист искал у меня сочувствия, и я сказала ему несколько ободряющих слов.
Маркус сегодня был в клубе, где собирались пожилые мужчины, для того чтобы важничать друг перед другом и делать вид, что они до сих пор имеют какое-то влияние в обществе. Зубной врач Луц спал сейчас в одной постели со своей женой. В конце недели он всегда исполнял свой супружеский долг, хотя, вероятно, думал при этом обо мне. Он обожал молодость и красоту и испытывал отвращение к отвислой груди супруги. Правда, она родила ему двоих детей, и за это он был благодарен ей, однако уважение и страсть – два разных чувства. Мужчины – неверные, безмозглые, ненадежные существа, которые никогда полностью не принадлежат нам и которых мы никогда до конца не поймем.
Но Коэн представлялся мне исключением из правил, потому что я любила его. Любовь все видит по-своему. Она – самый совершенный и самый недолговечный самообман из всех возможных. Когда мы проезжали мимо Эшенхаймской башни, таксист сказал мне, что порой, щадя здоровье жены, пользуется услугами проституток. Это звучало очень мило, но в сущности было гадко. Ложь помогает людям завуалировать несовершенство отношений.
Я вышла в западной части города у дома, где снимала комнату. Водитель не взял с меня денег за поездку как с коллеги по профессии, и я дала ему десять марок чаевых. Было еще довольно рано, и мне не хотелось подниматься в свое убогое жилище, бедность которого вызывала у меня отвращение.
Когда я вошла в пивную под названием «Последняя инстанция», у меня возникло чувство, будто я проникла в закрытое тайное общество. Когда попадаешь с улицы в прокуренное, пропахшее пивом помещение, всегда ощущаешь себя незваным гостем, на которого с любопытством смотрят все присутствующие. На мгновение смолкает многоголосый шум, чтобы потом возобновиться с новой силой. Посетители постепенно отворачиваются от тебя и снова возвращаются к прерванному разговору. А когда ты наконец подходишь к стойке и садишься на табурет, то окончательно сливаешься с целым, становишься его частью и в то же время сохраняешь одиночество. Мне нравится входить в незнакомые пивные и встречать в них враждебный прием. Искать общества и в то же время избегать его – в этом таится притягательное противоречие.
– Маленькую кружку светлого, пожалуйста.
Стоявший у крана хозяин бросил на меня подозрительный взгляд. Его не радовало появление в пивной незнакомки. Во всяком случае, он не счел это достаточным поводом, чтобы улыбнуться или убрать полную окурков пепельницу. Лежавшие под стеклянным колпаком рубленые котлеты выглядели неаппетитно. Мне хотелось есть и пить. Хозяин пивной положил передо мной подставку под кружку, сделал на ней пометку и поставил на нее пиво. Я ловила на себе косые взгляды соседей, до моего слуха доносились обрывки разговоров и заказы. На витрине за стойкой стояли бутылки с крепкими алкогольными напитками. Марки виски, которое предпочитал Пауль, среди них не было. На двери, ведущей в кухню, висели вымпелы футбольных клубов и веселые изречения, свидетельствовавшие о присущем хозяину пивной чувстве юмора и здравомыслии. Здесь осушали кружки и изливали душу. Все как обычно. Разговоры велись о деньгах, женщинах, мужчинах, детях, работе, футболе, проклятой политике. О том, что Германия стала чемпионом мира по футболу. О Никсоне, ушедшем в отставку из-за Уотергейта. О бомбе в Бейруте, о том, что во Франкфурте все же можно жить. Еще пива, Ханнес!
Диалект не украшал речь посетителей пивной. Я почувствовала, как чье-то бедро прижалось к моему. Оторвав взгляд от кружки с пивом, я увидела рядом женщину, которая пила водку из высокого стакана для воды. Одинокие пьяницы, просиживающие в пивных, не любят, когда на них смотрят в упор. Слишком пристальное внимание к своей личности они расценивают как агрессию или как сексуальное домогательство, что, по сути, одно и то же.
Другие просто опрокидывают стаканчик и находят в этом удовольствие. Когда же пью я, то весь мир, ухмыляясь, исчезает на глазах. Он гибнет. А я живу еще целую минуту. В этом я вижу цель жизни.
Я вспомнила Генриха, боксера, который любил подобные пивные, потому что в них человек чувствует себя более значительным на фоне уродливой обстановки и не таким одиноким в своем одиночестве. Генрих знал Брехта, потому что Брехт восхищался боксерами и описывал их в своих произведениях. Он следил за чемпионатами мира по боксу начиная с 1891 года, когда боксерские поединки длились пятьдесят и даже семьдесят раундов и заканчивались нокаутом. Он знал всех двенадцать чемпионов мира от Боба Фицсимонса до Микки Уокера. Да, Брехт любил бокс, а меня любил боксер. Однако наш поединок был остановлен в первом же раунде. Если бы я встречалась со своими соперниками на ринге, Геральд непременно победил бы меня, Пауля я отправила бы в нокаут, а Луц и Маркус продолжали бы биться, не подозревая, что у них нет никаких шансов победить.
Генрих пытался научить меня мыслить так, как мыслит боксер: вкладывать всю себя в каждый поединок, в каждую секунду боя. Архаичный образ действий, отлитый в жесткие правила. Они требуют от человека, чтобы он с наслаждением наносил удары и игнорировал собственную боль, чтобы соединил в одно целое тактику и интуицию, чтобы, теряя чувство собственного достоинства, с триумфом побеждал.
Еще одно пиво. Еще одна минута жизни, прежде чем мир погибнет. Победу над Паулем надо хорошенько отпраздновать. Я не хотела возвращаться в свою комнатку с сырым чуланом, потому что боялась звонка Клары и известия о том, что отец умер. То, что мы с Кларой вот уже несколько месяцев ждали этого события, не делало его менее ужасным. Мне было стыдно перед Кларой за то, что я редко посещала отца, Но он уже перестал меня узнавать, отец уже, по существу, умер, и ему было все равно.
Сидевший слева от меня парень заказал два шнапса. Я старалась не смотреть в его сторону, однако знала, что один шнапс предназначен мне. Выпей со мной, а потом я сделаю тебе неприличное предложение. Я осторожно отодвинула стакан в сторону и, поблагодарив парня, сказала, что терпеть не могу шнапс. Тот проворчал, что я, наверное, привыкла к более изысканным напиткам. Он говорил на гессенском диалекте с турецким акцентом. Женщина, пившая водку справа от меня, вмешалась в разговор.
– Оставьте девушку в покое! – потребовала она, и они начали спорить.
Я молча сидела между ними. Они спорили о шнапсе и высокомерии. И я слышала, как парень сказал, что такие, как я, ненавидят иностранцев. Я могла бы ответить ему, что моя алчность не признает культурных и расовых барьеров, но предпочла промолчать. Защищавшая меня алкоголичка улыбнулась мне.
По-видимому, она когда-то была красавицей. Эта женщина чем-то напоминала мою мать, которую я знала только по фотографиям. В правой руке она сжимала стакан, в левой держала сигарету. Голос звучал фальшиво, когда она пыталась успокоить разбушевавшегося парня. Вероятно, ей было глубоко безразлично его поведение, просто хотелось с кем-нибудь поговорить. Парень был небольшого роста, коренастый, с хорошо развитой мускулатурой. Должно быть, работал упаковщиком мебели. Его волосы были перекрашены в белый цвет. Он говорил короткими, рублеными фразами, агрессивным тоном, стараясь оскорбить и унизить в лице алкоголички всех немецких женщин, которые отвергали его. Он был честнее, чем они, и потому не стеснялся в выражениях. Его упреки были направлены в мой адрес, но женщина воспринимала их на свой счет. Сидевшие у стойки посетители внимательно слушали спор, они готовы были ринуться в бой, хотя не понимали, о чем идет речь. Будь сейчас рядом со мной Пауль, он наверняка попытался бы бежать из пивной. Луц испугался бы за свои зубы, которые могли пострадать в драке. Маркус вообще никогда не зашел бы в подобную пивную. А Коэн? Я привыкла не доверять красивым словам и звучным фразам.
Когда я заплатила за свое пиво, алкоголичка угостила меня еще кружкой светлого. К тому времени турок уже вступил в спор с двумя мужчинами за стойкой.
– Какие мерзавцы, – сказала незнакомка, чокаясь со мной.
Смелое, пусть и не оригинальное, замечание, поскольку в зале «мерзавцы» находились в большинстве. Должно быть, моя соседка тоже была боксером, правда, потрепанным жизнью и потерпевшим не одно поражение. Женщине уже не всплыть на поверхность, если ей за сорок и она топит тоску по несбывшемуся в алкоголе. Несмотря на то что незнакомка у меня на глазах уже выпила четыре или пять порций водки, она все еще казалась трезвой. Женщина обращалась ко мне на ты. Она сказала, что ее зовут Беатой, и улыбнулась, когда я назвала свое имя. Нет, она не была моей матерью, хотя имела с ней несомненное сходство. Я давно уже не вспоминала о ней. По словам Клары, моя мать живет сейчас в Ирландии. Впрочем, к черту все это. Она не стоит того, чтобы думать о ней. Вондрашек по крайней мере был не самым плохим отцом. Он никогда не бил меня, не обращался со мной жестоко и не докучал излишней любовью.
Соседка по стойке поведала мне историю своей жизни. Ее судьба, несмотря на уникальность любой человеческой жизни, была типичной. Во всяком случае, я не сомневалась, что две-три женщины в этой пивной могли бы рассказать о себе примерно то же самое. Несмотря на различие в макияже, Беата, мы все удивительно похожи друг на друга. И меня отличает от других лишь то, что в кармане моей куртки лежит чек на сто тысяч марок, которые я заработала нечестным путем. Чтобы избавиться от чувства бессилия, необходимо совершать наряду с незначительными прегрешениями серьезные грехи. Или чтобы иметь выбор и напиваться «Абсолютом», а не дешевой водкой. Возможно, и то и другое приводит к одному и тому же чувству опьянения, но зато предполагает разное качество жизни. Твое здоровье, Беата. Мне никогда не пришло бы в голову делиться с кем-нибудь своими взглядами на жизнь, они мелочны и аморальны. В том хаосе, который губит мир каждого из нас, мне хотелось бы насладиться теми минутами, которые у меня еще остались, и не жалеть о тех, которые уже прошли.
Беата, мать двоих уже взрослых детей, была разведена. Она в свое время не убежала от семьи, все преодолев и выдержав. Но теперь ей было жаль двадцати потерянных лет, как она выражалась. Беата говорила, что за это время могла бы многое пережить и испытать. Могла бы получить второе образование, заниматься аэробикой, гончарным ремеслом, эзотерикой, научиться играть на барабане, посвятить себя буддизму. Но вместо этого закончила свой путь здесь, в пивной, у стакана водки.
– Только водка не напрягает меня, – закончила она свой рассказ и спросила, кто я и как живу.
Мне не хотелось лгать. Тем более что алкоголичка не представляла для меня никакой опасности. Всего лишь слабая женщина, выбросившая на ринг полотенце в знак капитуляции.
– Я настоящий паразит, живущий за счет других, – призналась я, умолчав о том, что работаю водителем такси. Мне казалось, что об этом не стоит говорить.
– Но почему?
Взрослые люди редко задают подобный вопрос. Он свидетельствует о том, что человек чего-то не знает. А чем старше мы становимся, тем неохотнее признаем свое невежество. Почему я не пошла домой? Обстановка в пивной накалялась. Турок ругался с двумя сидевшими за стойкой парнями, не стесняясь в выборе выражений. Близился час закрытия заведения. По своему опыту работы в «Ките» я знала, что это самое опасное время. Хозяин пивной слишком устал, его внимание притупилось, и он не замечал агрессивного настроения посетителей.
– Почему? Так вышло. И это меня не напрягает.
Мы рассмеялись, и я угостила Беату стаканчиком водки.
– Ты очень красивая, – заметила она, – однако через двадцать лет от этой красоты не останется и следа.
Вероятно, нам не следовало смеяться, наши громкие голоса могли спровоцировать кого-нибудь из возбужденных посетителей. Турок прекрасно говорил по-немецки, но большое количество выпитого спиртного помешало ему правильно сориентироваться в ситуации, и он решил, что мы смеемся над ним. Повернувшись к нам, он тут же обозвал нас лесбийскими шлюхами. Словосочетание показалось мне нелепым. Я заметила, как один из посетителей надвигается на турка, и инстинктивно попятилась, освобождая место для драки, которая, как подсказывала мне интуиция, сейчас должна была начаться.
Один из споривших с турком парней нанес ему удар в лицо, нос турка хрустнул, и из него потекла кровь. Однако противнику этого показалось мало. Раздувая ноздри, словно разъяренный бык, он пошел на турка. Но тот уже успел прийти в себя и встретил агрессора ударом в солнечное сплетение. Парень растянулся на полу. Зрители застыли от ужаса, а затем послышался вздох восхищения.
Хозяин оцепенел, держа кружку под струей Пива, и оно хлынуло на пол через край. Беата, прагматичная алкоголичка, быстро осушила свой стакан и направилась к выходу. Я, словно рефери, начала обратный отсчет. Это показалось турку забавным, и он ухмыльнулся. По-видимому, он тоже был боксером. Лежавший на полу парень застонал, и его приятель попытался помочь ему.
– Мне здесь не нужны скандалы, – сердито заявил хозяин, обращаясь ко мне. По-видимому, он во всем винил меня.
– Это была самооборона, – сказал турок.
Он был прав, но его слова привели в бешенство собутыльников стонущего парня, которого уже подняли с пола и поставили на ноги, прислонив к стойке бара.
– Мы сейчас прикончим эту свинью! – закричал кто-то, и я поняла, что пора смываться.
Хозяин стал звонить в полицию, а я потихоньку пробралась к выходу. Когда я закрывала за собой дверь, до моего слуха донеслись возбужденные крики. Потасовка переросла в настоящую драку.
Было холодно, хотелось есть. Огни многих заведений, работавших до поздней ночи, уже начали гаснуть. На улицах было безлюдно, лишь на крыльце офисных зданий сидели нищие и бомжи. От пивной «Последняя инстанция» до дома, в котором я снимала комнату, было метров сто. Я не завидовала оставшемуся в пивной турку. Из всех мужчин, которых я знала, только Генрих мог бы прийти ему на помощь. Я труслива и считаю это своим положительным качеством. Клара, пожалуй, вступилась бы за турка, но она не посчитала нужным воспитать меня в том же духе. Она внушала мне идеи Маркса и декламировала отрывки из произведений Брехта, но все это оказало на меня обратное воздействие.
Меня тянет к роскоши, к тем людям, которые обласканы судьбой. В их мире теплее. И я разучилась пить пиво в пивных, хотя оно до сих пор кажется мне намного вкуснее, чем шампанское. Все дело в уровне жизни. Тот, кто пьет вино, а не пиво, чувствует себя лучше в обществе. И потом, я не могла позволить себе ввязаться в драку в пивной. У меня не было страховок – ни медицинской, ни пенсионной, ни социальной. С бюрократической точки зрения я не существовала. Из всех необходимых полноправному члену общества документов у меня имелись лишь свидетельство о рождении и паспорт, срок действия которого скоро истекал. В семье Вондрашека и Клары мог вырасти только анархист. Я испытывала страх перед зеленой формой и без всякого почтения относилась к полицейским.
Из Мюнхена не было никаких известий. Геральд, по-видимому, оставил после себя такой хаос в делах, что в нем было трудно разобраться. Между тем доктора Фрайзера объявили в международный розыск, однако, казалось, он бесследно исчез. Я старалась представить себе, как ему ужасающе скучно прятаться в африканском буше, как он страдает от укусов москитов, ведь Геральда раздражали даже обычные мухи. Он привык жить в каменных джунглях и не выносил ничего летающего, живого, выходящего из-под его контроля.
Мимо меня проехала патрульная машина с синей мигалкой, она направлялась к пивной «Последняя инстанция». Я открыла дверь дома, в котором снимала комнату, и невольно содрогнулась. Здание находилось в аварийном состоянии и в любой момент могло обрушиться. Здесь жили студенты, безработные художники и Фелиция Вондрашек, аферистка, которая пока еще не успела развернуть свою деятельность. Хотя сто тысяч марок – неплохое начало, а если сложить чаевые, которые мне давал Маркус, то, пожалуй, получится неплохая общая сумма. Тем не менее надо отметить, что бизнесом я занималась бессистемно, расходуя слишком много сил и времени и постоянно рискуя столкнуться с непредвиденными обстоятельствами. Я боксировала в любительском классе. Моя комната была убогим третьесортным жилищем. Старый холодильник пустовал.
Во всем был виноват Коэн. От волнения перед концертом у меня пропал аппетит. У Пауля в доме можно было найти только жирные колбаски и жирное мясо. Может, поехать к Маркусу? У него в холодильнике всегда лежали дорогие сорта колбас и сыров, английская горчица и кисло-сладкие маринованные огурчики. У меня был ключ от его дома. Однако мне очень не хотелось будить Маркуса. У него чуткий сон, как у большинства стариков. За долгую жизнь у Маркуса сформировались разные привычки – и вредные, и хорошие. Выйдя на пенсию, он стал каждое утро ходить в кондитерскую за свежими булочками. Если по каким-то причинам не успевал пообедать в ресторане, то вечером спускался в свой винный погреб за бутылочкой вина. Дома Маркус ел только холодные закуски, так как считал, что стоять у плиты – не мужское дело, а повара он заводить не хотел из скупости. Маркус был уверен, что розы должны быть красными, а салфетки белыми. Бокалы стояли в его доме на специальных подносах, сыр он резал ножом для сыра. Если по телевидению выступали молодые политики, Маркус выключал звук. «Франкфуртер альгемайне» он читал во время завтрака. Сначала Маркус знакомился с передовой статьей, затем переходил к политическим комментариям; фельетоны и статьи по экономике он читал за послеобеденным кофе. Маркус выкуривал ровно две пачки сигарет в день, ни больше ни меньше.
Его жизнь состояла из ритуалов и точно размеренных действий. Он неумеренно предавался лишь одному пороку – курению. Кроме этой слабости, у него, пожалуй, была лишь еще одна – я. Иногда он так смотрел на меня, словно хотел наброситься. Я была уверена, что мысленно он уже сто раз изнасиловал или совратил меня. Однако Маркус не переходил к решительным действиям, потому что боялся утратить свое главенствующее положение. Маркус проявлял ко мне дружеские, отцовские чувства, и эта роль друга и покровителя давала ему превосходство, которого он мог лишиться. К тому же Маркус был благочестивым ханжой, по воскресеньям он ходил в церковь и дважды в неделю посещал могилу жены, где мысленно беседовал с ней. Интересно, рассказывал ли он своей почившей супруге обо мне? Если да, то, наверное, выдавал себя за бескорыстного альтруиста. Во всяком случае, своим детям и внукам он ничего не говорил обо мне.
Я сидела на кровати и страдала от голода. Коэн не удосужился пригласить меня на ужин. Я вспоминала холодильник Маркуса и наши с Луцем визиты в рестораны. Во Франкфурте и его окрестностях не осталось ни одного приличного заведения, которое мы с ним не посетили бы. Зубной врач считал себя гурманом, он был тщеславен и следил за своей фигурой, которая выдержала испытание сытой, благополучной жизнью. Луцу было пятьдесят. Многие мужчины стареют с большим изяществом, чем женщины. Во всяком случае, внешне. Они стремятся купить себе молодых женщин, оформляя эту покупку различными способами. С помощью свидетельств о браке, подарков, поездок, покровительства, передачи жизненного и духовного опыта. Луц оплачивал мое время ужинами, которые я не могла себе позволить.
Для Луца я была безработной актрисой, Фелицией фон Изенбург. Я сказала ему, что происхожу из обедневшего дворянского рода. Зубной врач обожал аристократические титулы, в этом отношении он был снобом. Луц испытывал непреодолимое влечение к молодым женщинам, всегда флиртовал с ними и заводил романы. Его излюбленными темами разговора были гигиена зубов и гольф. Он мастерски играл в эту игру, а когда ему не везло, обвинял в проигрыше всех и вся: листья, солнечный луч, который слепил глаза, пролетевшую птицу, залаявшую вдруг собаку. Странно, но рассказы о гольфе и своей профессии приводили его в крайнее волнение. И в то же время сообщения в газетах о войнах, убийствах и пытках оставляли Луца совершенно равнодушным.
Он не отваживался брать меня в свой гольф-клуб, членом которого была и его жена, женщина с отвислой грудью. Мне было жаль ее. В молодости, когда у нее была красивая, упругая грудь, она встретилась с Луцем, милым юношей и известным бабником, за обаятельной мягкой внешностью которого скрывалось стальное сердце. Мое стеклянное сердце было прозрачным, и я порой использовала его как зеркало. Луц, Пауль и Маркус легко могли бы разглядеть мою ложь, но им мешала слепота. Я всегда стремилась быть честной по отношению к себе. И это уравновешивало мою ложь. Я не скрывала от себя, что хочу, не работая, заполучить три миллиона. Кроме того, мне нужно было есть. Голод – слишком неприятное, гнетущее чувство.
Уложив чемодан, я вызвала такси, чтобы отправиться на вокзал. Спускаясь по лестнице, услышала, как в моей комнате зазвонил телефон. На секунду я остановилась, затем решительно двинулась дальше. Я совершила ошибку. Однако, как обычно, поняла это слишком поздно.