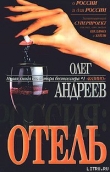Текст книги "Аферистка"
Автор книги: Кристина Грэн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
– Надеюсь, у вас не будет из-за меня неприятностей? – спросила я, грея руки о чашку. – Вы живете один? Или у вас есть семья?
Маркус сказал, что он вдовец и что его взрослый сын давно уже покинул отчий дом. «Вдовец – это хорошо», – подумала я и робко улыбнулась, стараясь, чтобы мое лицо выражало печаль. Ведь историю, которую я ему собиралась рассказать, никак нельзя назвать веселой.
Я, Фелиция Вондрашек, родилась в Восточной Германии, во время бегства семьи на Запад потеряла родителей. С тех пор я сирота, в Германии воспитывалась в детских домах и приютах. Тем не менее я сумела сдать экзамен на аттестат зрелости (благодаря врожденному мужеству и стойкости), а затем начала изучать экономику в университете, встретила респектабельного мужчину, полюбила его и вышла замуж (что свидетельствует о моей добропорядочности). Но в результате выкидыша я потеряла ребенка (удар судьбы, незаслуженное несчастье), и с тех пор в семье начались нелады. Супруг оказался азартным игроком. Я, как любящая жена, пыталась спасти его (верность и преданность). Мне даже пришлось переспать с его кредитором, чтобы погасить долги (самоотверженность и сексуальность). Однако все напрасно. Муж застрелился, оставив множество долгов.
– Днем я работаю уборщицей, а по ночам кручу баранку такси. Но как бы я ни старалась, я не смогу погасить все долги. И потому пронизывающее чувство холода не покидает меня.
Прекрасная история. Я рассказывала ее, делая небольшие паузы. Конечно, все это звучало банально, но в любой судьбе переплетены трагические и счастливые моменты, среди них довольно много обыденного и пошлого. Произнося свой монолог, я смотрела не на хозяина дома, а на электрический камин. Он хорошо вписывался в обстановку дома, и его яркий искусственный огонь соответствовал моей выдуманной истории. Возможно, не стоило упоминать о ребенке и бессовестном кредиторе, но в общем и целом я осталась довольна своей историей. Правда, я не знала, зачем все это рассказываю и куда заведет моя ложь. Но меня радовало уже то, что я вышла за рамки реальности. Кто стал бы общаться с бросившей школу дочерью мошенника, бывшей любовницей разорившегося строительного подрядчика, задолжавшей банку три миллиона марок? С водительницей такси, разбившей свою машину о заградительный барьер?
Маркус сжал мои руки в своих ладонях. Он был потрясен. Нащупав кольцо с бриллиантом, повернул его и увидел камень.
Маркус тут же глубоко задумался. Должно быть, он размышлял над тем, как этот бриллиант вписывается в мою историю. Сомнения, отразившиеся на лице хозяина дома, вдохновили меня на новую ложь.
– Мой муж выиграл крупную сумму в тот день, когда покончил с собой. Боже мой, какое безумие! На выигранные деньги он купил мне это кольцо и положил его на прощальное письмо. Он написал, что благодарит меня за все, что я для него сделала. Я не смогла продать подарок мужа, понимаете? Деньги, вырученные за кольцо, все равно покрыли бы только десятую часть долга.
Разве могла куцая действительность сравниться с моим изобретательным вымыслом? Я начала любить этого человека, моего мужа, покончившего с собой игрока. Он красиво ушел из жизни, сделав великодушный жест, который смягчал горечь утраты и взывал о прощении. Я поняла, что искусство лжи состоит в том, чтобы не вдаваться в излишние подробности, придерживаться четкой линии, однако мне очень нравились мелкие живые детали.
Ложь согрела меня, и я наконец расстегнула шубу. Маркус понял, что сумма моих долгов огромна, и у него задрожали уголки губ.
– Мне, пожалуй, следовало продать эту шубу. Но я постоянно мерзну.
Женщины могут быть противоречивы. Впрочем, вряд ли Маркус имел большой опыт общения с молодыми женщинами. На его письменном столе стояла семейная фотография в серебряной рамке. На снимке изображена женщина с маленьким сыном.
– Мне не следовало обременять вас своими проблемами, – промолвила я, хотя думала совсем иначе.
В жизни Маркуса не было серьезных забот. Единственная проблема для него – мороз, погубивший розы на клумбах, или требующий обновления венок на могиле жены. Его сын, банкир, уже обзавелся семьей, у него подрастала дочь. Маркус состоял членом трех наблюдательных советов и получал пенсию в размере оклада статс-секретаря. Ему было шестьдесят шесть лет, в течение жизни он аккуратно вкладывал деньги в акции и сколотил небольшое состояние, которое удалось выгодно разместить. Прямой, как линия, жизненный путь, заканчивающийся смертью. Именно это пугало Маркуса. Ночи напролет он размышлял над страшной перспективой, не в силах уснуть. Бедный Маркус! Он рассказывал мне, что боится болезни Альцгеймера, старческого слабоумия. Именно этим недугом страдала его супруга, измучив всю семью.
Кто позаботится о Маркусе, если с ним что-нибудь случится? Маркус сказал, что каждый должен иметь в этом мире хотя бы одного человека, на которого можно положиться в трудную минуту. Я назвала это желание несбыточным и чрезмерным. Сироты и вдовцы порой бывают циничны. Маркус выразил мне свое сочувствие, моя судьба казалась ему страшной и жестокой. Большего я и не могла ожидать после трехчасовой беседы.
– Ты привез бы меня к себе в дом, если бы я была старой и безобразной? – спросила я.
И он ответил утвердительно. Откровенная ложь, лишенная всякого изящества. Хороший гражданин и ревностный протестант может уживаться с большой ложью и не терзаться при этом угрызениями совести. Ложь нередко оправдывается самыми добрыми, в том числе и христианскими, побуждениями, например, жалостью или стремлением к личному совершенству. Маркус часто употреблял слово «гуманизм», он был поклонником Томаса Манна и Иммануила Канта, обожал Баха и Бетховена. А также свою трехлетнюю внучку, розы, пешие экскурсии в горы, которые, впрочем, не должны длиться более двух часов, и красное вино, в умеренных количествах, разумеется. Выдержанный коньяк он тоже любил.
Два раза в год Маркус делал пожертвования в благотворительный фонд. Он был подписчиком «Франкфуртер альгемайне» и имел абонемент на все премьеры Франкфуртской оперы. Его «мерседес» простаивал в гараже, так как вождение автомобиля нервировало Маркуса. Находясь в преклонном возрасте, он боялся смерти и старался избегать возможных опасностей. Наблюдался у хороших врачей и имел крепкое сердце. Его жизнь была печальной, но он не сознавал этого.
Комната для гостей в доме Маркуса была обклеена розовыми обоями. Прежде чем выйти за дверь, Маркус поцеловал мне руку.
Руководство таксопарка не уволило меня за разбитую машину, однако я получила строгий выговор за неосторожное вождение в плохих погодных условиях. Я перешла работать в дневную смену, так как Маркус часто использовал меня по вечерам в качестве своего личного шофера. Он проявлял ко мне отцовскую заботу, порой преувеличенную и казавшуюся мне лицемерной. Если он действительно видел во мне дочь, значит, его с полным правом можно обвинить в извращении – в попытках инцеста.
Однако Маркус, по-видимому, обманывал себя, находя своим действиям какие-то приемлемые оправдания. Во всяком случае, он постоянно задерживал мою руку в своих ладонях, когда целовал ее в знак приветствия или на прощание и давал мне сто марок в качестве чаевых с таким смущенным видом, как будто платил за интимные услуги.
Маркус был добр ко мне, но явно ожидал, что я отблагодарю его за это. Он приглашал меня в рестораны и в оперу. Он лелеял мысль о том, что я являюсь для него тем единственным существом на свете, тем человеком, которого каждый должен иметь в своей жизни. И я изо всех сил старалась не разочаровать его. Вот такие отношения сложились между нами. Окружающие злословили о нас. А мы только улыбались, он – польщенно, а я – весело. Я делала вид, что мне ничего от него не нужно. Вдове игрока требовалось слишком много денег, чтобы расплатиться с долгами. Правда, мой адвокат не давал о себе знать, и я считала это добрым знаком.
Маркус часто говорил о том времени, когда он работал в министерстве и был влиятельным человеком. Он подписывал важные представления зелеными чернилами и имел личный доступ к министру, который, конечно, влиятельнее Маркуса, но не столь компетентен в важных вопросах. Маркус говорил, что министры приходят и уходят, а политику министерства определяют статс-секретари. Маркус всегда подчеркивал свою приверженность гуманистическим принципам. Он заявлял, что исполнял свои обязанности честно и трудился на благо общества. Даже преследуя честолюбивые цели, он не забывал о людях.
Порой мне было очень трудно выслушивать весь этот высокопарный бред. Этические представления Маркуса существовали как бы отдельно от его личности со всеми ее страхами и желаниями, пороками и промахами. Его разум не допускал ничего беспорядочного, непонятного, угрожающего жизни. Однако Маркусу страшно не повезло – он встретил меня. Девушку, чья улыбка всегда слегка фальшива. Девушку, которая молчала, когда надо возразить, и говорила, когда ей нечего сказать. Девушку, которая брала у него сто марок, словно проститутка у клиента, и клала их в сумочку, не поблагодарив.
Маркус совал мне деньги украдкой, сильно смущаясь и отводя глаза в сторону.
– Возьми, они могут тебе пригодиться, – иногда говорил он, и я видела, что при этом он думал о сексе.
Но гуманистические принципы не позволяли ему просто так затащить в постель вдову с трагической судьбой. Маркус питал уважение к женщинам. Однако главной причиной его сдержанности был, по-видимому, страх. Страх, что у него ничего не получится в момент физической близости. Судя по фотографиям, его покойная жена не давала ему достаточно возможностей проявить свои мужские качества. Маркус скорее всего воплощал свои тайные фантазии в темноте и одиночестве. Он делал это, мучаясь от похоти и стыда, сладострастно и богобоязненно. Однако ему не было дано осознать и слить воедино эти противоречивые чувства.
Я по-своему любила и одновременно презирала этого кальвинистского лицемера, в чем для меня не было противоречия. Так я на двадцать третьем году жизни относилась ко всем мужчинам. В то время я встречалась не только с Маркусом, но и с Луцем, зубным врачом, с Паулем, журналистом, и с Леонардом Коэном, человеком, в которого безнадежно влюбилась. Ведь надо же иметь мужчину для души, человека, которого любишь и по которому страдаешь, человека, которому ни в чем не можешь отказать, и при этом презираешь себя немножко. Но только совсем немножко.
Глава 6
Он, конечно, не был Карузо. Он был худым и печальным, и голос его срывался, когда он пел о несчастной любви и потерпевших поражение революциях. Я сразу же влюбилась в Коэна. (Кто такой по сравнению с ним Геральд? Я вычеркнула бы его из своей памяти, если бы не проклятые три миллиона.) Пауль, журналист, пригласил меня на концерт. Мы сидели в середине третьего ряда. Все билеты были распроданы. Кто такой Пауль? Страстный любитель виски, музыкальный критик, мужчина, который получил в наследство рынок недвижимости и обычно плакал после оргазма.
Песни любви и ненависти… Леонард Коэн, тридцатичетырехлетний музыкант, одетый в легкое черное пальто, одиноко сидел на сцене. Он явно боялся публики. Вероятно, потому что не доверял своему голосу, который мог в любую минуту сорваться. От его пения мурашки бежали у меня по спине.
I have tried in my way to be free [1]1
Я по-своему старался стать свободным ( англ.).
[Закрыть].
Коэн был поэтом, вынужденным зарабатывать себе на жизнь пением. Он пел для того, чтобы иметь тех женщин, которых он хотел иметь, и свободу, потому что она невозможна без денег.
I met a man who lost his mind in some lost place I had to find. «Follow те», the wise man said. But he walked behind [2]2
Я встретил человека, потерявшего разум в потерянном месте, которое я должен был найти. «Следуй за мной», – сказал мудрец. Но сам пошел позади меня ( англ.).
[Закрыть].
– Зачем он занимается пением? Это не его призвание, – проворчал сидевший рядом со мной Пауль, и я ткнула его локтем в бок.
Он был самым немузыкальным музыкальным критиком на свете. И его плач тоже нельзя было назвать мелодичным. У Пауля имелись все причины плакать после полового акта, потому что в постели он не вызывал никаких чувств, кроме жалости. Он, словно испорченный мотор, глох сразу после того, как заводился. Половой акт длился несколько секунд. Психотерапевт объяснял это тем, что Пауль во время полового сношения думает о своей сестре, и эта кровосмесительная фантазия так сильно подавляет его, что сразу же происходит семяизвержение, и Пауль, зарывшись лицом в подушку, начинает плакать. Я ничего не имею против плачущих мужчин, меня порой даже восхищает их мужество, однако маленькая слабость Пауля утомляла меня, потому что этот трагикомический ритуал повторялся все снова и снова. Когда я спрашивала Пауля, не мог бы он думать во время полового акта о чем-нибудь другом, он тоже начинал плакать.
К песням Коэна Пауль остался совершенно равнодушным, а у меня по лицу бежали слезы. Казалось, Коэн угадал, о чем я мечтаю. Он пел для меня одной. Сидевшие в зале женщины были всего лишь декорацией. Он пел для меня одной, и я разделяла с ним его меланхолию и иронию. Я покорилась власти его слов, его голоса и его сценического образа.
Женщины любят героев и прекрасных грустных неудачников, потому что они романтичны и так мило стыдятся своих неудач. Истинные страсти, те, что гнездятся в голове, приводят к самым бурным оргазмам. Пауль внимательно наблюдал за мной. Его рынка недвижимости было недостаточно, чтобы удержать меня. And I am crazy for love, but I am not coming on [3]3
Я мечтаю о любви, но я не приду ( англ.).
[Закрыть]. Я поняла, что, когда Коэн любит женщину, он думает о солнце и луне. Что он совершенен во всех своих слабостях и недостатках и что я умру, если он закончит петь и уйдет со сцены.
Но Коэн не знал о моих чувствах. После песни «Пока, Марианна» раздались бурные аплодисменты, он поклонился – несколько стыдливо, но с торжествующей улыбкой на устах – и быстро ушел за кулисы. Я сидела тихо, не шевелясь, не аплодируя, и ждала, что у меня сейчас разобьется сердце.
– Все в порядке? – спросил Пауль, который не понимал, что я готова сейчас умереть.
Аплодисменты не стихали, однако певец не возвращался, чтобы спеть на бис. В моем представлении сердца были стеклянными, а не состояли из плоти и крови. Кровь вызывала у меня отвращение. Я не могла без внутренней дрожи смотреть даже на коктейль «Кровавая Мэри». Глубокая душевная боль, царапина на сердце приводили к обмороку. Мое стеклянное сердце не повиновалось моей воле. Пауль тронул меня за руку и сказал, что нам пора. Он принципиально никогда не аплодировал, так как являлся критиком. Кроме того, Пауль называл аплодисменты недостойной игрой, которую ведет публика с артистом.
Я не хотела возвращаться в мир Пауля и устремилась против движущегося к выходу потока зрителей к сцене. Здесь мне дорогу преградил распорядитель концерта, но я оттолкнула его и вбежала за кулисы в ярко освещенный коридор, где, к своему удивлению, увидела множество людей. Они изумленно смотрели на меня и шарахались в стороны. Я быстро шла по коридору, спрашивая себя, за какой дверью может находиться мой герой. В конце концов я стала заглядывать во все комнаты подряд. Увидев незнакомое лицо, я, не извинившись, тут же захлопывала дверь. Больше всего на свете я боялась пропустить нужную комнату. Я действовала как во сне. Мой стремительный сумасшедший бег закончился у туалета.
Точнее, у мужского туалета. Не успела я открыть эту дверь, как она сама распахнулась, и я увидела стоящего на пороге Леонарда Коэна. Он застегивал молнию на своих вельветовых брюках. Самые значительные моменты в жизни бывают порой лишены всякого величия. Я застыла на месте. Теперь я знала, почему он не спел на бис. Он сделал это вовсе не потому, что хотел побыстрее встретиться со мной в опустевшем зале.
Мы стояли лицом к лицу, нас разделяли каких-то два метра. Глаза Коэна скрывали темные очки. Мой макияж был размазан, я тяжело дышала. Мне показалось, что Коэн внимательно смотрит на меня. Эти секунды могли изменить всю мою жизнь. Он так прекрасен, а я выглядела как обычная поклонница. К тому же я не блондинка. В старых фильмах о любви, которые я всегда смотрела со слезами на глазах, одного магического слова, одного жеста было достаточно, чтобы вся история закончилась благополучно.
Please find me. I am almost thirty [4]4
Пожалуйста, найди меня. Мне уже почти тридцать ( англ.).
[Закрыть].
Однако на этот раз хеппи-энда не произошло. Возможно, потому, что я слишком тихо шептала. Или потому, что не была блондинкой. Дверь расположенного напротив помещения распахнулась, и из него вышла грузная женщина с желтыми волосами. Она позвала Коэна, и он, улыбнувшись мне, пошел за ней. Я стояла у мужского туалета и смотрела им вслед.
Пауль ждал меня у машины. У этого человека было множество мелких достоинств, и среди них – терпение и излишняя доверчивость. Для Пауля я была дочерью отца-тирана, статс-секретаря на пенсии. Согласно легенде, мы с отцом жили в Висбадене, и я изучала математику во Франкфуртском университете. Математика – та дисциплина, которая у большинства людей не вызывает никаких вопросов. Кроме того, почти все считают, что это необычная наука для женщины. Пауль искал женщину, которая была бы похожа на его мать и сестру. Мы нашли друг друга после того, как я прочитала его объявление в разделе знакомств во «Франкфуртер альгемайне».
Хотя Пауль писал для левых изданий, но, когда речь заходила об объявлениях о бракосочетании или извещениях о смерти, он признавал только одну газету. В важнейших вопросах человеческого существования он был консерватором, несмотря на то что делал пожертвования в фонд организации «Гринпис».
Он уже приготовил черновик собственного некролога, в котором была приведена цитата из Сенеки. Согласно его завещанию во время траурной церемонии должен был звучать «Реквием» Моцарта, гроб необходимо было изготовить из экологически чистых материалов, а в венки вплести белые лилии. После нашей первой ночи Пауль сделал меня главной наследницей. Так что к его похоронам было все готово, отсутствовал только труп.
По дороге домой я объяснила Паулю, что мне срочно понадобилось в туалет и что я с трудом нашла его. Мы долго спорили о концерте Коэна. В конце концов я назвала фашистскими все тексты вагнеровских опер. Пауль любил Вагнера, Моцарта и Элвиса Пресли, а о другой музыке и слышать не хотел. Он относился к ней с тем же отвращением, с каким вегетарианец смотрит на мясные блюда. Его критические статьи были написаны язвительным тоном, с использованием множества терминов и иностранных слов. На его гонорары, конечно, нельзя было купить «порше», но Пауль и без этого припеваючи жил на доходы от рынка недвижимости и нескольких домов, которые сдавал в аренду. Кроме того, он унаследовал одноэтажный особняк в пригороде Франкфурта. Семья Пауля – родители и сестра – погибла в авиакатастрофе.
Пауль жил прошлым и походил на путешественника, не желающего выпускать из рук тяжелый багаж. Сидя рядом с ним в машине, я думала о женщине с желтыми волосами. Если бы не она, у нас с Коэном, возможно, завязалась бы беседа. А потом мы поужинали бы вместе, переспали и поехали на уикэнд в Монреаль, Нью-Йорк или Лос-Анджелес. Более того, Фелиция Вондрашек и Леонард Коэн могли бы отправиться в монастырь дзен-буддистов, чтобы провести там время в молитвах и медитации. Насколько я знаю, в монастырях секты дзен разрешается курить. Я бы следовала за Коэном везде и повсюду. Но желтоволосая все испортила.
– Ты плачешь, – с упреком сказал Пауль.
Он считал, что быть несчастным – исключительно его прерогатива. Пауль любил меня, потому что я была его утешительницей и он мог, не стыдясь, плакать на моей груди. Я уверяла его, что мне, несмотря ни на что, хорошо с ним. Что я достигаю оргазма за несколько секунд. Да, я действительно была олицетворенным самоотрицанием, ласковой лицемеркой, жадным до денег чудовищем, всем тем, что Пауль заслуживал. Любовь – иллюзия, Пауль, и я довожу ее для тебя до совершенства.
– Он ударил меня, Пауль. Во время нашей последней встречи он дал мне пощечину. Я ненавижу отца.
Это чувство объединяло нас. Пауль тоже ненавидел своего отца, так как считал его виновным в семейной трагедии. Затянувшееся детство Пауля было шумным и громким, как опера Вагнера, и закончилось гибелью близких.
Паулю было двадцать шесть лет, и он учился в университете на деньги отца, когда его почтенный родитель открыл в себе страсть к самолетам и стал терроризировать всю семью. Уик-энды теперь проходили на аэродромах, глава семьи летал на спортивных самолетах, а вся семья следила за его полетами и махала ему с земли. Позже отец приобрел легкий самолет, который мог поднять всю семью в воздух. Мать, сестра и Пауль боялись летать, но вынуждены были садиться в самолет и аплодировать пилоту. Так продолжалось пять лет. И вот однажды, мглистым осенним днем, самолет отца задел столб линии электропередачи и рухнул на землю. Следствие считало, что пилот не справился с управлением, а Пауль называл все случившееся убийством. В то роковое воскресенье Пауль уговорил сестру полететь с родителями вместо него. Ему хотелось подольше поспать в выходной. Сестра обожала брата и готова была сделать для него что угодно. Воспоминания об этих событиях стали для Пауля неиссякаемым источником мучительного чувства вины, которое он, по мнению психотерапевта, подменял кровосмесительными фантазиями, поскольку не мог вынести острой душевной боли. Паулю трудно было смириться с тем, что его банальная лень стала причиной гибели сестры.
Ход мыслей Пауля был сложным и запутанным. Он считал, что если бы соблазнил сестру – о чем он не раз думал, – то тогда они нашли бы способ остаться дома наедине в то воскресенье, и в этом случае погибли бы только родители. Инцест спас бы жизнь его сестре. Другой вариант событий предусматривал смерть влюбленной пары в горящем самолете, последний поцелуй и вечные муки в аду за то, что они совершили инцест. Если бы погиб один Пауль, это, по его мнению, стало бы наказанием за противоестественные сексуальные фантазии. Жизнь сестры казалась ему дороже собственной. После длившегося несколько секунд полового акта и десятиминутных рыданий у меня на груди он начинал изливать свои чувства и высказывать предположения в сослагательном наклонении, постоянно возвращаясь к одним и тем же событиям.
Он хорошо понимал мою ненависть к отцу, от которого я находилась в материальной зависимости. В своих рассказах я превратила бедного Маркуса в коварного монстра, который ограничивал мою свободу. Я заявляла, например, что отец не разрешает мне проводить всю ночь в доме Пауля. Пауль объяснял подобную чрезмерную строгость тем, что отец тайно испытывает ко мне сексуальное влечение, и я не пыталась разубедить его в этом. Пауль должен был поверить в то, что я тоже жертва своего отца. Только тогда он мог полюбить меня. И Пауль в конце концов действительно полюбил меня, хотя никогда не заговаривал о браке. Он не желал встречаться с моим отцом, которого боялся и к которому испытывал отвращение, как к источнику силы и власти.
Он ударил тебя, потому что он хочет тебя, Фея, и из-за этого испытывает к тебе ненависть. Его сводит с ума мысль о том, что ты спишь с другими мужчинами. Ты должна уехать от него. Немедленно. Иначе может случиться беда. Я не могу, Пауль. У меня за душой ни гроша. Неужели я должна бросить учебу в университете и пойти в таксисты? Как ты это себе представляешь? А что, если ты переедешь ко мне и я буду содержать тебя? Он убьет меня за это, Пауль, или тебя. Да, он убьет нас обоих. У меня есть только один выход: уехать подальше отсюда, куда-нибудь, где он меня не найдет. Я могла бы учиться в другом городе. А ты приезжал бы ко мне. О, как это было бы здорово! Но для этого мне нужны деньги, Пауль.
Он говорил, что деньги для него ничего не значат. Мы лежали на его японской кровати в спальне, где была установлена мощная стереоаппаратура. Здесь Пауль слушал Вагнера, Моцарта или Пресли, в зависимости от настроения, и каждый раз убеждался в том, что на свете не существует другой достойной его внимания музыки, кроме этой. Пауль был страстным поклонником Вагнера, несмотря на то что «Лоэнгрина» он называл торжественной опереттой, а сюжет «Летучего голландца» пересказывал следующим образом: одна истерическая корова влюбилась в заколдованного мужика, и оба в конце концов (спев множество арий) нашли свою смерть. Пауль сравнивал Рихарда Вагнера со свиньей, обнюхавшей все закоулки в мире сказаний и украсившей его нотами.
Тем не менее он любил Вагнера, потому что высокопарная музыка этого композитора отвечала душевному состоянию Пауля, понесшего тяжелую утрату. Из всей его обширной коллекции музыкальных записей больше всего мне нравился диск с ариями в исполнении Анны Рассел, потому что, на мой взгляд, она очень изобретательно потешалась над Вагнером.
Пауль установил личный рекорд по продолжительности прослушивания музыкальных записей – он составлял двадцать часов. Именно столько времени занимает прослушивание «Кольца Нибелунгов». Подобный мазохизм ощущался и в обстановке дома. На нее отложили свой отпечаток неподражаемый пафос текстов Вагнера и безвкусица постановок «Тангейзера». Пауль передвигался по дому точно гость, охваченный глубоким чувством почтения. Кроме кухни и ванной комнаты, он почти не пользовался другими помещениями. Его дом был своего рода семейным храмом, уставленным бесчисленным количеством фотографий и предметов, напоминавших о живших здесь людях. Модели самолетов, фарфоровые кошки и спортивные тренажеры. В подвальных помещениях находились сауна, бар и кегельбан. Письменный стол Пауля стоял в его спальне. Он жил в доме с десятью комнатами, будто квартирант. Или, скорее, пленник, мучимый воспоминаниями.
Будучи поклонником организации «Гринпис», Пауль страдал от того, что на постройку дома пошло большое количество древесины. Ему казалось недопустимым то, что стены обшиты деревянными панелями. Пауль жил среди поваленного леса, в котором время от времени слышался крик металлической кукушки, выпрыгивавшей из корпуса настенных часов.
Он выбрал мое письмо из тридцати шести пришедших на его объявление в газете писем, потому что я приложила к нему самую удачную свою фотографию. Пауль искал умную женщину, которая понимала бы его, спокойно относилась бы к его любимой музыке и вела бы с ним бесконечные разговоры о его семейной трагедии. После первой же нашей встречи он написал тридцать пять ответов с отказом встретиться. Тем не менее Пауль аккуратно подшил все полученные письма в специальную папку, которую хранил в спальне. Он решил на всякий случай сформировать свой собственный фонд потенциальных подруг, хотя уже нашел меня, свою утешительницу.
Я никогда не говорила ему, какие страдания испытываю, слушая музыку Вагнера, наблюдая, как он ест в постели жареные колбаски, или терпя то, что он называл любовной прелюдией – жалкие неумелые прикосновения к моим половым органам, сопровождаемые вопросом о том, возбуждает ли это меня. Да, Пауль, да, сделай так еще раз, о, как чудесно…Остановись, пожалуйста, дай мне подумать о Коэне. Я закрываю глаза и вижу его перед собой.
You call it love, I call it room-service [5]5
Ты называешь это любовью, я называю это обслуживанием ( англ.).
[Закрыть].
Оргазм рождается в голове, однако ты никогда не поймешь этого, потому что слишком много болтаешь. Давай быстрее, Пауль, всунь свой член и подумай о сестре, а потом скатись с меня, ты слишком тяжелый, и у тебя дряблая от загара кожа. А моя кожа бледная, она белая и холодная, как снег, и гладкая, как мое стеклянное сердце.
О, мне так жаль, Фея. Ничего, дорогой, все в порядке. В этот раз я почти не думал о Короле, ты заметила? Да, конечно, ты был… активнее, жестче, Пауль. Мой психотерапевт считает, что я должен разговаривать с тобой во время занятий сексом, это поможет мне отвлечься от мыслей о сестре. Тебе было приятно? Я сумел возбудить тебя? Это было невероятно, Пауль, разве ты не чувствуешь, как я теку?
Если бы энергия той лжи, которую произносят женщины во время половых сношений, соединилась во Вселенной, произошел бы мощнейший взрыв. Земля содрогнулась бы, и на небе появилась бы огненная надпись: «Оральная стимуляция полового члена – не удовольствие, а рвотное средство». Чтобы заставить Пауля прекратить плакать и перевести разговор на тему о деньгах, я сказала ему, что беременна. Он действительно сразу же перестал всхлипывать и взглянул на меня своими карими, как у испуганной лани, глазами, которые всегда были слегка влажными.
– О Боже! – промолвил он.
Пауль часто поминал Бога. Он воспитывался в католической вере, и ему было свойственно обостренное чувство вины. Пауль не мог отделаться от него, даже став в зрелом возрасте атеистом. Без этого чувства он был бы заурядным сиротой, посредственным музыкальным критиком, мужчиной со скудной растительностью на теле и заискивающим собачьим взглядом, неинтересным чудаком и любовником, от которого хочется бежать на край света. Психотерапевт наверняка не сказал ему, что в его ненависти к властному, склонному к тирании отцу и в подростковом половом влечении к красивой сестре нет ничего особенного.
Пауль упивался своим чувством вины, ощущая себя трагическим героем одной из опер Вагнера. Его жизненной программой не предусматривались беременные женщины, поэтому он сразу занервничал и схватил бутылку виски. Он пил ирландское виски, не разбавляя его водой и не добавляя льда. Алкоголь оказывал на Пауля поэтапное воздействие, на последнем этапе он впадал в меланхолию, после чего крепко засыпал и храпел во сне.
Я сказала Паулю, что не желаю даже думать об аборте. То, что я сделала в Мюнхене, осталось далеко в прошлом. Я не жалела о своем поступке. Это было лучше, чем родить ребенка от мошенника Геральда. С тех пор я принимала меры предосторожности, чтобы не повторять ошибок и не испытывать больше душевной и физической боли. Однако Пауль ничего об этом не знал. Презервативы и спирали не вписывались в круг его эротических фантазий.
– Мы должны пожениться.
– Нет, – сказала я и, взяв его лысую, вспотевшую от страха голову с заплаканным лицом в свои руки, стала гипнотизировать его. – Ты еще не готов к такому шагу, Пауль, это наверняка подтвердит и твой психотерапевт. Мы найдем другое решение.
– Твой отец убьет нас.
Мой отец был при смерти. И Клара уже устала смотреть на то, как он медленно умирает. Любовь тоже может умереть, правда, чаще всего она совершает самоубийство, однако в данном случае любовь постепенно чахла, и Клара страдала от этого и пыталась вернуть ее к жизни, потому что по своей натуре была борцом.
– Мне нужно переехать в другой город, Пауль, где я и наш ребенок могли бы спокойно жить, ничего не опасаясь.
Такому, как Пауль, до смешного просто внушить чувство вины. Я почти испытывала стыд оттого, что он верил каждому моему слову. С другой стороны, импровизация о беременности казалась мне гениальной. Ко всем многочисленным страхам Пауля добавились еще страх перед гневом моего мнимого отца и ужас перед женщиной с большим животом и орущим ребенком, которого нельзя будет выключить, как стереосистему. Даже то, что Пауль завел пять контейнеров для разных видов мусора, который можно быстро утилизировать, не причинив вреда экологии, и среди которого нашлось бы место и для использованных памперсов, не было аргументом в пользу ребенка.