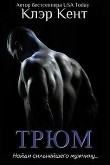Текст книги "Унесенные войной"
Автор книги: Кристиан Синьол
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц)
– Я отопру для них две комнаты в глубине коридора, – сказала она.
Это были две нежилые комнаты из четырех, находящихся на первом этаже. Матье вышел и с огромным трудом объяснил феллахам, что им можно зайти в дом. Они согласились, только когда заметили, что во дворик прибыла вода. Тогда феллахи устроились в коридоре и в комнатах, расселись на полу, поскольку всем не хватало места, чтобы лечь. Дети плакали, женщины причитали, а снаружи по-прежнему лил дождь.
Оставалось только ждать. Все оказались в плену у вод Харраша. Все могли только молиться, чтобы вода не поднялась больше чем на два метра, хоть в это слабо верилось. Однако на рассвете дождь все так же шел, и во дворике уровень воды стал выше на полметра. Из окна своей комнаты Матье видел затопленные земли, идущие от оранжереи по виноградникам, и виднелись только верхушки лоз. Он знал, к чему это приведет – паразиты разведутся повсюду, все покроется плесенью, мучнистой росой, грибком, несомненно, придется все выкапывать. На пшеничных же полях, приложив усилия, можно надеяться побороть паразитов. Надо верить в лучшее. Матье чувствовал, как изнеможение наполняет его, когда рука жены опустилась ему на плечо. Марианна произнесла с нежностью:
– Мы смогли вынести все, даже саранчу. В этот раз тоже выстоим.
Она не знала, что Матье с большим трудом выплачивал свои долги. Отогнав эту мысль, он подумал о сыновьях, и дух борьбы вернулся к нему – он сражался против стихий ради них. Для своих таких долгожданных детей Матье был готов побороть любое препятствие.
Паводок начал убывать через два дня. Два дня, в течение которых приходилось кормить шестьдесят человек, пребывавших в бесконечных волнениях и спорах даже ночью. Вода дошла до середины лестницы первого этажа, затем утром третьего дня начала спадать, и ее уход был таким же быстрым, как и приток. Дождь прекратился. Матиджа принимала понемногу свой привычный вид. Но кое-что в ней так и не восстановилось – когда ушла вода, от нее остался слой коричневой тины, местами достигающий тридцати сантиметров. Покрытые илом виноградные лозы казались мертвыми. Их попытались очистить, но скоро стало ясно, что это бесполезно, поскольку они пропитались влагой, и этого было достаточно для начала гниения. Надо было дождаться, пока все просохнет, ждать солнца, хотя небо все не прояснялось.
Несмотря на то что Роже Бартес и его жена Симона не пострадали во время потопа, их имение было также разрушено наводнением. Но они не отчаивались. Они помнили о саранче, о сирокко, о многочисленных преодоленных ими и другими земледельцами трудностях. Свой первый визит они нанесли Матье в тот день, когда ближе к полудню над блидийским Атласом засветило солнце. Свет был очень слабым, но этого было достаточно, чтобы просушить лозы и тину за несколько дней, на которые он задержался. Матиджа, казалось, изменилась за несколько минут. Она вновь была такой, какой они ее любили, несмотря на ее бури, ее неблагодарность. Итак, лицом к лицу, сидя за столом, Матье Бартелеми и Роже Бартес, успокоившись, стали говорить о планах на будущее.
Шарль приехал в Пюльубьер, как и просила мать, в первое воскресенье декабря. Он оставил Матильду в Ла-Рош, ведь Пьер был еще слишком мал для путешествий в такой колючий, сухой мороз, пришедший за первым снегом. Приехав, Шарль быстро убедил Эдмона не предпринимать ничего до нового года и пригласил Алоизу и Франсуа провести Рождество у него в доме, в Ла-Рош.
– Вы же не оставите нас одних на Рождество? – притворно возмутился Шарль в беседе с родителями.
Франсуа дал себя убедить, и утром 24 декабря они с Алоизой сели в поезд до Тюля, куда Шарль приехал на машине мэра забрать их. Хоть на улицах префектуры не лежал снег, его было предостаточно на плато, где находился Ла-Рош. Им понадобилось два часа, чтобы доехать до городка, затерянного на такой высоте, где все было покрыто белым: деревья, долины, поля и крыши домов. Только маковка церкви выделялась черной пикой, уходящей в серое небо над казавшимся безлюдным городишком, и в это небо безропотно уносилось сбитое с толку ветром воронье.
Шарль заметил, как растрогался отец, входя на школьный двор впервые за такое долгое время, а затем в их с Матильдой и Пьером квартиру. Для Франсуа было честью быть принятым на несколько дней в этом жилище, выглядящем в его глазах бесконечной роскошью. Он втайне гордился этим, эти места были для него показателем достижений собственного сына и немного его собственных. Алоиза и Франсуа устроились в маленькой комнате, где обычно спал Пьер, а его на пару дней переместили на матрас в родительскую комнату.
Готовя рождественский ужин, они болтали о том о сем, потом, около шести, Шарль спросил у отца:
– Хочешь посмотреть классы?
– Да, очень хочу.
Алоиза сослалась на холод и отказалась присоединиться к ним. Она знала, что Шарль воспользуется этим осмотром, чтобы поговорить с отцом. Мужчины спустились на первый этаж и вошли в класс, где, конечно же, стоял пробирающий до костей холод.
– Я растоплю печь, у нас много времени, – сказал Шарль.
Пока он возился с печью, Франсуа ходил взад-вперед между рядами. Наконец он уселся за парту, лицом к доске, затем поднялся и пошел к столу. И там он увидел, что Шарль, закончив разжигать огонь, спускается к нему.
– Садись, – сказал Шарль.
– Нет, нет, нет, – ответил Франсуа.
– Почему же?
– У меня нет на это права, – сказал Франсуа.
– Есть, это же мой класс.
– Ты думаешь, я правда могу?
– Ну да, конечно же.
Франсуа не решался еще мгновение, потом отодвинул стул и медленно и осторожно сел лицом к пустому классу. Он долго ничего не говорил, затем пробормотал:
– Знал бы ты, малыш, как много это значит для меня.
– Догадываюсь, – сказал Шарль, садясь за парту в двух шагах от отца.
– Я бы тоже очень хотел этого на твоем месте.
Франсуа вздохнул.
– А вместо этого отлучен от школы с двенадцати лет, чтобы жить на ферме.
Он пожал плечами, добавив:
– Ты хотя бы в итоге добился желаемого.
Шарль глядел на этого человека, своего отца, худеющего на глазах, кожа да кости, который сражался всю жизнь за то, чтобы дети были счастливее его, и вдруг почувствовал, что не в силах хоть в чем-нибудь его упрекнуть. Хотя именно для этого он и пригласил Франсуа сюда, в Ла-Рош, на Рождество. Но в чем он мог упрекнуть этого человека? Это же благодаря ему они оба были здесь сегодня. Именно потому, что он слишком много работал, слишком страдал, его непреклонному, но любимому отцу (Шарль не сомневался в этом) придется умереть до срока. Что он мог сказать ему? Как упрекнуть его во владении браздами правления в семье, в нежелании разделить с кем-то имение, которое он сохранял, прилагая к этому огромные усилия?
Теперь Франсуа нерешительно дотрагивался до длинной деревянной линейки, до перьевой ручки, до чернильницы, окрашенной на дне красными чернилами, и не мог поднять головы от этих сокровищ. Тронутый не меньше его, Шарль подошел к печи, без надобности открыл заслонку и пошевелил весело горящие поленца.
– Я знаю, зачем ты нас пригласил, – тихо обратился к нему Франсуа.
Шарль притворился, что кладет книгу под крышку парты, а потом подошел к столу, не глядя на отца.
– Я понимаю, что ты прав, – продолжал Франсуа. – Но это сильнее меня.
– Да, – произнес Шарль, – я уверен, что это так…
– И все-таки, видишь, здесь, за этим столом, сегодня вечером мне кажется, что я не так все себе представляю. Не знаю, как тебе объяснить…
Франсуа вздохнул и продолжил:
– Это словно я победил, понимаешь?
– Конечно понимаю.
Наступило продолжительное молчание, во время которого взгляды отца и сына наконец пересеклись.
– Я только что осознал, что мой труд закончен, – произнес Франсуа.
– Нет, не говори так… Речь совсем не об этом.
– Об этом. Ты и сам знаешь.
– Нужно просто предоставить Эдмону больше свободы в действиях.
– Позволить ему отдавать указания в моем доме?
– Нет, просто больше к нему прислушиваться, вот и все.
– Слушать его как хозяина?
И еще более скорбным голосом Франсуа добавил:
– Я слишком долго был слугой, чтобы снова стать им в моем возрасте.
– Так вот в чем дело! Да об этом и речи не идет! – запротестовал Шарль.
– Для меня как раз только в этом.
И снова воцарилась тишина. Некоторое время было слышно только ворчание печи.
– Во всяком случае, это был единственный вопрос до сегодняшнего вечера, – вновь заговорил Франсуа. – Но теперь, здесь, сидя за этим столом, я все вижу совсем по-другому.
И Франсуа неожиданно смолк, в глазах его читалась растерянность.
– Ты сделал для своих детей намного больше, чем кто бы то ни было, – сказал Шарль. – Подумай только! Я стал директором школы, Луиза станет медсестрой, а Эдмон только и мечтал, чтобы работать на земле. Ты же не хочешь в такой благоприятный момент вынуждать его идти в рабочие?
– Нет, – задумчиво ответил Франсуа. – Не волнуйся. Здесь, сегодняшним вечером я многое понял.
Они замолчали. Все было сказано. Но они еще долго сидели в классе, Франсуа рассматривал карты на стенах, маленькую библиотеку, а потом они вернулись в комнаты. О том, чтобы пойти на полуночную мессу, не могло быть и речи, поскольку нельзя было оставить Пьера без присмотра. Поэтому в тот вечер они рано уселись за рождественский ужин в маленькой школьной кухне-столовой. Франсуа рассказывал о старых рождественских традициях Пюльубьера, когда они ездили на повозке в Сен-Винсен. Он выглядел оживленным, будто сбросившим тяжкий груз. Алоиза несколько раз встречалась глазами с Шарлем, но поговорить наедине они смогли только утром следующего дня.
– Все будет хорошо, – сообщил он ей, когда Франсуа вышел на небольшую прогулку. – Все наладится.
– Ты в этом уверен?
– Абсолютно.
В Ла-Рош Франсуа и Алоиза остались не на два, а на четыре дня, поскольку снегопад не прекращался. Он закончился только к концу недели, и Шарль наконец смог отвезти отца и мать в Тюль, чтобы посадить их на поезд. Хотя на дорогах снег немного подтаял, деревья стояли все в белом.
– Это первое наше Рождество вдали от дома, – заметила Алоиза, восседая на заднем сиденье.
– Надо будет обязательно вернуться, – произнес Франсуа. – Все пойдет на лад, – продолжал он, глядя на солнечные лучи, наконец-то пробившиеся из-за туч у подножия холмов.
На вокзале Шарль помог родителям сесть в поезд, подождал его отправления и только потом покинул вокзал. Отец подбадривающе улыбнулся ему, прежде чем исчезнуть в вагоне, и эта улыбка стояла у Шарля перед глазами всю дорогу обратно в Ла-Рош, вселяя уверенность, что этот день принес всем много счастливых моментов.
Радости стало еще больше, когда перед сном, поздно вечером, Матильда сообщила ему, что ждет второго ребенка.
– Ты уверена? – спросил Шарль с легким удивлением.
– Ну конечно, я ждала полной уверенности, чтобы рассказать тебе эту новость.
– Это будет девочка?
– Возможно.
Но она тут же добавила:
– А может быть, и мальчик.
Шарль взял жену за руки, исполнил несколько танцевальных па, остановился, все еще прижимая ее к себе, глядя на снег за окном. Ему казалось, что снег падал, чтобы еще больше оградить их счастье, в котором они остались сейчас наедине, на долгие дни до начала занятий.
8
В начале мая 1951 года Элиза поручила Люси подыскать новых жильцов для замка Буассьер, поскольку люди, жившие в нем ранее и поддерживавшие там порядок, недавно скончались. Люси отнеслась к выполнению задачи с большим усердием, поскольку в замок она не возвращалась со времени своего недолгого брака с Норбером де Буассьером, оборвавшегося трагически тридцать лет тому. Женщина испытывала странную смесь желания помочь и любопытства: найдет ли она там вновь все то, что очаровало когда-то ту молоденькую девочку, которой она была, ничего не знающую о порядке в замке, о его нравах и обитателях? Люси жаждала узнать, остались ли в этих местах пережитки той прошлой жизни, и особенно ей хотелось увидеть тени тех, кто населял этот замок раньше, вернуться в прошлое в воспоминаниях, где еще теплились былые впечатления и были живы прежние волнения.
Люси отправилась в путь ночью, прибыла в Пюльубьер в девять часов утра, там провела все утро в компании Алоизы, позавтракала в ее доме, несмотря на свое нетерпение. За завтраком семья была почти в полном составе: Франсуа и Алоиза, конечно же, но также Эдмон и Одилия с сыном. Как и всегда, Люси было приятно находиться в родительском доме, куда она так часто убегала от парижских хлопот, от одолевающих ее и дочь трудностей послевоенного времени.
Во второй половине дня Франсуа отвез сестру в Борт, к нотариусу, у которого хранились ключи от замка. Господин Клавир вернул ключи, заметив, что здание сильно обветшало, его запустили предыдущие хозяева, поскольку, старея и слабея, они вынуждены были понемногу отказываться от возложенных на них обязанностей по причине ухудшающегося здоровья.
– Я не ставил вопрос о смене обитателей замка, – заметил нотариус. – Однажды я направил вашей дочери письмо с пояснением ситуации, но ответа так и не получил.
– Вы все сделали правильно, – заметила Люси.
Они с Франсуа направились в замок, не подозревая даже, насколько слова нотариуса о запустении окажутся недалеки от истины. Это стало ясно, как только они отодвинули решетку: в огромном, совершенно заброшенном парке ничего не осталось от огромных цветочных клумб прежних времен. Вместо них во дворе буйствовали ежевика и сорные травы, простираясь до самого крыльца. На заднем дворе дела обстояли еще хуже: с содроганием сердца Люси заметила, что из огромных величественных деревьев времен ее молодости выжить удалось только нескольким дубам, опоясанным плющом, и некоторые их ветви жалко свисали, поломанные многочисленными ураганами, выпавшими на их долю. Бассейн в форме огромной ванной был наполовину разрушен, аллеи испещрены выбоинами, их бордюрные камни округлой формы были перекинуты набок каким-то недоброжелателем.
На самом здании, там, где на ставнях облупилась краска, образовались разъедающие древесину наросты плесени, а на крыше обвалились оба дымохода. Угловые камни крыши обломились, никем не подобранная черепица валялась на земле. Все решетки и кованые ограды покрывала ржавчина, свидетельствующая о длительном запустении.
Однако сердце Луизы трепетно забилось, когда она поднималась по ступеням крыльца и открывала огромную входную дверь. Пока Франсуа оглядывал нижние комнаты, она поднялась наверх, в спальню, когда-то занимаемую Норбером, ту, в которой он впервые заключил ее в свои объятия. Она вдруг вновь почувствовала себя шестнадцатилетней девушкой: ее захлестнула, выбила из равновесия сильнейшая волна смешанного ощущения счастья и отчаяния. Все осталось нетронутым: кровать из орехового дерева, ночные столики в стиле ампир, покрытые золотыми звездами, секретер, обитый красным деревом, венецианское зеркало, красно-бордовый ковер, стеклянная люстра, двухстворчатое окно, выходящее в парк. Женщина закрыла глаза и услышала знакомый шепот:
«Скажите, как вас зовут?»
– Люси, – ответила она шепотом.
«Вы давно здесь?»
– Почти пять месяцев.
Ей казалось, что Норбер кладет свои руки ей на плечи, и стало ясно, что она жила все это время только ради него, для того, чтобы найти его однажды, так или иначе воссоединиться с ним, вопреки пространству и времени. С этого момента Люси решила, что будет отныне приезжать сюда на несколько месяцев каждый год, чтобы оживлять в себе эти яркие чувства, оставшиеся для нее в прошлом.
Ее окликнули с крыльца: Франсуа переживал, почему ее нигде не слышно. Люси спустилась к брату. Они вновь вдвоем обошли парк, и, глядя на эти удручающие виды, Люси вдруг очень захотелось уехать прочь. В машине они пришли к общему выводу: нужно срочно что-то предпринять, иначе имение и замок будут бесповоротно разрушены. Они снова нанесли визит нотариусу, и тот, стараясь не делать намеков на длительное пренебрежение замком как его хозяев, так и обитателей, объявил, что он взял инициативу в свои руки и отыскал одну чету из городишка, у которой не осталось больше средств к существованию, согласившуюся взять на себя обязанности по сохранению и восстановлению замка при условии бесплатного проживания в нем. Их звали Жорж и Ноэми Жоншер, и они могли переехать немедленно. Люси договорилась встретиться с ними во дворце на следующий же день.
Она прибыла на встречу в компании нотариуса, – Франсуа в этот раз был занят делами, – и сама встретила чету, которая сразу же расположила ее к себе. Жена была маленькой и крепко сбитой, с белоснежными волосами, но темным, полным энергии взглядом; муж – намного крупнее ее, крепкого телосложения, курносый; он создавал впечатление очень решительного человека. Сложность поставленной задачи не пугала их. Таким образом, Люси и супруги Жоншер условились, что они могут переезжать, как только пожелают, и чем раньше, тем лучше. Будущие жильцы уехали в машине адвоката, и Люси осталась одна в замке, ожидая Франсуа. Он обещал заехать за ней ближе к вечеру.
Она не чувствовала одиночества. Женщина даже запланировала эти час или два, чтобы побыть одной, вернуться мыслями в прошлое, вероятно, в самую лучшую часть своей жизни. Люси села у крыльца, где когда-то по большим августовским праздникам лицедействовали скрипачи, и, закрыв глаза, увидела перед собой женщин в самых нарядных туалетах, мужчин в сюртуках и фраках, припаркованные в конце аллеи машины. Она ощутила запах сигарет и пачули, услышала звуки музыки, еще едва знакомой ей, и, как тогда казалось, перед ней неожиданно стали открываться двери в фантастические миры. Люси долго сидела, глядя в одну точку, а затем обошла замок, остановилась у бассейна, в тени величественных, но запущенных и страдающих деревьев; пробралась в конюшню, где все еще был слышен запах конского навоза и соломенных подстилок; вспомнила день, когда на нее здесь набросился кучер, и поспешила выйти, как будто тени в углах могли таить в себе новую опасность.
Думая об ушедшем времени, Люси вновь обошла парк, а затем вошла в замок. Со вчерашнего дня она поняла, чего ей недоставало. И сейчас вновь обдумывала решение, принятое накануне. Она поднялась на второй этаж, зашла в комнату Норбера, стала осматривать предметы, мебель, принадлежавшую ему когда-то, затем растянулась на кровати, куда он бережно уложил ее тогда, в первый раз, так нежно и властно одновременно. Она почувствовала его присутствие, как в тот день; его руки касались ее тела; и в этот миг утратило значение все, кроме мыслей об усопшем мужчине, чей запах, тепло рук, дыхание возле ее лица, его власть над ней вновь ощущались ею здесь так отчетливо и живо, что сознание оставило ее.
Придя в себя, Люси поняла, что из глаз ее льются слезы. Она не знала, было ли это от вновь обретенного мимолетного счастья или от осознания своей потери. Обе причины, без сомнения, были верны. Но мысль о том, что она могла бы спать на этой кровати каждый раз, приезжая в замок, будила в ней странное чувство, очень схожее со счастьем.
Однажды июльским утром, когда Шарль с Матильдой готовились закрыть школу и направиться в Пюльубьер, их сын Пьер не смог подняться с кровати. У него очень болело горло, он с трудом глотал и жаловался на головные боли. Шарль отправился за доктором, но того не было на месте – он уехал по вызову на окрестные фермы. Вернулся он только к полудню. Ожидая его, Матильда все утро оставалась подле Пьера, охваченная сильной тревогой, думая, что, если его болезнь окажется заразной, ей нужно бы поберечь второго сына, Жака, родившегося два года назад. Она никак не могла решиться и ожидала только врача, немного успокоенная словами Шарля, что это обыкновенная ангина.
Старый врач Ла-Роша приехал в школу сразу же после своего возвращения в деревню, даже не пообедав. Это был невозмутимый старичок, имеющий постоянный доход от ежедневных вызовов к умирающим столетним крестьянам, не доверяющим традиционной медицине. Часто, когда его звали, было уже слишком поздно. Ему доводилось делать то, что было еще в его силах: смягчать страдания, к которым люди привыкли здесь, в горах, вдали от комфортной жизни.
Конечно, у Шарля и Матильды Бартелеми был совсем другой случай, они вызывали старого доктора при каждой детской болезни сыновей. Ведя бесконечный бой против столетних привычек и прибегая к «колдовству» в борьбе с болезнями и несчастьем, они стали хорошими друзьями.
– Что с нашим малышом на этот раз? – спросил врач, готовясь осмотреть Пьера и приближаясь к его кровати.
Ребенок был весь в поту, с трудом сглатывал слюну и едва мог говорить.
– Какая температура? – обратился врач к Матильде.
– Тридцать девять.
Матильда стояла возле Шарля, за спиной у доктора, удивляясь его хмурому лицу и требованию исследовать горло малыша ложечкой. Затем он прощупал горло и затылок ребенка и недовольное выражение его лица не ускользнуло от супругов.
– Это ангина? – спросил Шарль.
– Хотел бы я быть в этом уверен, – ответил врач, уложив ребенка в постель. – Скажите мне его точный возраст.
– Пять лет.
– А Жаку?
– Два года, – ответила Матильда.
И тут же тревожно добавила:
– А почему вы спросили об этом?
– Потому что их нужно изолировать друг от друга.
Матильда почувствовала, как подкашиваются ноги, оперлась на руку Шарля и спросила:
– Почему? Что случилось?
Врач ответил не сразу. Он уложил стетоскоп в футляр, поднялся, сделал им знак следовать за ним в кухню, где открыл свои опасения:
– Я еще не совсем уверен, но есть подозрение, что это дифтерия.
– Нет, это невозможно, – запротестовала Матильда.
– Увы! Здесь она случается довольно часто.
Оправившись от шока, Шарль поинтересовался:
– Что мы должны делать?
– Я бы советовал изолировать малыша. Так безопаснее. Надо доверить его какой-нибудь бездетной семье, например.
– Моим родителям в Усселе? – предложила Матильда.
– Да, почему бы и нет. Но выезжайте сегодня же.
– Я отвезу его, – сказал Шарль.
– А для Пьера, если это действительно то, что я подозреваю, антибиотики и изоляция на тридцать дней.
– Его нужно госпитализировать? – в отчаянии спросила Матильда.
– Нет. Не прямо сейчас. Он может быть источником заражения. Но если в домашних условиях не справимся, возможно, придется так и поступить.
Все знали, что эта болезнь все еще иногда имела летальный исход в детском возрасте, несмотря на прогресс в развитии послевоенной медицины.
– Я зайду вечером, – произнес врач, – но отвезите быстрее младшего сына в Уссель, так будет лучше.
Как только врач ушел, Шарль отправился к мэру одолжить его автомобиль, и тот позаимствовал его с радостью, ибо ни в чем не мог отказать своему секретарю. Матильда осталась наедине со старшим сыном, терзаемая мыслью о предстоящей долгой разлуке с Жаком, с которым не расставалась надолго со дня его рождения. Так как в Ла-Рош не было аптеки, Шарлю приходилось ездить за лекарствами в Уссель. Ожидая мужа и доктора, Матильда сидела у изголовья больного ребенка и с ужасом наблюдала за его тяжелым дыханием, поднимала его, чтобы облегчить страдания, протирала ему лоб, считала часы до возвращения Шарля. В тот день он не вернулся до сумерек. К счастью, врач опередил его.
Доктор зашел навестить больного, как и обещал. С хмурым видом он сделал ребенку укол и ушел, как показалось Матильде, в сильном беспокойстве. И она снова осталась наедине с тревогой, слушая, как трудно дышать ее сынишке, чувствуя, что в ее жизни начинается самый сложный этап. Даже приезд Шарля в десять вечера не уменьшил ощущения опасности, страха возможной потери ребенка, уже зарождавшегося в сознании и еще усиливаемого найденной в журнале статьей о тревожных показателях смертности во Франции из-за дифтерии в послевоенный период.
В первую ночь, расположившись на стульях по обе стороны кровати, Шарль и Матильда не смыкая глаз следили за Пьером, слушали его тяжелое дыхание, усаживали его, затем снова клали в постель, вытирали лоб, с точностью соблюдали прописанные врачом указания о приеме лекарств. Врач взял за правило наведываться в их дом по три раза на день.
В последующие ночи, устав до изнеможения, они договорились спать по очереди, но одиночество в темноте и тишине было невыносимым. Особенно тяжело приходилось Матильде, сильно скучавшей по своему второму сыну, и в эти тревожные моменты, когда Пьер начинал задыхаться, она вскакивала, хватала его на руки в молчаливом призыве, и ее наполнял страх намного больший, чем пережитый за все время войны. Тогда она бежала в комнату к Шарлю и умоляла его побыть с ней. И они снова оставались бок о бок у кровати сына, не в состоянии даже заговорить.
Дни шли, и заключения врача были все менее оптимистичны. Однажды ночью, ближе к двум часам, Шарлю и Матильде показалось, что их сын умирает от удушья, и решено было положить его в больницу. Снова пришлось просить машину у мэра и отправляться туда, где риск обострения еще более увеличивался. Приняв решение, на следующий вечер они также засыпали рядом с сыном, но уже в номере отеля, находящегося возле больницы.
Прошло две недели, а болезнь все не отступала. Силы Пьера, как и у Шарля с Матильдой, были на исходе. Наступил ужасный день – понедельник, Шарлю с Матильдой никогда его не забыть. Медсестры и врач не покидали палату их ребенка. Два раза Пьера считали мертвым, но затем удавалось привести его в чувство. К вечеру приступы прекратились. Следующей ночью было только два приступа удушья. А утром ребенок открыл глаза.
– Если так будет продолжаться, – сказал врач, лечивший Пьера со дня его прибытия, – может быть, ему станет легче.
Шарль и Матильда не очень верили в это, во всяком случае, не верили, что ребенок сможет быстро поправиться. Но Пьеру дышалось уже легче. Казалось, температура начала спадать. Следующей ночью он просыпался только один раз. Затем температура резко понизилась. Они выиграли бой, но какой ценой: Пьер исхудал до невозможности, его лицо казалось обглоданным болезнью. Матильда и Шарль не стояли на ногах после этих бессонных ночей, от измотавшей их тревоги, заставившей забыть обо всем, что существовало вокруг, – о школе, о Пюльубьере, об ожидавшем их отпуске.
Через неделю они отбыли в Тюль с целым и невредимым Пьером, не осмеливаясь верить, что этот кошмар наконец-то закончился. Однако же лето царило в высоких холмах – лето, тепло, свет и вечернюю негу которого им было некогда заметить раньше. Им казалось, что мир был так же прекрасен, как и всегда, но лето придавало ему особую прелесть. Вернувшись в Пюльубьер, вновь забрав домой Жака и любуясь зеленью высокогорья, они прожили эту августовскую пору в непроходящем ощущении нависшей опасности. Несмотря на красоту елей под удивительно глубокими небесами, несмотря на радушный прием Франсуа и его семьи, они знали теперь, что даже без войны вокруг было множество угроз, о которых они так легкомысленно забывали.
– Мы постарели, – однажды вечером признался Шарль, когда они брели по дороге из Сен-Винсена, под оживленный шорох листьев в порывах ветра, разгоняющего обеденную жару.
– Да, – вздохнула Матильда, – мы состарились.
А проходя под грандиозным навесом из великолепных буков, в которых играли уходящие лучи солнца, добавила едва слышно:
– Совсем не годы приносят старость, а страдания, которые мы испытываем.
Франсуа давно пообещал Алоизе взять ее с собой куда-нибудь далеко. Хотя бы однажды в своей жизни ей стоит увидеть что-то, кроме лесов плоскогорья. Ему никак не удавалось выполнить это обещание, поскольку не позволяла работа, и к тому же путешествия требовали непозволительных затрат. Однако этой осенью Франсуа понял, что пришло время исполнять обещанное. Ему было пятьдесят девять, а ей пятьдесят восемь. Он боялся, что потом сил может уже не найтись.
Когда они упомянули о своем путешествии в компании всей семьи, Шарль поинтересовался:
– Куда вы собираетесь поехать?
– Я всегда мечтала увидеть море, – ответила Алоиза.
– Море или океан?
– Океан, знаешь, со стороны Бордо.
– Там, куда уходили наши лодочники по Дордони, – добавил Франсуа.
Бог знает, как часто Франсуа и Алоиза обсуждали это путешествие к океану, настолько часто, что теперь уже и не знали, не побывали ли там однажды? И так ли уж сильно им этого хотелось? Может, Франсуа и не так сильно, но вот Алоизе точно хотелось. Никогда не покидавшая пределов Пюльубьера, она думала об этих местах как о невероятно огромной, слишком прекрасной, чтобы навеки остаться недостижимой, вселенной. Женщине казалось, что в ее столетней жизни оставалось нечто недоделанное, какая-то брешь, мир был известен ей лишь по рассказам других, но оставалась разверзшаяся пропасть того непознанного, что было намного больше, шире. Один только вид его раскрасит ярко ее существование, в котором единственным контуром горизонта раньше были лишь верхушки леса вдали.
Когда Шарль предложил поехать с ними, Франсуа принял предложение. Он не чувствовал в себе сил взяться за организацию всей поездки, опасался трудностей, которые ожидали их в этом, по его мнению, принимающем устрашающие размеры путешествии. Он покидал плоскогорье лишь при трагических обстоятельствах, когда уходил на войну. У Франсуа сложилось впечатление, что там, вне Пюльубьера, он натолкнется на ту же угрозу или на те же опасные для жизни условия. Такие мысли были абсурдны, он сам знал это, но нельзя прожить долгие годы вдали от мира и не трепетать перед ожидаемой встречей с ним. Поэтому он с облегчением принял предложение Шарля сопровождать их во время поездки к океану, о которой Алоиза всегда говорила с особым ярким светом глаз, загорающимся вдруг в углах их лавандовых вселенных.
Эдмон отвез их на вокзал в Мерлин однажды утром, в понедельник, в сентябре, в такое время, когда первая рассветная свежесть уже предвещала наступление осени. Там они сели на поезд до Браива, а затем до Бордо, куда приехали после полудня. Шарль радовался, что поехал с родителями. Они так переживали, так беспокоились в купе поезда, что он удивлялся, как они собирались сами уезжать далеко от дома. Кроме того, он был счастлив сопровождать их в этом единственном путешествии их жизни, и он знал, чем эта дорога была для них: доказательством, что жизнь не такая маленькая, как они могли подумать, и не такая узкая и что, может быть, она еще не заканчивается. Жизнь, в которой они были еще в силах изменить что-то к лучшему, увеличить что-то, потому что работа, ежедневный тяжкий труд, пригибавший их к земле, к сожалению, не расширял горизонты. Мир, над которым стоишь склонившись, уменьшается для стариков с каждым днем.
После привала на вокзальном дворе они сели в поезд по направлению к Аркашону, куда прибыли в пять часов пополудни. С вокзала еще нельзя было увидеть океан, его огромные водные просторы. Из маленького отеля, обнаруженного ими как раз напротив вокзала, также не было видно воды. Но как только они отнесли багаж и передохнули несколько минут, Шарль предложил направиться к берегу, больше не мешкая.