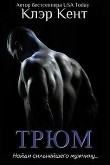Текст книги "Унесенные войной"
Автор книги: Кристиан Синьол
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
Пьер напрасно ждал сна – заснуть никак не удавалось. Он не был подготовлен к жизни в мире, так сильно замкнутом на самом себе, таком страшном. Его отец, Шарль, несколько раз говорил ему о пансионате, в котором учился сам, об Эглетоне, но никогда не рассказывал о первом годе обучения, во время которого приходилось от столького отказываться. Правда, Шарль попал туда в более раннем возрасте и до этого никогда не покидал Пюльубьера. У Пьера же все было по-другому – в свои пятнадцать лет он узнал в Аржанта намного больше, чем знал его отец в этом возрасте. Но все-таки они почувствовали в этот период одно и то же: лишение свободы, тяжесть новой жизни, открываемую в лицее, разлуку с семьей – имело ли это какое-либо отношение к смутным надеждам? В глубине души Пьер знал, что это было важно. Единственное, что оставалось делать – попытаться привыкнуть, приловчиться, правильно распределять время, и вскоре новая жизнь станет для него привычной, как он надеялся.
Было около одиннадцати часов, когда в спальне, освещенной только ночником, включенным в кабине наблюдающего, слева от Пьера раздался вдруг крик птицы, тут же подхваченный детьми на кровати в противоположном ряду. Остальные вторили ему эхом, пробежавшим от одной стены спальни до другой. Направленный надсмотрщиком из открывшейся двери луч света ослепил всех, и резко наступила тишина. Высокий темноволосый надзиратель с острым лицом большими шагами направился к месту, из которого раздались первые крики, то есть к Пьеру, и закричал:
– Вы, впятером, встать!
Послышались вялые протесты, но все названные мальчики поднялись, в том числе и Пьер.
– Станьте перед кроватями, руки за спину, ни на что не опираясь.
Мальчики подчинились, все с видом оскорбленных жертв, кроме Пьера, остававшегося очень спокойным, с лицом, сохранившим естественное выражение, едва тронутое недовольством.
– Вы останетесь стоять, пока тот, кто издал первый крик, не выдаст себя! – заорал надсмотрщик. – И если понадобится, будете стоять всю ночь!
Он повернулся в другой конец спальни и добавил с нотками ликования в голосе:
– С этого момента ваши товарищи могут наслаждаться светом. И, таким образом, завтра они будут иметь возможность выразить свою благодарность тому, кто устроил им эту бессонную ночь.
Послышались крики, протесты, но надзиратель и ухом не повел. Он вернулся в свою комнату, и в освещенной спальне вновь воцарилась тишина.
Пьер знал, кто поднял шум, но и мысли не имел выдавать его. И не потому, что боялся мести, но оттого, что считал, что виновный во всем признается через несколько минут упорства. Но ничего не происходило. Несмотря на крики о мести, раздающиеся со всех сторон, надзиратель, удалившийся в свою кабину, оставался невозмутим. Однако через полчаса он выключил лампу, которая была напротив пяти наказанных, но другую оставил включенной. Время от времени Пьер поворачивался к виновному – его кровать была соседней, – но ученик первого обычного класса продолжал молчать. Это весьма болезненное ожидание продолжалось. Протесты стихли, лежавшие ближе всех к наказанным детям ученики укрылись одеялами с головой. Пьеру очень хотелось спать. Он время от времени опирался на металлическую спинку кровати и думал, когда же все это закончится.
Через час надзиратель снова пришел, склонился над пятью наказанными и пригрозил:
– Поскольку вы не хотите образумиться, мы поиграем в другую игру: кто обопрется на кровать, лишится права выйти из лицея в следующее воскресенье.
И вместо того, чтобы вернуться в свою комнату, он стал прохаживаться туда-сюда перед мальчиками. Так прошло полчаса, и Пьер старался держаться прямо, иногда закрывая глаза и изо всех сил сражаясь со сном. Потеряв надежду и, несомненно, не менее уставший надсмотрщик постановил:
– Вы все не сможете выйти, если до воскресенья виновный сам о себе не заявит. Сегодня же можете возвращаться в постели.
Со всех кроватей послышались вздохи облегчения, и скоро свет погас. Несмотря на все нависшие над ним угрозы, Пьер сразу же погрузился в сон.
На следующее утро, как только он проснулся, ему вспомнились слова надсмотрщика, и сердце сжалось. Несмотря на утешительные слова Даниеля, боль не проходила весь день, к тому же на переменах приходилось выслушивать запугивания виновника и его друзей из старшего класса: если он заговорит, то пожалеет об этом.
Пьер и не собирался никого выдавать. Он просто был удручен их трусостью, этими приемами запугивания, исходящими одновременно от надсмотрщиков и от учащихся, и думал о воскресенье, которое должно было принести ему встречу с Аржента, с родителями. Они, как и он, наверняка ждали этого первого выхода из пансионата. Проходящий день показался Пьеру совершенно бесцветным, несмотря на солнечную осеннюю погоду. Он едва ли слушал преподавателей и с большим трудом доделал домашние задания.
– Не переживай, – говорил ему Даниель. – Все наладится.
Но Пьер его не слышал. Без пятнадцати девять, во время последней перемены перед сном, надсмотрщик задержал его в классе, когда другие ученики уже вышли. Он смотрел некоторое время на Пьера не моргая, затем теплым голосом, так сильно отличающимся от того, которым отдавал приказы, сказал:
– Я поздравляю вас. Вы очень храбры, хотя я уверен, что они вас неоднократно запугивали.
Немного помолчав, он добавил:
– Не переживайте. Я знаю, что это не могли быть вы. Новенькие никогда не делают ничего подобного через три дня после поступления в школу. Вы не будете наказаны.
Пьер опустил глаза.
– Нет, конечно, это не я, – сказал он.
И добавил:
– Спасибо, месье.
– Вы можете идти.
Пьер убежал, разыскал Даниеля в коридоре и, несмотря на подозрительные взгляды старшеклассников, почувствовал себя счастливым, освобожденным. Конечно же, этот мир был суров, мальчик убеждался в этом каждый миг, но в нем было место отваге и справедливости, если быть сильным. Это был урок, который он не сможет забыть никогда.
Эта осень принесла всевозможные неприятности на алжирские земли. Матье, ехавший в Алжир в компании Роже Бартеса, спрашивал себя, не достиг ли он предела, после которого уже нельзя ничего спасти – ни семью, ни себя самого. Он все же пытался удержать Роже, объяснить ему, что слепое насилие ничего не исправит, а наоборот, но не смог помешать шурину вступить в Организацию секретной армии, штабы которой распространились повсюду с прошлой зимы. Поскольку с тех пор все было уже ясно: референдумом января 1961 года де Голль оправдал свою политику самоопределения. Для арабов оставался только один выход – протест. Даже армия встала на их сторону: в апреле четыре генерала захватили власть в Алжире, арестовали делегатов французского правительства, высказывавших намерение распространить влияние французских сил на территориях, которые правительство не имело права покидать. Генералы Шалль, Зеллер, Салан и Жухо были арестованы. Поговаривали, что начались секретные переговоры между французским правительством и временным правительством Алжирской республики. В прошлом месяце де Голль едва избежал покушения в Нижнем Кламаре. В Алжире нападения все учащались, особенно в городах, и насчитывали уже сотни жертв.
– Мы победим, – говорил Роже. – Я уверен, что Париж пойдет на попятную.
Матье же после смерти сына больше ни во что не верил. А следовать за своим шурином в Алжир этим утром решил только для того, чтобы помочь ему, защитить как можно лучше, как о том просила Марианна, сильно переживавшая за брата. Они оставили Мартина охранять имение, в котором укрылась и Симона, жена Роже. Арабы и в самом деле собирались группами, чтобы защищаться от действий Национальной освободительной армии, желающей истребить как предателей алжирской идеи, так и колонизаторов. Алжир стал пороховой бочкой, в которой уже нельзя было выжить.
Они доехали до возвышенностей Мустафа-Сюперьор на рассвете. Проехав первую заставу, после того как машина Матье была подвергнута обыску, они увидели белый город и море в самом низу, колыхавшееся волнами в немеркнущей синеве лета. По дороге к госпиталю Матье еще раз предпринял попытку переубедить Роже действовать, как того требовала Организация секретной армии. Она все чаще набирала рекрутов из соседних городов, поскольку за алжирцами теперь велось наблюдение.
– Это же безумие. Бессмысленно заставлять невинных расплачиваться, – повторял Матье.
– Я уже говорил тебе, что мы больше не можем выбирать средства. Оставь меня и возвращайся в Матиджу. Я сам справлюсь.
– А если тебя арестуют?
– Не важно. Пусть лучше меня расстреляют, чем я уйду из этих мест. Они предали нас и должны теперь заплатить.
– Нас предали не те, кого ты собираешься подорвать своей бомбой.
– Они все здесь работают на Национальную освободительную армию.
– Но ты также убьешь арабов.
– Это же произойдет не в арабском квартале.
– Они убьют тебя раньше.
– Ни в коем случае. Я знаю Алжир как свои пять пальцев. За улицей Мишлет достаточно подняться по лестнице и добраться до рынка Рандон у подножия Касбаха.
– Ах вот куда ты идешь, – вздохнул Матье.
Поняв, что сболтнул лишнее, Роже не отвечал.
– Припаркуйся там, на набережной, возле адмиралтейства, – просто произнес он. – Мы уедем через Хуссеин-Деи и Биркхадем.
Матье нечего было больше сказать. Он спустился к кромке моря, остановился в тени пальмы, вновь попытался удержать Роже, но тот удалился, не сказав ни слова, к месту доставки своего смертоносного механизма. Матье повернулся к морю, и ноги его дрожали. Он искал тень и медленно, с трудом поплелся к скверику Брессон, где смог присесть на скамью и отдохнуть от одолевавшей его усталости. Матье почувствовал себя немного лучше, оглядел набережную и ниже справа – адмиралтейскую крепость, посмотрел на часовых – моряков в синей униформе, и маленькие парусники, легко покачивавшиеся на волнах. Накатил сильный запах смолы, винных бочек и прилива, и ему стало легче, он вспомнил забытые и потому бесценные ощущения.
Возле Матье в скверике прогуливался маленький ослик с красным седлом, на нем сидел ребенок и держал маму за руку. Здесь царил мир, все еще было спокойно. Синева моря сливалась с синевой неба в союз, который мог бы своим примером вдохновить людей. Но беда была рядом, невидимая, долго остававшаяся под землей: Матье вспоминал о сотой годовщине завоевания в 1930 году, в тот вечер он так же любовался морем с Касбаха, и о чувстве угрозы, которое пришло к нему в тот вечер, незадолго до убийства Батистини. Он вспомнил о пробежавшем тогда слухе: «Французы отмечают сотую годовщину, но второго столетия им не отмечать никогда». Уже тогда все было сказано. Матье знал уже долгое время, но все боялся признать, что однажды придется уехать. И этот день приближался. Покушения и бомбы не помогут. Сегодня значение имела только защита близких. Он не смог защитить Виктора, своего сына, но оставались еще Марианна и Мартин, Роже Бартес, его жена, несколько друзей. Отныне это было главнее всего.
Было, наверно, десять часов, когда в верхнем городе раздался взрыв, всколыхнув утреннюю тишь. Несмотря на большое расстояние, Матье услышал вдалеке крики, затем немного запоздавший звук взрыва, подхваченный сиренами, сигналами клаксона, шумом, спускающимся к морю и поднявшим в небо стаю белых птиц, которые взмыли ввысь и исчезли в глубине неба. Матье с удрученным видом поднялся и направился к машине. Он заметил танки, маневрирующие на пристанях, и уезжающие на восток, в сторону Пуссен-Дея, джипы. Он сел за руль своего автомобиля, подождал, думая о завалах, которые теперь придется преодолеть Роже, если он вернется. Но минуты шли, а его шурин все не появлялся. Матье завел мотор, стал так, чтобы легко было тронуться с места, капотом к морю.
Уже прошло четверть часа с момента взрыва бомбы, а Роже не появлялся. Матье все еще не трогался, когда заметил с правой стороны французских солдат, устанавливающих рогатки, чтобы строить первые заграждения. Подумать только: он, Матье, служил в этой армии, и еще с таким рвением, а сегодня эта же армия представляла для него угрозу! Мир и вправду сходит с ума.
Когда дверца открылась, Матье подпрыгнул от неожиданности. Не говоря ни слова, Роже сел возле него с угрюмым неузнаваемым лицом, весь в поту.
– Прямо на нашем пути на пристани выстроили ограду.
– Подожди немного, – сказал Роже.
Он вытер лицо, руки, пальцы, выбросил носовой платок в окно, глубоко вздохнул, а потом сказал:
– Поехали.
Матье поехал вдоль моря, повернул направо и остановился перед заграждением. К ним приблизились два французских солдата, с автоматами на ремнях, и попросили документы. Казалось, что Матье и Роже, да и сама машина, пахли порохом. Должно быть, это было ложное ощущение.
– Откуда вы прибыли? – спросил сержант.
– С рынка Мейсонньер, – ответил им Роже.
Офицер взглянул на пустые ящики на заднем сиденье машины и приказал:
– Выходите!
Роже вышел из машины, открыл багажник, в котором лежало еще несколько пустых ящиков, затем несколько минут постоял без движения перед офицером, внимательно осматривавшим его своими очень светлыми, почти белыми глазами. Роже не чувствовал страха. Эти проверки не имели никакого смысла. Арабы были не настолько глупы, чтобы перевозить бомбы в машинах. Бомбы собирались уже в самом городе, куда террористы сносили все необходимое пешком.
– Вы можете проезжать, – сказал сержант.
Роже вернулся в машину, и Матье отъехал, как только он захлопнул дверь.
– Поверни направо к Институту Пастера, – сказал Роже. – Не обязательно ехать к Хусейну. Сократим через Эль Маданью.
Так они объехали остальные посты, выехали на дорогу в Буфарик и вскоре, миновав холмы, повернули на большое плато. Тогда Матье повернулся к Роже и едва узнал его. Шурин выглядел так, будто его руки были в крови. Этим утром, видя Матиджу далеко внизу, в ясной зелени оранжерей и виноградников, Матье понял, что уедет отсюда навсегда. Он не поделился этой мыслью с Роже, но для себя уже решил, что этот бой был проигран и что мужчины, выбравшие тактику взрывания бомб, уносящих жизни детей и женщин, погибнут.
Вернувшись из Алжира, Робер, сын Эдмона и Одилии, решил заменить отца и обосноваться в Пюльубьере. Узнав об этом решении, Матильда успокоилась: больше не стоял вопрос о том, что Жаку однажды придется жить в имении Бартелеми. Он сможет продолжить учебу в колледже и наконец окончательно отречется от своего сумасбродного проекта посвятить жизнь работе на земле. Матильда была принципиальна: она бы ни за что не допустила, чтобы ее сын совершил подобную глупость.
Она не могла понять отношения Шарля, не высказывавшего неодобрения по поводу этого желания возвращения к земле: несомненно, это было вызвано любовью к родителям и уважением к их делу, их самоотверженному и упорному труду. Это различие во мнениях было причиной их первой настоящей размолвки, и с тех пор Матильда не выносила Пюльубьер, этот дом семьи Ребер, недавно купленный ими, в котором так хорошо было детям. Для нее подобная жизнь казалась жизнью со взглядом, обращенным в прошлое. Будущее было в другом, она точно знала: на равнинах, в городах, а не в этом плоскогорье, замкнутом в себе самом, несмотря на всю свою красоту. Матильда также радовалась тому, что Пьер был сейчас в Тюле и его ожидало блестящее будущее. Женщина очень рано обнаружила в своем старшем сыне незаурядные способности. Она мечтала о его будущих достижениях, недоступных ей самой прежде всего по причине ее женского положения. Место учителя было уже большим счастьем в этой плоскогорной местности, где традиции еще накладывали сильный отпечаток на обыденную жизнь.
К тому же даже в своей работе Матильда вынуждена была демонстрировать больше положительных качеств, больше проницательности, чем кто бы то ни было. Она не забыла ни одной трудности, подстерегавшей ее по приезде в Аржанта, когда родители учащихся, а также инспектор ставили под сомнение ее компетентность. Она решила тогда принять вызов, и не только ради себя самой, но также ради всех женщин вообще, чтобы однажды с них были сняты все запреты. Разве она не рисковала наравне с мужчинами во время движения Сопротивления? Разве не работала она наравне с ними, а иногда и больше, несмотря на необходимость воспитывать двух детей, тетради, нуждающиеся в проверке, глажку, болезни, постоянное внимание к каждому из ее учеников? Нет, Матильда ни о чем не жалела. Она отлично справлялась с обязанностями. Но она решила действовать активно, чтобы в один прекрасный день женщины могли питать те же надежды, что и мужчины, чтобы им ни в чем не отказывали.
Но в октябре 1961 года ее основной заботой было совсем не это – она уже две недели точно знала, что беременна. Матильда еще ничего не сказала Шарлю, проводила ночи в раздумьях, не веря в то, что казалось невероятным в сорок один год. Она иногда сердилась на мужа за его беззаботность, за его увлеченность политическими проектами, за его личные, никого не интересующие заботы, и думала, как он может воспринять неожиданную новость. Следовало ли ему так рано раскрывать ее секрет? Не должна ли она была действовать по собственному разумению, так, как она решила в ходе череды дней молчания: она не оставит ребенка. Она не могла себе этого позволить. Матильда больше не чувствовала в себе на это сил. Она знала, что новая беременность превратит ее в изношенную до срока женщину, предающуюся заботам деревенских тетушек, никогда не живущих для себя, но исключительно для мужей, детей, домашней работы. Ей казалось, что она не вынесет взглядов, намеков, насмешек, может быть, из уст тех, для кого любовь и удовольствие – преступление, навсегда остающееся грехом. Она будто слышала их голоса: школьная учительница, беременная в сорок один год: ну и пример! Тогда Матильда решила не допустить этого ни за что.
Ее честность и природная открытость побудили ее довериться наконец Шарлю. Матильда не сомневалась, что он поймет ее. Итак, она воспользовалась ранним утром в среду, когда Жак был с друзьями в пригороде, и пришла к мужу в класс, где тот проверял тетради. Шарль поднял голову и, взглянув на жену, понял, что что-то было не так. Он встал, подошел к ней, обнял за плечи и спросил:
– Что произошло?
Матильда вдруг засомневалась, боясь утратить свободу действий из-за необходимости в очередной раз оправдываться, но и это она уже успела обдумать.
– Я жду ребенка, – сказала она.
И тут же добавила, будто боясь, что потом не найдет сил выразить свою решимость:
– Я не буду его рожать.
Шарль распахнул глаза, переменился в лице, затем, чтобы не выдать своего смущения – как подумалось ей, – обнял ее.
– Ты уверена в этом? – прошептал он ей на ухо.
– Абсолютно уверена.
Матильда немного пожалела, что говорила таким равнодушным голосом с металлическим звоном, жесткость которого поразила их обоих. Шарль тихонько отстранился от нее, изобразил улыбку и сказал:
– Это может быть девочка.
– Нет, – сказала она, – ни мальчик ни девочка.
– Подожди, нельзя так говорить.
– Почему?
Он обеспокоенно пробормотал:
– Мы бы могли…
– Я бы не могла, – оборвала она его.
Он был поражен. Больше не глядя на жену, он отвел ее в квартиру, будто обсуждать это в школьном классе считал святотатством. Во всяком случае, ей так показалось, что привело ее только в большее оцепенение. Шарль усадил жену в кухне, лицом к себе, снова улыбнулся и мягко сказал:
– Не бойся, я буду рядом, и мы не настолько стары, чтобы отказываться от нежданного подарка.
– Я не хочу, – сказала она.
– Но почему?
– Потому что. Это касается только меня.
– Меня тоже немного касается, ты так не думаешь?
– Именно поэтому я и говорю с тобой. Но я могла принять решение и сама, и ты бы ничего не узнал.
Шарль глядел на нее, будто впервые видел.
– Но что ты такое говоришь? – пробормотал он.
– Ты же прекрасно слышал.
Он вздохнул, немного подумал и вновь заговорил:
– Ты привыкнешь, вот увидишь.
– Нет.
Шарль вновь задумался, сдвинул брови, нахмурил лоб и добавил:
– Этого нельзя делать.
– Почему?
– Потому что, потому что… ты знаешь почему.
– Нет, не понимаю.
– Потому что это нехорошо.
– Нехорошо для кого? И кто решает, хорошо это или нет?
Он пробормотал смущенно:
– Ты понимаешь, что я хочу сказать.
– Нет. Совсем не понимаю.
Матильда еще раз осознала, что в их воспитании – огромная разница. Она была воспитана в женских нерелигиозных школах, он же – сын крестьян, получивший образование в рамках определенной религии, как и все, кто жил в непосредственной близости от земли. Матильда не была верующей, но у ее мужа образование не совсем искоренило идеи, поведение, мораль, свойственные Алоизе и Франсуа, его родителям. Во всяком случае, не до конца искоренило. Матильда уже не раз в этом не без удивления убеждалась.
– И что ты будешь делать? – спросил Шарль тоном, который совершенно не пришелся ей по душе.
– Сделаю то, что понадобится.
Он вздохнул, пробормотал:
– Подумай еще.
– Я уже почти месяц думаю, каждый день и каждую ночь.
– Это может быть опасно.
– Это я тоже знаю.
Он поднял руку, хотел погладить ее по голове, но она отстранилась, изобразив подобие улыбки.
– Нет, – сказала Матильда. – Прошу тебя.
Он вышел, направился в класс, а к ней вновь вернулось ощущение одиночества, захлестывавшее ее уже в течение нескольких недель. Ей мог помочь только один человек – мать, которая однажды и сама столкнулась с подобной проблемой. Она должна была знать, к кому можно обратиться, что нужно сделать. Матильда решила поехать навестить ее, как только позволит случай, в воскресенье, например, потому что Пьер еще не вернется из Тюля. С этого момента ей казалось, что она уже справилась с самой большой сложностью, но она и понятия тогда не имела, сколько еще важных решений ей предстоит принять в жизни.