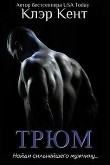Текст книги "Унесенные войной"
Автор книги: Кристиан Синьол
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
К слову, Элиза приехала в конце месяца весьма обеспокоенная. По дороге от вокзала до замка она ни о чем не говорила, но как только они прибыли, не стала скрывать решение, которое была вынуждена принять.
– Придется продать замок, – объявила она.
Люси не знала, что и сказать, и Элиза добавила:
– Мне очень жаль, но я не могу поступить по-другому. Мне нужны деньги, и очень быстро.
– Замок принадлежит тебе, доченька, и ты вправе распоряжаться им.
– Да, но я знаю, как много он стал значить для тебя в последнее время. Мне так жаль.
Паула возмутилась: ей тоже было очень хорошо в этих полюбившихся стенах.
– Ты, может быть, однажды поблагодаришь меня, – сказала ей Элиза. – В любом случае, у меня нет выбора. К тому же мне надо быстро возвращаться, но я хотела сообщить тебе новость с глазу на глаз.
Люси поняла тогда, что дочь приехала к ней почерпнуть необходимые силы для боя, который вряд ли будет легким.
– Не переживай, – успокаивала она дочь. – Я уверена, тебе все удастся.
Элиза уехала через два дня, попросив Люси заняться продажей. Необходимо было действовать так быстро, как только возможно, потому что велика была угроза все потерять. Поэтому на следующий день после отъезда дочери Люси направилась к нотариусу в Борт, и он нисколько не удивился. Он наверняка был в курсе финансовых проблем Элизы. Нотариус дал понять Люси, что найти покупателя будет несложно. Теперь, когда политическая ситуация стабилизировалась, дела у всех пошли на лад.
Вернувшись в замок, Люси предупредила Жоржа и Ноэми Жоншер и пообещала им сделать все, что в ее силах, чтобы новые владельцы оставили их у себя на службе. Затем она попыталась прожить как можно лучше последние дни, отделявшие ее от окончательного разрыва с важной частью жизни. Она больше никогда не сможет спать в комнате Норбера. Никогда больше он не привидится ей, склоненный над ней в ночной полутьме. Ей казалось, что Норбер умирал во второй раз. Теперь Люси целыми днями бродила по комнатам первого этажа, по коридорам, спальням, трогала мебель, предметы, картины, а затем надолго скрывалась в комнате Норбера, чтобы предаваться продолжительным видениям, забывая все, что ее заботило и беспокоило. «Я будто готовлю себе запасы», – думала она про себя. И так оно и было: она намеревалась запечатлеть в памяти цвета и мельчайшие детали этого заколдованного места, которое скоро потеряет навсегда.
В последние дни Люси подолгу гуляла в парке, усаживалась перед умывальником, где когда-то стирала белье, на крыльце, видевшем столько празднеств, перед ее глазами вновь проносились восхитительные туалеты дам, глубоко поражавшие ее, слышался смех гостей, большинство из которых сегодня были уже мертвы. Это прошлое оставалось жить только в ее воспоминаниях, но долго ли они продержатся? Она и не думала, что настолько привязана к этому замку, в который прибыла в возрасте шестнадцати лет. Люси так горевала, что покинула замок на два дня раньше.
Это произошло однажды утром в конце августа. Она окинула взором парк, где листья уже начали приобретать золотистый цвет конца лета. Люси повернулась, мысленно прошлась по комнате, в которой ей вновь было шестнадцать, где Норбер часто держал ее в своих объятиях. Она решилась выйти, только когда все впереди заволокло туманом. В слезах тонул и уходил навсегда в прошлое ее волшебный мир. Она едва набралась духу в последний раз пройтись по парку, залитому горячими лучами солнца.
Подойдя к машине, Люси не могла сдвинуться с места, не в силах оторвать взгляд от комнаты Норбера. Ей казалось, что чья-то рука отодвигает занавеску. Ей захотелось еще раз туда подняться, но ноги едва держали ее. Женщина открыла дверцу машины, села возле Паулы и не решалась повернуть ключ зажигания.
– Мы поедем или корни тут будем пускать?! – нетерпеливо воскликнула Паула.
Голос внучки наконец пробудил Люси от грез. Маленькая ладошка Паулы легла на ее руку, и Люси ощутила, что рядом с ней дорогое существо. Она не имела права жить, обращаясь взглядом только в прошлое, – ее дочь и внучка нуждались в ней. Люси не торопясь завела двигатель, проехала по аллее, не оборачиваясь, выехала на дорогу, наконец прибавила скорость, уверенная, что сможет прожить остаток лет счастливо только при условии, что будет изо всех сил помогать этим существам, которые сегодня были рядом с ней.
В Аб Дая сбор виноград проходил с большим трудом, поскольку Матье, охваченный подозрениями, прогнал всех феллахов. Поступая так, он знал, что, возможно, толкает их на восстание, но что ему еще оставалось? Достаточно было одного незамеченного Национальным освободительным фронтом ненадежного элемента, чтобы подвергнуть риску всю семью. Большинство арабов поступали так же, даже если жили одни, в эти суровые времена они предпочитали сами работать на земле. Они также помогали друг другу в самой сложной работе, еще больше отстраняясь от общества, не выпускали оружия из рук, жили под угрозой расправы со стороны Национальной освободительной армии, численность которой росла даже в самых отдаленных районах.
В Матидже уже спала эйфория от прихода к власти генерала де Голля. Хоть он и назначил премьер-министром Мишеля Дебре, партизана французского Алжира, но при этом удалил Сустеля с поста министра внутренних дел. Некоторые благосклонные к генералу парижские газеты начали поговаривать о «самоопределении». Что это могло значить? Куда направлял де Голль свою политику? Роже Бартес перестал ему доверять, но Матье еще верил в действия и в личность генерала. Он все время повторял: никогда самый пламенный боец французской армии не оставит Алжир.
А тем временем надо было обрабатывать землю, жать, собирать виноград. К счастью, Виктор и Мартин работали сейчас как взрослые мужчины. Матье очень гордился ими. Мартин долго оставался хрупким, проводил больше времени рядом с матерью, чем с отцом, но сейчас он догнал брата: жизнь научила его выносливости. Теперь, как и Виктор, Мартин носил оружие и не меньше брата работал на земле. Они были так называемыми разнояйцевыми близнецами. У Виктора глаза были черными, а у Мартина – зелеными. Мартин был немного ниже, но всегда доминировал в отношениях. Но они всегда ладили: Матье никогда не видел, чтобы они дрались, даже в переходном возрасте, когда мальчики превращаются в мужчин. Эти мальчики вообще приносили ему только радость.
Как можно было управиться со сбором винограда вдесятером, когда в предыдущие годы они с феллахами едва справлялись? А ведь тогда их было тридцать. Единственным выходом было по ночам выдавливать в пещерах виноградный сок, при свете ламп. Матье и сыновья отдыхали по очереди, почти не оставляя времени на сон. Сложнее всего было переправлять бадьи с виноградом в дом по вечерам.
В частности, в последний вечер, когда Роже и Матье принялись мять виноград, Мартин и Виктор пригнали грузовичок, чтобы последний раз съездить к виноградникам. Наступала душная жаркая ночь, насыщенная запахом сусла, зажигающая над Атласом красивое красное зарево. За рулем сидел Виктор. Мартин, убаюканный, от усталости заснул рядом с ним, склонив голову. Виктор оставил грузовик у въезда в виноградник, затем братья вышли из машины без ружей: им нужны были руки, чтобы донести чан до машины. Это было не так уж и просто. Нужно было действовать в два этапа: сначала поднять бадью одним махом, затем, прижимая ее к краю кузова, перевести дух, вновь напрячь мускулы, чтоб еще поднять ее, но не опрокинуть.
Виктор оставил фары включенными. Ни у одного из братьев не было никаких опасений. Они привыкли к жизни в напряженной обстановке и в тот вечер думали только о том, как бы быстрее отвезти домой последнюю бадью и отправиться ужинать и отдыхать. Но последняя бадья находилась как раз дальше всего от грузовика. Виктор зашагал по тропинке, Мартин позади него вытирал пот с лица. Когда в кипарисах блеснул приклад ружья, он успел только упасть на землю. Виктор сделал то же. Мартин позвал его, но Виктор не отвечал. Мартин подкатился к машине, добрался до ружья и выстрелил в направлении кипарисов. Звук выстрела многоголосым эхом прозвучал над Матиджей, вызвав лай шакалов у стен Атласа, вдоль дороги в Креа. Затем наступила тишина, нарушаемая только шепотом кипарисовых ветвей.
– Виктор! – закричал Мартин.
Он подбежал к брату, лежавшему лицом к земле, повернул его и издал стон: Виктор был весь в крови, от живота до шеи. Он больше не дышал. Мартин перезарядил ружье и с криком побежал к кипарисам. Он стрелял, перезаряжал, вновь стрелял, охваченный гневом и болью, затем медленно вернулся к брату и обнял его, будто желая защитить.
В этом положении его застали Матье и Роже, прибежавшие с оружием в руках. Матье сначала подумал, что Виктор просто ранен, но когда он понял, что его сын ушел из жизни, обезумел. Роже пришлось крепко держать его. Но Матье, чьи силы удесятерила боль утраты, смог вырваться.
– Помоги мне! – закричал Роже Мартину. – Возьми ружье!
После полуминутной борьбы Матье вдруг опустился на землю и обхватил голову руками.
– Быстрее! – закричал Роже. – Они могут вернуться.
Они отнесли тело Виктора к машине, положили его между бадьями, и Мартин сел за руль, а Роже и Матье сели рядом. Над молчаливой Матиджей сомкнулась ночь. Через десять минут ее пронзили крики Марианны, и у Матье даже не было сил утешать ее. Он весь был охвачен болью, сидя на ступенях, с согнутой спиной, и не мог думать ни о чем, кроме окровавленного тела своего ребенка.
III
КРАСНЫЕ ВЕСНЫ
12
Летом 1961 года высокогорье раскрасилось яркими цветами. Шарль, Матильда и их сыновья приехали сюда на два месяца каникул. Но в эти каникулы им не удалось побездельничать: Шарль помогал брату Эдмону в его многочисленных делах и приобщал к этому детей: Пьеру уже исполнилось пятнадцать, а Жак в свои двенадцать не заставлял себя упрашивать заносить сено и участвовать в молотьбе. Ему нравились эти занятия, он с удовольствием работал в поле и надеялся в будущем осесть в Пюльубьере на всю жизнь.
– Вот если бы мой сын был похож на твоего! – с сожалением восклицал Эдмон.
– Он скоро вернется, твой сын, – отвечал ему Шарль. – Я уверен, в Алжире это все скоро закончится.
Однако приходящие оттуда новости были тревожны: засады и покушения в городах и селах не прекращались. Некоторое время даже поговаривали, что бомбы были подложены арабами, противящимися самоопределению, принятому решением референдума в январе прошлого года.
– Даже если он вернется, не думаю, что он останется жить с нами, – говорил Эдмон.
– Я останусь, – говорил Жак, ловя на себе скептический взгляд отца, знавшего, какие трудности предстоят тем, кто решил связать свою жизнь с работой на земле.
Несмотря на новые франки и стабильность валюты, в действительности в южных, центральных и западных деревнях было все труднее следовать условиям, диктуемым современным Общим рынком. И если крупные сельские хозяйства соответствовали этим условиям с легкостью, удваивая количество удобрений и достигая рекордных урожаев, то два миллиона усадеб площадью меньше чем пятьдесят гектаров едва могли прокормить тех, кто остался им предан. Общества земельного обустройства и сельского учредительства были основаны в департаментах, чтобы внедрить право первой руки (преимущественное право покупки) на продажу земель с целью их приобретения и последующего распределения юным фермерам. Но эта задача в нуждающихся регионах была настолько невыполнимой, что ситуация не продвигалась и не изменялась в лучшую сторону. С полученных таким способом земель сложно было получать прибыль, и мелкие фермеры все больше обрастали долгами.
– Лучше учись профессии, которая прокормит тебя в городе, – говорил Эдмон Жаку, ласково теребя его выгоревшую на солнце шевелюру.
– Нет, – возражал ребенок, – я хочу жить здесь, косить сено, жать пшеницу. Не хочу я жить в городе.
Шарль был очень осторожен. Он видел, с каким трудом перебиваются Эдмон и Одилия здесь, в Пюльубьере, и знал, что этот мир маленьких угодий был обречен, но он также не забывал, что и отец, и мать работали на земле всю свою жизнь, а следовательно, было в этих неблагодарных землях нечто святое, что нельзя было оставить.
– Я больше не хочу ходить в школу. Хочу остаться здесь, в Пюльубьере, и быть фермером, – твердил Жак. – Мне не нравится школа, и мне не нравится жить в городе.
Пьеру же так легко давались занятия, что Шарль и Матильда не переставая удивлялись бунтарскому настрою второго сына. Матильда считала, что Жак хотел стать фермером не потому, что был чем-то недоволен. В Тюле и других городах было немало специальных училищ, где он мог бы выучиться достойному ремеслу. Шарль и Матильда даже спорили об этом.
– Если бы мы не купили этот дом здесь, – вздыхала она иногда, – ребенок не забивал бы себе голову смехотворными мыслями.
– Нет ничего постыдного в том, чтобы быть крестьянином, – отвечал задетый за живое Шарль.
– Я не это имела в виду. Ты прекрасно знаешь.
– А что?
– Я хотела сказать, что если у нас есть возможность учиться чему-нибудь, не стоит ее упускать. Вспомни сам, как сильно твой отец хотел заняться обучением, но был вынужден оставаться на ферме с двенадцати лет.
– Это вопрос темперамента. Этому ребенку не нравится город. Он счастлив только в Пюльубьере. Разве не стоит считаться с его мнением?
– В двенадцать лет что можно знать о жизни? И к тому же земля не твоя, а твоего брата. А у него есть сын, который все унаследует.
Шарль вздыхал и не настаивал. Он подозревал, что Матильда просто боялась, что дети слишком быстро покинут семейный круг. Пьер ведь и вправду скоро должен был начать учебу в лицее Эдмон-Перриер в Тюле, в сентябре он поступит во второй класс лицея, потому что его обучение в колледже Аржанта с третьего по шестой класс уже подходило к концу. Жак поступал в тот же колледж, что и брат, по меньшей мере на год или два, а может, и до получения аттестата. А там будет видно. Вопрос о техникуме или сельскохозяйственной специализированной школе пока так остро не стоял.
– Еще рано об этом думать, – говорила Матильда. – Через два-три года он наверняка изменит мнение.
Все каникулы прошли в оживленных обсуждениях, споры продолжались до самого отъезда. Они покинули Пюльубьер одним сентябрьским утром, когда небо было необычайно глубоким, а звуки необыкновенно звонкими. Казалось, что по лесу, как по пещере с зелеными сводами, гуляло эхо. Глухое эхо гуляло по долине и терялось в степи, меняющей цвет. Плоскогорье, медленно покачиваясь и вздыхая, встречало осень.
Время приближалось к полудню. Они собирались садиться за последний во время этих каникул обед, когда услышали в верхней части деревни громкие крики. Они узнали голос Одилии, вышли из дому и увидели ее, быстро приближающуюся к ним по тропе.
– Эдмон! Быстрее! Быстрее!
– Что произошло? – спросил Шарль.
– Туда! Туда!
Она была не в состоянии что-либо пояснить. Женщина рукой показывала на лес, на то место, где виднелся спуск к долине. Шарль хотел остановить ее и попросить объяснений, но она словно потеряла рассудок и все время повторяла одно:
– Эдмон! Там! Там!
Шарль и Матильда помчались за ней к тому месту, куда она показала, приказав детям вернуться в дом. Но они не послушались и бежали за ними на расстоянии, притягиваемые страхом, охватившим всю семью, когда Одилия появилась на дороге. Им понадобилось пять минут, чтобы добежать до гребня, с которого открывался вид на необработанные земли, на которых Эдмон, как он сообщил неделю назад Шарлю, собирался производить глубокую вспашку. Первое, что увидел Шарль – внизу, возле леса, – колеса перевернутого трактора. Он сразу все понял и повернулся к Матильде:
– Забери детей! Не надо, чтобы они приближались.
Он поспешил к трактору, под которым заметил тело брата. Шарлю стало понятно, что произошло: целина была такой бугристой, что трос не выдержал, и трактор перевернулся, раздавив водителя, не успевшего выскочить. Шарль надеялся, что Эдмон был только ранен. Но когда он склонился над братом, то понял, что жизнь уже покинула его тело. Шарль поднялся со слезами на глазах и крикнул Матильде и детям, приближавшимся, как завороженные, несмотря на его советы:
– Не подходи! Уведи их!
Матильда будто очнулась от страшного сна, взяла детей за руки и отвела их к перевалу. Одилия же склонила колени перед телом мужа, держа его голову в своих руках. Шарль хотел помочь ей подняться и прошептал:
– Идем! Мы больше ничем не можем помочь.
Но она оттолкнула его и легла возле Эдмона, чья грудь скрывалась под трактором. Струйка крови текла у него изо рта. Его глаза смотрели в небо, но больше не могли моргать. Их напряженность и гримаса страдания на губах говорили об ужасе последних пережитых мгновений.
– Едь на машине в Сен-Винсен! – закричал Шарль Матильде. – Скажи мэру, чтобы приезжал с мужчинами и трактором. Я останусь тут.
Матильда немного замешкалась, а затем уехала, забрав с собой сыновей. У Шарля сразу отлегло от сердца. Он сел возле Одилии, взял ее за руку, попытался увести.
– Идем, – говорил он, – давай уйдем.
Ему удалось немного ее отстранить, и она, дрожа, прижалась к нему. С того места, где они были сейчас, не было видно тела Эдмона, только трактор. Шарль вспоминал, как брат ходил в школу по дороге в Сен-Винсен, залезал на деревья в поисках гнезд, дрался с встречаемыми им по дороге хулиганами. Он также вспоминал Эдмона в вечернюю пору, за семейным ужином, когда тот сидел лицом к нему, обеспокоенный своими плохими школьными отметками, и думал только о том, как будет в будущем работать бок о бок с отцом на своем родном плоскогорье. И это плоскогорье убило его. Шарль успел еще подумать, что у него не осталось больше ни отца, ни матери, ни брата. У него была только Луиза, его уехавшая в Африку сестра, от которой давно не было вестей. Несмотря на то что Одилия была рядом, Шарль вдруг ощутил невероятное одиночество, захотел уйти, но она крепко держалась за него, и ему не удавалось отстраниться. Тогда он решился ждать и вдруг почувствовал себя чужаком среди красот плоскогорья, начинавших уже покрываться медью и золотом, на этом южном ветру, веявшим над целиной теплым дыханием, приносящим запах каштанов и опавшей листвы.
В августе Люси узнала печальную новость о возведении берлинской стены. С тех пор ей стало казаться, что барьер, отделяющий ее от сына, стал непреодолимым. Ганс был навсегда потерян для нее. Она думала именно об этом, глядя в иллюминатор пассажирского лайнера «Эйр Франс» на океан, пересекаемый ею впервые, по приглашению Элизы, жившей теперь в Нью-Йорке.
За три года ее дочь пережила цепь счастливых событий, ее дела процветали. А все благодаря ее мужу, Джону В. Бредли, с которым Элиза познакомилась во время своего первого приезда в США и который с тех пор стал ее компаньоном. Элиза быстро перебралась из своего магазинчика на Восьмой авеню в великолепный и огромный бутик Джона Бредли на Пятой авеню, между Центральным парком и Рокфеллер-центром. Люси взяла на себя управление бутиком в Париже и присматривала за Паулой, поскольку Элизе приходилось много путешествовать. Она сама поставляла в бутики редкую европейскую и американскую мебель. Люси и Джон Бредли продавали низенькие столики, письменные столы, серванты, кресла из Италии, Голландии, Франции, Германии, и не только богатым коллекционерам, но также дизайнерам, с которыми Джон Бредли был в партнерских отношениях.
Люси и сама стала специалистом по антикварной мебели, особенно увлекаясь французской мебелью XIX столетия в стиле ампир, как та, что находилась в замке Буассьер и от которой у нее остались волнующие воспоминания. Однако же Люси раз и навсегда решила обратиться мыслями в будущее, забыть про свой возраст – шестьдесят шесть лет – и наслаждаться всем тем, что благодаря дочери было теперь доступно ей. Например, Нью-Йорком или Лондоном, куда она дважды ездила за прошедшие несколько лет.
Она часто думала о своей судьбе – судьбе крестьянки, уроженицы Праделя, умудрившейся попутешествовать по всему миру; побывать в Германии, Швеции, Англии, а теперь еще и в Штатах. Люси также думала о деньгах, заработанных ею с тех пор, как Элиза доверила ей магазин в Париже, обо всей роскоши вокруг нее, о людях из мира, всегда казавшегося ей запретным, и иногда у нее начинала немного кружиться голова и ей было жаль, что не хватает времени наведаться в Пюльубьер.
Ее жизнь, раньше, казалось, подходившая к концу, сейчас вела ее к горизонтам невероятной величины и красоты, как этим утром, когда Люси смотрела на океан сквозь облака, а самолет уже начинал снижаться. Она рассматривала небоскребы Нью-Йорка, огромные размеры города по обе стороны Манхэттена, над Ист-Ривер, где открывалась огромная бухта невероятно чистого искрящегося голубого цвета, и пристегнула ремень, как рекомендовала стюардесса, молодая брюнетка, улыбающаяся и элегантная в своем шелковом костюме.
Меньше чем через час Люси уже ехала в такси в компании дочери по направлению к Манхэттену, где находились и бутик, и квартира Элизы, магазин – на первом этаже, а квартира – на двадцать пятом, и из окна открывался вид на Квинс, Бруклин и бухту, испещренную большими белыми кораблями. Люси никогда не видела подобной красоты. Она думала, что спит, спрашивала себя, не разница ли во времени погрузила ее в эти мысли наяву, слушала, как Элиза говорит о проблемах поставки и возрастающем спросе на французскую и итальянскую мебель по эту сторону Атлантики, о Джоне Бредли, ожидающем их внизу.
– Ты, наверно, хотела бы немного отдохнуть? – спросила Элиза.
– Если мне удастся вздремнуть часок, думаю, я буду в полном порядке.
– Тогда поднимайся в свою комнату.
Это были великолепные апартаменты, меблированные с большим вкусом. Люси отметила комод из Прамы с палисандровой фанеровкой розового и фиолетового дерева, книжный шкаф из вишневого дерева, состоящий из двух частей, и в спальне, от одного до другого конца, тосканскую кровать-лодку, два прикроватных столика из Ломбардии с мраморными крышками. Женщина не решалась подходить к окнам, казавшимся ей уходящими в бесконечную пустоту, которые Элиза не разрешила ей открывать.
«Ну и хорошо, – думала Люси. – А то голова закружится».
Она легла, проспала два часа, подождала, пока дочь придет за ней, и сильно сожалела, что не взяла с собой Паулу: девочка провела в Нью-Йорке два месяца каникул, но сейчас было время школьных занятий, и она осталась под присмотром соседки по этажу, мадам Лессейн, которая также подменяла Люси в магазине.
Немного позже Люси с удовольствием встретилась с Джоном Бредли: это был жизнерадостный человек, огромный, как медведь, бородатый, всегда в безупречном кашемировом костюме с шелковыми карманами цвета бронзы. Он был старше Элизы примерно на пять лет, беспрестанно вращал своими круглыми глазами, и создавалось впечатление, что он хочет проглотить своего собеседника. Люси его очень любила: она нашла в нем неповторимую жизнерадостность и пылкую щедрость, и ее переполняло счастье от решения Элизы связать жизнь с таким мужчиной.
Джон провел для Люси экскурсию в гигантском магазине площадью более чем двести квадратных метров, представил ей двух продавщиц, дизайнера, приехавшего искать французскую мебель начала века, и другого, нуждавшегося в шведских комодах. И Люси поняла, что здесь масштабы намного больше, чем в Париже.
Элиза продала два магазина на улице Суффрен и в пригороде Сен-Мартен, чтобы купить другой, выгоднее расположенный, – в квартале, который понемногу стал кварталом антикваров и тянулся от Сены до бульвара Сен-Жермен, через улицу Сен-Пьер и улицу Бонапарт. Элиза также купила склад неподалеку от этого места, на улице Мазаре, но все же, несмотря на прибыльность бизнеса, этот магазин приносил смехотворный доход по сравнению с получаемым на Пятой авеню в Нью-Йорке. Прибыв сюда, Люси начала лучше понимать, почему дочь, приехав в Америку, стала зарабатывать столько денег и так радовалась отношениям с Джоном Бредли.
Вечером они отправились ужинать во французский ресторан на Бродвее, вновь повстречались там с клиентами из западной части города и говорили весь вечер исключительно о редкостной мебели.
Весь следующий день Элиза посвятила общению с матерью. Они посетили деревеньку Гринвич, где поужинали в маленьком ресторанчике из красного кирпича. Там, наедине, они наконец погрузились ненадолго в доверительную атмосферу, подобную той, которая царила на авеню Суффрен, в то время когда дела позволяли им больше общаться, узнавать и доверять друг другу.
– Я не переставая думаю об этой стене в Берлине, – рассказывала Люси. – Мне кажется, что я больше никогда не увижу Ганса. До августа прошлого года у меня еще оставалась слабая надежда, но сегодня, знаешь, я уже уверена, что потеряла его навсегда.
– Я надеялась, что это путешествие в Нью-Йорк поможет тебе забыть твое горе, – вздыхала Элиза.
– Я тоже. Но вижу, что не помогает. А еще мне здесь очень не хватает Паулы. Знаешь, наверно, я не смогу остаться здесь надолго.
И, увидев разочарование на лице Элизы, добавила:
– Не стоит упрекать меня, это место слишком велико, я не привыкла к таким размерам.
– Да, – произнесла Элиза. – Я понимаю.
И тут же, радостно улыбаясь, добавила:
– Знаешь, что я сделаю? Я выкуплю замок Буассьер. Я слышала, что новые владельцы хотят продать его.
– О, не нужно, – уверяла ее Люси. – Он того совсем не стоит.
– Да почему же, вспомни, как тебе там было хорошо.
– Нет, правда, не стоит, прошу тебя.
– Почему?
– Потому что я решила смотреть вперед, забыть о прошлом. Это единственный способ наслаждаться жизнью, понимаешь?
– Ты же была счастлива там.
– Я так думала поначалу. Но если бы я там осталась, то не дожила бы до сегодняшнего дня.
– Что ты такое говоришь?
– Это правда. Верь мне. Продав замок, ты вернула меня к жизни.
Они замолчали, глубоко погрузившись в свои мысли. Затем заговорили о том, что увлекало их обеих: о редкостной мебели. После Италии коллекционеры, казалось, заинтересовались Швецией и Германией. Через несколько дней Элиза с Джоном Бредли должна была уезжать в Стокгольм.
– Надо бы поторопиться, – сказала она. – Я еще столько всего хочу тебе показать.
Она отвезла Люси в Бруклин, к старому мосту 1883 года, и они увидели величественную Статую Свободы. Вечером мать и дочь были уже без сил. В квартире на двадцать пятом этаже Элиза без конца звонила, чтобы наверстать упущенное время.
– Завтра я погуляю одна, – сказала Люси. – И улечу ближайшим самолетом.
– Ты точно хочешь этого? Ты хорошо подумала?
– Я уверена. Понимаешь, тут и вправду все слишком большое.
– Да, понимаю, – отвечала Элиза.
У Люси было сейчас только одно желание – лечь в постель и уснуть. Что она и сделала, поглядев немного в окно, не слишком, правда, приближаясь к нему, на миллионы огней, зажженных в гигантском городе, где ей казалось, несмотря на высоту, что она может различить биение сердца.
За тысячу километров оттуда Пьер, сын Матильды и Шарля, уже третью ночь проводил в Тюле, в лицее Эдмон-Перриер, и никак не мог заснуть из-за сильного запаха воска в спальне для шестидесяти мальчиков, как и он, прибывших из соседних деревень. Он впервые находился вдали от семьи и пребывал в сильном волнении, несмотря на свои пятнадцать лет, с того момента, как отец и мать оставили его во дворе, а сами вернулись в Аржента.
Пьер вспоминал о двух последних днях, проведенных в Пюльубьере, о смерти дяди Эдмона, о его похоронах на Сен-Винсене, о горе его жены, а также об этих двух месяцах, прожитых среди бескрайних просторов полей и лесов. Больше всего по приезде в лицей, расположенный на холмах Тюля, мальчика поразили в ранний полдень в прошлое воскресенье стены забора, асфальт вокруг здания школы, строгие правила, которые организовывали жизнь школьников, ничего не оставляя на волю случая. Беспощадный звонок отсчитывал часы, отмечал приход и уход детей. Надзиратели не отходили от них ни в столовой, ни в спальне. И Пьер не переставая вспоминал о своей утраченной свободе во время каникул, о своей жизни в Аржента, о прогулках по набережным Дордони, купаниях, побегах в лодке к островам по нижнему течению реки, в прохладной тени ольхи и серебряных ив.
Как далеко это все теперь! Он только три дня был здесь на обучении, а ему казалось, что прошел уже месяц. Как он протянет еще десять дней, отделяющих его от разрешения выйти из этих стен? Может быть, погрузившись в чтение, потому что часы учебы длились бесконечно – одно-два занятия в течение дня, еще два дольше чем с пяти до семи вечера, и еще одно с без пятнадцати восемь до без пятнадцати девять.
Способности позволяли Пьеру быстро делать домашние задания, и затем его мысли уносились далеко, возвращались в Аржента, к родителям, к брату, которому повезло, что он все еще живет там и, может быть, даже никогда не уедет.
За три дня Пьер уже познакомился со всеми преподавателями. Больше всего ему пришелся по душе преподаватель французского, господин Марсийак, низкорослый жизнерадостный мужчина, а также преподаватель истории, господин Портефе, и эти двое, в отличие от остальных, больше думали о преподаваемых ими предметах, чем о дисциплине. На переменах, с половины первого до половины второго и с четырех до пяти часов, Пьер понял, что значит жестокость учеников выпускного класса, принуждавших учеников младших классов оставаться в коридорах школы, чтобы те не мешали их футбольным матчам, занимавшим весь двор, но самое главное – он встретил Даниеля, учившегося, как и он, во втором лицейском классе и приехавшего из Монтсо-на-Дордони, деревеньки, лежащей в нескольких километрах от Аржанта. Между мальчиками с первой секунды завязалась дружба, помогавшая обоим адаптироваться к новой жизни, позволявшая делиться знаниями и воспоминаниями, выручать друг друга в несчастье, поскольку насмешки сыпались часто, как на переменах, так и в столовой, и доставались от старших младшим ученикам, более слабым и занимающим их территорию.
Даниель был сыном крестьянина и, следовательно, получал стипендию. Раньше он учился в колледже в Болье до третьего класса и, как Пьер, стал учеником в Тюле до получения степени бакалавра, как велел закон, и затем желал поступить в университет, получить доступ к высшим знаниям, к другой жизни. Но как раз в тот вечер, когда надсмотрщики уже погасили огни, Пьер задумался, а не слишком ли дорого он платил за это. И его особенно беспокоило, что эта новая жизнь станет очень отличаться от прошлой, приносившей ему столько радости. Ах! Эти беззаботные годы в колледже Аржанта, эти уроки и эти домашние задания, сделанные на скорую руку, эта свобода лугов вдоль Дордони, эти каникулы в лесах плоскогорья! Как это все было далеко от него сегодня! Происходило ли это с ним на самом деле?