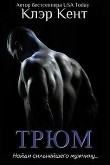Текст книги "Унесенные войной"
Автор книги: Кристиан Синьол
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)
Пьер взял Едвигу за плечи и прижал к себе. Девушка не смеялась, она была очень бледна. У нее был приступ тошноты, ее стошнило, и Пьеру показалось, что она теряет сознание. Он прислонил ее к стене, поднялся до лестничной площадки, позвонил в дверь, но никто не открыл. Тогда он позвонил в дверь напротив, и им открыла элегантного вида пожилая дама.
– Моя подруга ранена, – сказал ей Пьер.
– Так приведите ее сюда, молодой человек, – ответила дама.
Он торопливо спустился и отнес Едвигу на второй этаж.
– Ах, молодость, молодость! – произнесла дама, наливая спирт в стакан.
Затем она протянула стакан Едвиге, и та с трудом приподнялась на зеленом диване. У старухи были очень бледные синие глаза и халат цвета майского неба.
– Спасибо, – поблагодарил ее Пьер, – огромное спасибо. Мы уйдем, как только она сможет.
– Жаль будет, если вам придется скоро уйти. Впервые за такое долгое время молодежь поднялась ко мне в дом!
Женщина села в кресло напротив дивана, улыбнулась и попросила, сверкая глазами:
– Молодой человек, пожалуйста, расскажите мне!
В пяти километрах от этого места Жак Бартелеми, брат Пьера, находился в составе рабочей бригады в Тюле в цехе своего захваченного завода. Здесь собрались представители профсоюзов трех предприятий: «CTG», «Force Ouvrière» и «CFDT». Сам он согласился выполнять обязанности помощника главного секретаря профсоюза «Force Ouvrière», в который вступил с первого дня работы в «SOCAVIM», предприятии по производству сменных деталей, дочернего предприятия «Regie Renault». Жак исполнял там обязанности мастера, несмотря на свой юный возраст – благодаря своему образованию, как теоретическому, как и практическому в техническом лицее, которое он успел получить до призыва в армию будущей осенью.
Несмотря на выгодное положение, занимаемое им из-за престижного образования, Жак не колеблясь вступил в борьбу на стороне профсоюзов, инстинктивно присоединившись к лагерю рабочих, а не их руководителей, как будто он ждал этого события уже давно. Под внешним единством соперничество противопоставляло различные профсоюзы, в особенности «CTG» и «Force Ouvrière». Раскол, возникший при их образовании, так и не был забыт, и долгая история их развития как во Франции, так и в Испании только обострила разногласия. Люди из «Force Ouvrière» больше всего упрекали работников «CTG» в полном подчинении коммунистической партии. Эти противоречия были всегда, а в эти дни проявились как никогда остро.
С тех пор как студенческое движение расшевелило страну, коммунистическая партия, как и другие «левые», быстро поняли, что им выпала уникальная возможность прийти к власти. Они вырастали из профсоюзов, уверенные после оглашения де Голлем референдума 24 мая, что яблочко созрело и готово упасть с дерева. Было 27 мая. Вопрос заключался в том, принимать или нет Гренельский акт, составленный после первых переговоров между правительством и рабочими. «Force Ouvrière» был скорее «за», но «CTG» противился и проводил по этому поводу кампанию в Париже, на «Рено» и «Ситроене». Результат голосования был очевиден.
Все также ожидали новостей после встречи на стадионе «Шарлети», где видные деятели левых сил должны были выступать с речами. Радиостанции работали беспрерывно, короткие выпуски новостей приносили известия каждые полчаса. Когда в тот вечер дверь цеха открылась, секретарь «CTG» улыбался – в Париже Гренельский акт был отклонен.
– Они у нас в руках! – говорил он, ни к кому конкретно не обращаясь. – В этот раз они проиграли.
Жака же раздирали противоречия, но он был, скорее, за продолжение выступлений. Поэтому его новость не расстроила, а даже совсем наоборот. Он понял, что борьба будет долгой, и подумывал на следующий день отправиться восстанавливать силы в горы в Пюльубьер, поскольку он не должен был пребывать на посту постоянно и в ближайшее время манифестаций не предвиделось. Он нашел работу в Тюле по причине близости к любимому селению, хотя в Бриве рынок сбыта был значительно больше. И сегодня Жак был очень рад своему выбору, поскольку бензина больше не оставалось, а три часа на велосипеде, чтобы попасть в Пюльубьер, не пугали его.
Он хранил в памяти воспоминания о плоскогорье, где прошла лучшая часть его детства. И хоть ему и пришлось уступить родителям и поступить в технический лицей, вместо того чтобы заниматься земледелием, сегодня Жак все еще сожалел об этом выборе, хотя солидарность рабочего класса казалась ему более приемлемой и удобной для жизни, чем изоляция крестьян, привязанных к неблагодарной земле высоко в горах, где Рождество всегда было белым, а условия жизни – все такими же суровыми.
Но с недавних пор существовало кое-что еще, притягивавшее Жака наверху: девушка Кристель, которую он столько утешал, потерявшая свою первую любовь прошлым летом. Это произошло очень естественно, так как она часто приходила в их деревню из Сен-Винсена узнать новости, и Жак провожал ее, не в силах оставаться безучастным при виде отчаяния, причиной которого был его собственный брат. Так они сблизились, тем не менее не преодолевая барьер, возведенный между ними недавней раной. Жак решил позволить времени делать свое дело, уверенный, что Кристель однажды забудет Пьера, как теряются в воспоминаниях пейзажи, уже не мелькающие перед глазами. И он будет рядом и никогда никому не расскажет, как плакало его сердце при виде сближения Кристель с его братом, тогда как он сам всегда был влюблен в нее.
Его ноги в то утро не ощущали неровностей долгой дороги, когда он крутил педали среди блестящих от ночной росы деревьев. Жаку казалось, что он остался один в мире, а какое-то гигантское землетрясение уничтожило всех людей. Весна тоже напоминала весны прошлых дет, будто суматоха внизу не имела для этих мест никакого значения, кроме отсутствия машин, к тому же эта неизменность была проявлением некой истинности этого мира, и Жак отчетливо ощущал это. Здесь небо, деревья придавали уличным демонстрациям смехотворный и тщеславный вид. Жак подумал о заводе, о речах, о лозунгах, и ему в голову пришел образ муравейника. Здесь царили тишина и нерушимое спокойствие. Жак всегда знал, что для него дилемма жизни заключалась в следующем выборе: тишина плоскогорья, его суровое одиночество или безостановочное движение мира людей. Сегодня вопрос так и не был решен, во всяком случае окончательно. Каждый раз, когда он поднимался наверх, сладостные тиски сжимали его сердце. Он будто возвращался домой.
Жак прибыл в Пюльубьер ближе к полудню, позавтракал с Одилией и Робером, которым всегда помогал летом в тяжелых полевых работах, а затем поехал в Сен-Винсен, где застал Кристель за мытьем посуды. С тех пор как умерла ее мать, девушка естественным образом заняла ее место. Она работала в доме и магазине, продавала вкусный хлеб, который ночью выпекал ее отец. Он же днем устраивал сиесту. Это был мужчина огромных размеров, в неизменных синих брюках и белой, обсыпанной мукой майке; колосс, который, несмотря на свою изолированность, работу, занимающую все время, понимал, насколько сильно его дочь мечтала о другой жизни. Как, впрочем, и все в деревне, видя по телевизору чудеснейший мир, к которому они не были допущены. Девушки были счастливы найти мужа во время недолгой учебы в городе и никогда не возвращались, или разве что для того, чтобы наспех поцеловать стареющих родителей и быстрее уехать, сбежать, как бегут от призраков, грозящих оставить вас навечно в своих владениях, если вы не проявите достаточную осмотрительность. Этот славный мужчина понимал, что сейчас жизнь спустилась в долины, в городские районы и что в горах она была обречена. И потому он обвинял себя в том, что был вынужден держать дочь возле себя, и с неодобрением относился к визитам Жака.
– Дай мне два года, малышка, – говорил булочник дочери, – затем я что-нибудь придумаю.
Она же точно знала, что Пьер был потерян навсегда, но не могла еще решиться принять другие объятия. Кристель, конечно же, думала об этом с лета прошлого года, но ее решение было определенно отрицательным, слишком болела еще полученная рана. Когда Жак объяснил ей в тот день, что он поднялся на велосипеде, она не могла ему поверить.
– Из Тюля? На велосипеде?
– Да, – убеждал ее он, – у меня закончился бензин.
– У нас тоже, – отвечала девушка, – уже неделю мой отец не делает объездов.
Задумавшись, она спросила:
– А сколько времени у тебя это заняло?
– Чуть меньше трех часов.
Жаку показалось, что что-то засветилось в ее взгляде, нечто – свет или вспышка, – всегда волновавшая его и не появлявшаяся уже много месяцев. Они больше часа разговаривали новым сообщническим тоном, во всяком случае Жаку хотелось в это верить. Он был убежден, что ей нравилось слушать его рассказы о жизни в Тюле, о суматохе, от которой она осталась в стороне здесь, в Сен-Винсене, и что Кристель была благодарна за впечатления, которыми он с ней делился. Когда они расставались, Кристель поцеловала его.
– Спасибо, – сказала она.
И быстро добавила:
– Мне нужно еще немного времени.
– Конечно, – согласился Жак. – Не переживай – я подожду.
Возвращаясь по залитой солнцем дороге, он больше не чувствовал педалей, к тому же спусков сейчас было больше, чем подъемов. Его сопровождала свежая тень, пахнущая прохладой и весенними дождями. Жак напевал, сидя на своем велосипеде, не имея ни малейшего понятия о том, что ждало его внизу. Он собирался вернуться на свое место в строю с начала следующего месяца, но также знал, что за несколько часов стал намного сильнее и эти силы его не покинут.
После того как де Голль, поддержанный наконец проникнувшимися его идеями манифестантами, провел переговоры с Национальной Ассамблеей и объявил о выборах, в июне стали гаснуть пожары, захлестнувшие было всю Францию. 14 июня полиция очистила от манифестантов Одеон и Сорбонну. 17-го возобновил работу «Рено», 20-го – «Пежо» и «Ситроен». 23-го и 29-го выборы спровоцировали напор голлистов, регулировавших беспорядки предыдущих месяцев и проявлявших неподдельное желание организовать стабильную и безопасную жизнь во Франции. Летние каникулы окончательно дестабилизировали протестантов, все еще удивленных тем, насколько они смогли потрясти устои.
В Париже все магазины Латинского квартала были закрыты, и Паула от нечего делать возобновила свои старинные связи с людьми, которые поторопились принять участие в «живой революции», как это называл Антуан, с недавних пор объявивший себя буддистом, как и его друзья, искавшие в движении хиппи продолжение майских костров. Элиза, мать Паулы, попыталась забрать дочь в Соединенные Штаты, пока ситуация не наладится, но эта страна символизировала все, что Паула ненавидела всем сердцем, то есть власть денег – как раз то, против чего были направлены майские волнения. В основном как раз по этой причине Паула и сблизилась с этим движением, вместо того чтобы удалиться в замок Буассьер, как она однажды сделала, и нашла в манифестациях способ выражения своего отказа от легкой жизни, которой жила до сих пор или, скорее, которую ей навязывали.
Майский ветер увлек и ее тоже, но для нее он был гораздо опаснее, чем для других. И вправду в кругу друзей ее Антуана, – который, кстати, отрастил бороду и носил гирлянды из цветов, – они вместе курили марихуану и говорили только о свободе, о жизни без денег, полной мира и любви. «Peace and love» стали отныне лозунгом содружества, основанного на Рюей-Мальмезон, к которому присоединились голландцы, датчане и один американец, доллары которого обеспечивали бесперебойные поставки травки и пищи.
Паула вновь пристрастилась к наркотикам и потому забыла обо всем, что прежде мешало ей уйти в этот мрачный мир: о воспоминаниях о бабушке, о замке, восстановленном ее стараниями, но сегодня, в искаженном сознании Паулы, символизировавшем все то, что нужно было ненавидеть. Высокогорная область Коррез исчезала в тумане, все сгущавшемся и в конце концов накрывшем собой все. Паула еще настойчивее отталкивала от себя эту картину, потому что, несмотря на все ее усилия, ей не удалось перевезти тело бабушки в парк, куда та пришла умирать. Из-за этого у девушки осталось чувство поражения большой важности, и эта неудача наложила, как она считала, глубокий отпечаток на всю ее жизнь. Вследствие всего этого Паула позволила себе катиться по наклонной плоскости, и притом рисковала разбиться, не имея сил что-либо предпринять.
Сначала необходимо было черпать знания в индусской философии. В ней была вся правда: в отрешении от мира, от богатства, от западных ценностей. Необходимо было подняться к источнику духовности, чтобы почерпнуть там то, что послужит материалом для строительства новой жизни. А источником был Катманду в Непале, где родился и умер Будда и куда, следовательно, нужно было отправиться, чтобы достичь нирваны – полного отрешения от этого неприемлемого мира, никогда не приносившего живым счастья.
Поэтому у Паулы не было ни малейшего страха, ни капли сомнения, когда они вшестером 10 июля 1968 года уехали по направлению к Нью-Дели, с билетами на самолет, купленными Джоном-американцем. После промежуточной пересадки в Бахрейне, в Персидском заливе и еще одной в Бомбее они прибыли в Дели, где на них враз свалилась вся индусская реальность, которая была так не похожа на их городскую западноевропейскую. Сначала они были подвергнуты жесткому допросу о причинах их пребывания в Индии, и им пришлось общаться с враждебно настроенным чиновником, твердо решившим не делать никаких поблажек этим взбалмошным обеспеченным чужестранцам, приезжающим в Непал как в священное место, в то время как там царила бедность. Затем, проехав квартал красивых жилищ, маленькие домишки которого скрывались в тени огромных деревьев, утопая в роскоши цветов, такси свернуло на улочки, где изголодавшиеся призраки искали тень возле стен с хронической отрешенностью индусов, ожидавших дождя, и падали как мухи без единого крика, умирая от голода и от покорности судьбе.
Сидя в раскаленной машине, Паула заметила огромные глаза, следящие за ней так, будто она была виновата в ужасающей худобе тел, и девушка поняла, что никогда этого не забудет. Священная корова не давала такси проехать. Шофер терпеливо ждал, пока она не соизволит сдвинуться с места на метр, а Джон все угрожал выйти и надрать ей задницу. Летний зной и бедность, казалось, усугублялись мухами, которых даже дети не прогоняли со своих лиц. Паула заметила уложенные вдоль стены два трупа, но никто и не думал хоронить. Такси почти не продвигалось вперед. Вдруг в середину машины просунулись руки, одна из них уцепилась за Паулу, и та закричала. Понадобилась помощь мальчиков, чтобы освободиться. Несмотря на изнуряющую жару, пришлось закрыть окна. Наконец через два часа пути они прибыли в гостиницу, откуда и не выходили до следующего дня, все под сильным впечатлением от увиденных на улицах сцен, и спрашивали себя, а не привиделось ли им все это.
Антуан и Джон поспешили вновь придать Непалу и Катманду воображаемое духовное величие и преуменьшали увиденную убогость жизни, ведь она не имела, равно как и богатство, ни малейшего значения. Нужно было жить, отстранившись от этой неблагодарной земли. Счастье было не в этом: оно заключалось в любви, в мире, в самопожертвовании, в вознесении к Будде.
На следующий день они сели в поезд, идущий в сторону Рампура – города, находящегося возле непальской границы, где им снова нужно было пересесть. Они попали в битком набитый душный поезд, где одинаковые широко распахнутые черные глаза смотрели на иностранцев, будто на пришельцев с другой планеты, и все с тем же смирением, так сильно впечатлившим Паулу, в то время как она сама подбадривала Антуана в его неизменной цветочной гирлянде. Пережив день и ночь дороги в постоянно останавливающемся поезде, они добрались до окраины, усеянной хижинами, населенными париями – неприкасаемыми, которые были рабами для руководящей касты и с пугающей смиренностью принимали свою судьбу. Антуан восторгался этой безответностью, казавшейся ему символом высшей меры человеческой отрешенности. Паула же до смерти боялась этих призраков, и впервые после отъезда в ней начал зарождаться некий стыд при виде всех этих людей, проводящих жизнь в смирении, страдании, в то время как другие люди, во Франции и в Европе, вели такую комфортную жизнь. Зачем приехали они, привилегированный класс, в эту страну, если не могли по-настоящему помочь всем этим несчастным? В тот вечер Паула курила больше, чем обычно, и еще больше на следующее утро, когда Джон объявил, что им нужно будет подождать здесь, пока он получит деньги от отца, чтобы вновь погрузиться в переполненный трясущийся поезд, который отвезет их на границу Непала.
– Не больше недели, – утверждал он. – И поскольку у нас осталось еще много времени, давайте воспользуемся им и ближе познакомимся с этими любезными людьми.
Паула с Антуаном поехали в самые богатые кварталы, где смешались с суровой толпой, в которой мужчины в белом и женщины в сари всех цветов слегка касались их, не обращая при этом никакого внимания. Везде были попрошайки, и ужасная вонь поднималась над разгоряченными улицами, заполненными роями мух.
И там, среди ужаснейших лишений, среди этой прискорбной и невыносимой убогости, в Пауле начал подниматься протест. Там, на углу двух торговых улиц, где дети в лохмотьях избивали друг друга за право выпрашивать милостыню в этом стратегически выгодном месте, что-то потаенное в самой глубине души Паулы задрожало. Что-то, похожее на отвагу и упорный труд тех, кто намного раньше них населял эту землю. Она знала, что не поедет в Катманду, но деньги, обещанные Джоном, наверняка смогут обеспечить ей обратную дорогу.
В конце июля 1968 года Матье Бартелеми пришлось отказаться от своей идеи последний раз вернуться в Алжир на могилу сына Виктора. Он понял, что никогда не получит визу, Матиджа навсегда останется закрытой для него и он не сможет ступить в последний раз перед тем, как уйти из жизни, на столь сильно любимую им землю. Смерть была уже не за горами – Матье хорошо это знал. После сердечного приступа, случившегося два года назад, он так и не смог оправиться окончательно. Да в этом и не было ничего удивительного: после стольких лет упорной работы, стольких страданий военного времени, потери сына силы его уже подходили к концу. Только присутствие Оливье, внука, дарило Матье немного радости, вполне достаточной для него в последнее время. Ему также повезло находиться в окружении, когда был не в состоянии работать, своей жены, сына Мартина и невестки, и все по мере сил проявляли заботу о нем. Но работа всегда была смыслом жизни для Матье. А теперь его истощал даже малейший жест, и он чувствовал в груди уже знакомую боль, которую научился подчинять своей воле.
Не имея возможности отправиться в Алжир, он однажды июльским утром попросил Мартина отвезти его в Пюльубьер, словно для того, чтобы совершить последнее паломничество в страну своего детства. Матье хотел снова увидеть леса, дом, где он смог вновь увидеться с Робером, своим внуком, и Шарлем, племянником, приезжавшим повидаться с ним в мае, когда события вокруг кипели. Старик знал, что между ними будто существовал некий сговор: они имели сходные суждения о восстаниях и забастовках. Вся эта суматоха казалась немного смехотворной тем, кто работал от зари до ночи, без наименьшей гарантии заработка в случае, если град или болезнь обрушатся на урожай. Крестьянский мир следил за развитием событий со скептической сдержанностью: требования рабочих не соответствовали их собственным, требования студентов тем более, разве что чей-то сын или дочь получат возможность посещать учебное заведение, тогда не стоит упускать эту возможность. Но, по большому счету, работы на земле не ждали. И Шарль, хоть и был учителем, прекрасно осознавал это.
Мартин и Матье выехали на рассвете, в воскресенье, по национальной трассе номер двадцать до Брива, затем повернули на дорогу в Тюль и Уссель, а после медленно поднялись на плоскогорье. Каждый раз, когда они туда приезжали, Матье не переставал удивляться контрасту между природой известнякового плато, на котором он жил, и этими лесами, пастбищами, темно-зелеными даже летом кронами, казалось, еще больше подчеркивающими незабудковое, синее небо, чтобы привлекать восхищенные взгляды. В то утро он чувствовал себя таким счастливым, каким давно уже не был: свежесть утра, без сомнения, и этот трепет зелени вокруг машины, словно приглашение раствориться в ней, будили в потаенных глубинах его души забытую негу. После зноя последних дней Матье дышал здесь с облегчением.
В Пюльубьере он смог недалеко прогуляться до обеда, зайти в дом, где они так часто собирались вместе после Первой мировой войны. Здесь за стаканчиком вина он вновь увидел перед собой тени прошлого: тень Паулины, матери Алоизы, и саму Алоизу, сидящую напротив него, рядом с Франсуа, когда она едва не потеряла сознание в 1918 году, и пугающую пустоту, промелькнувшую в ее прекрасных глазах.
Затем они пообедали в доме Шарля и Матильды, но старались не обсуждать происходящие события. С приходом лета месяц май, казалось, остался далеко позади, и все уже было сказано по поводу всего происшедшего. Они говорили о Пьере, решившем остаться в Париже на каникулы, и о Жаке, завтракавшем сегодня в Сен-Винсене, о кагоре, за который Матье собирался вскорости получить приз вина наивысшего сорта с зарегистрированным наименованием места производства. Затем Матье понадобилось прилечь во время сиесты, как он привык это делать в Алжире, поскольку вставать приходилось очень рано. Ненадолго: только на полчасика, после чего он захотел вернуться, поскольку Шарль собирался в тот день еще в Прадель.
Мартин выехал на трассу в Борт, повернул вправо, легко нашел дорогу на ферму, где Матье жил с Франсуа и Люси долгие годы, вместе с родителями, умершими в тяжелых условиях, почти в нищете. Мартин остановил машину возле двора небольшого разрушенного домика, и они вышли из машины, чтобы обойти вокруг него, по крапиве, пырею и репейнику. Крыша дома обвалилась. Матье молчал. Он безнадежно пытался вновь увидеть сценки из своего детства, но они убегали от него: слишком много времени прошло. Старик понял, что не сможет запастись тем, за чем сюда приехал, и испытал разочарование. Он больше ничего не узнавал, как не узнавал он больше мир, рождающийся из майских событий. Мужчины и женщины никогда больше не будут жить так, как раньше. Очевидность перемен заставила его пошатнуться. Матье смотрел на холмы – он хотел знать, остался ли еще крест в вышине. Старику показалось, что удалось рассмотреть его там, на пересечении дорог, оставшийся с той поры, когда они с Франсуа 1 января 1900 года высматривали признаки наступления новой жизни. Франсуа уже давно был мертв, как и Люси и их родители. Он, Матье, остался последним, кто в состоянии был вспомнить о тех временах, тех людях, не знавших, хватит ли им хлеба на грядущую зиму. «Тем лучше, – говорил он себе, – ни мои дети, ни внуки никогда не познают такого», – и в то же время у него было чувство некой измены, манящее его к тому холму.
– Ты же не будешь подниматься туда! – запротестовал Мартин.
– Буду. Подожди меня здесь.
Мартин вздохнул и вернулся к машине. Матье инстинктивно нашел старинную тропку и проследовал по ней с чувством опьянения, не дающим ему ощутить усталость, во всяком случае на первых метрах подъема. Затем боль в груди усилилась и заставила его несколько раз остановиться. Но как только Матье оказался наверху, он как будто почувствовал победу над временем. Он сел на каменный выступ и снова подчинил воле дыхание, глядя вдаль, как они когда-то смотрели вместе с братом первого января 1900 года. Матье не различал ни елей, ни берез, которые когда-то показывал ему Франсуа там, на круглых вершинах горы.
– Франсуа, – прошептал Матье, – на этот раз мир действительно изменился.
И ему показалось, что кто-то стоит рядом с ним, Матье даже протянул руку, чтобы дотронуться до пришедшего. Он повернул голову, никого не увидел, совсем никого, и боль в груди всколыхнулась с новой силой. Старик еще долго сидел на выступе скалы, немного растерявшись, не зная, где находится. Крик Мартина снизу вернул Матье в сознание. Он поднялся и, бросив последний взгляд на горизонт, начал спуск.
Возвращение прошло в тишине. К тому же Матье почти не разговаривал последние несколько месяцев. Сильно озабоченный болью в груди, не оставлявшей его в покое, он готовился к неизбежному и неуклонно приближающемуся, он был в этом уверен.
Он не спал всю ночь, и Марианна утром предложила вызвать доктора.
– Нет, спасибо, не стоит беспокоиться, – ответил Матье.
Но боль оставалась все такой же сильной. После завтрака, когда все занялись делом, Матье пошел к виноградникам под жгучим солнцем, с единственной мыслью в голове: дойти туда, пока не стало слишком поздно. Обливаясь потом, стиснув зубы, он еле дошел и тут же прилег среди виноградных лоз, как обычно, вдали от взглядов, как он делал уже два года, когда боль в груди поднималась и причиняла ему нестерпимые страдания. Он почувствовал себя намного лучше, подумал о своем сыне Викторе с намерением скорее сблизиться с ним наконец, а затем боль, вместо того чтобы утихнуть, резко усилилась. Матье понял, что этим утром ничто его не удержит. Через несколько минут ему показалось, что огромное солнце разбилось вдруг о его череп. Он пережил миг невероятного счастья, думая не только о солнце Матиджи, но также и о том, которое поднималось там, в Праделе, много лет назад, над вековыми лесами.