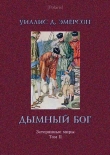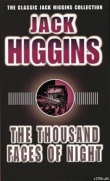Текст книги "У ночи тысяча глаз"
Автор книги: Корнелл Вулрич
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
Их скованность прошла, накатило безволие.
Шон неторопливо забрал свою бляху, накрыл ее обеими руками и подержал так, будто лелея.
– Держите его! – вскрикнул он вдруг и, схватив стул, кинулся к пошатывающейся фигуре, которую Джин пыталась удержать на ногах.
Они усадили Рида между собой, совершенно обмякшего и бесформенного, – ни дать ни взять пальто, сдернутое с чьей-то спины. Голова его запрокинулась, и Шону пришлось поддерживать ее, чего не могла уже сделать шея.
– Это всего лишь игра, – нашептывала Джин ему на ухо торопливым, полным отчаяния голосом. – Это ведь всего навсего деревянное колесо, сделанное на фабрике, в мастерской или где там еще. Ты и сам мог бы сделать такое. Оно ничего не знает. Оно ничего не чувствует. Шарик останавливается здесь, шарик останавливается там.
– Вот, – сказал Шон, – пожалуйста. Посмотрите. Возьмите. – И он всунул в безжизненную, лишенную нервов руку иссохшее свидетельство о рождении.
– Вы возвращаете мне кусок бумаги.
– Это и все, что вы поставили на стол, больше ничего.
– Я поставил свою жизнь. – Его рука дернулась, и часть сухой, хрупкой бумаги, оказавшаяся в ней, превратилась в мелкие кусочки, которые посыпались на пол как конфетти. – Видите? Вот она. Вот что от нее осталось.
Его голова, которую поддерживал Шон, перевесилась вдруг вперед и безвольно легла на стол на подложенную руку. Другая рука повисла до самого пола, сначала слегка раскачиваясь. Затем ее движение прекратилось, как у остановившегося маятника часов.
Джин, будучи не в силах помочь ему, отодвинулась от него и погладила его рукой по согбенной спине. Потом обошла стол и, проходя мимо рулетки, запустила ее колесо, как бы с отчаяния, на прощанье, от нечего делать, в последний раз.
Оно зажужжало, закрутилось и снова остановилось у нее за спиной, как уже не раз останавливалось прежде; только на этот раз никаких ставок на доске не было.
Джин заметила какое-то странное выражение на лице Шона, отчего невольно повернулась и посмотрела на рулетку.
Впервые за весь вечер, теперь, когда игра была закончена, а игрок повержен, колесо остановилось на красном.
Глава 16
Полицейская операция: Моллой
Зверски изуродованного, его нашли на тропинке, ведущей в деревню через рощицу. Эта тропа отходила от шоссе у фермы Хьюза и снова выходила на трассу где-то посреди деревни. Трасса здесь делала небольшой поворот, а тропка шла прямо; получалось, что шоссе – это лук, а тропка – его тетива. Вдоль нее сплошной стеной стояли деревья, она вся заросла куманикой, но это был кратчайший путь между двумя точками.
Должно быть, удрав с площадки для представления, где стоял шум и крик, зверь затаился где-то там среди деревьев, и тут на тропке появился ничего не подозревающий мужчина… а об остальном могли поведать следы, оставшиеся на земле.
Даже местные довольно точно прочитали печальную часть истории. Совершенно очевидно, бедняга шел один. Причем направлялся к деревне, а не из нее. Это тоже было в равной степени очевидно. Потому что в деревне все уже знали, кто бродит на свободе в тех местах, и никто не осмелился бы отправиться в одиночку по такой тропке. Он явно еще ничего не слышал, значит, не уходил из деревни, а направлялся к ней.
Молва распространилась с молниеносной скоростью, и Моллой, вместе с большей частью населения Тэкери, во всяком случае мужской его половины, оказался на месте через десять минут после того, как его нашли.
Там, где он лежал, было светло как днем – до того ярко горели факелы. Пожалуй, даже чересчур ярко, если учесть, что они должны были высветить. Зрелище предстало жуткое. Те, что прибежали первыми, тут же попятились назад, чтобы отдышаться.
Можно было лишь сказать, что перед ними мужчина и какого цвета у него волосы, – ничего более определенного. Он, что называется, оказался вымазанным дегтем и вываленным в перьях, только дегтем послужила его собственная кровь, а перьями – листья и ветки. Очевидно, сопротивляясь, он катался по земле.
Судя по всему, схватка шла по кругу. Там, словно каким-то плоским колесом, осью которого был он, оказались вытоптаны кусты и разворочена земля.
Люди кругом втихомолку отплевывались, а некоторые даже опасались, как бы их не вырвало.
На значительном расстоянии от этого места нашли кусок ткани. Возможно, он зацепился за коготь и зверь протащил его, а потом он отцепился. Ткань пропитала засохшая кровь. Не его кровь. Кровь, которая пролилась гораздо раньше и уже порыжела.
Кто-то наконец опознал его. От него почти ничего не осталось, и все же его узнали.
– Это Роб Хьюз, – сказал он. – Вот золотая коронка сбоку. Видите, как она подмигивает, когда подносишь факел к лицу? Он поставил ее в прошлом году и все ею хвастался. Я сам видел, как она поблескивала, когда он, бывало, открывал рот, чтобы погасить спичку, после того как раскуривал трубку. Ну-ка, проведите еще разок факелом у лица. – Рот и так был широко раскрыт в застывшем смертельном оскале, открывать его шире не было необходимости. – Видите, как она блестит? Видите?
Другие закивали:
– Да, это Хьюз.
– Хватит, – отрезал Моллой. – Прекратите.
Им хотелось разглядывать коронку бесконечно долго.
Несколько человек вызвались пойти и сообщить новость его жене. Моллой отправился с ними по чисто профессиональным причинам. Здесь, на земле, от человека почти ничего не осталось, чтобы о нем можно было что-то узнать, зато там, дома, кое-что наверняка имелось, во всяком случае не меньше, чем здесь.
– Они десять лет жили как кошка с собакой, – заметил один по пути туда.
– Дрались втихаря, за закрытыми дверями, – добавил другой.
– Тогда как же об этом узнавали люди? – весьма резонно поинтересовался Моллой.
– После очередной драки на ней каждый раз оставались отметины. У нее постоянно имели место «несчастные случаи» дома. Сроду еще не видел женщины, на которую бы падало столько разных вещей или которая бы столько спотыкалась о ведра и потом хромала…
– Ш-ш-ш, – тихонько предупредил кто-то. Не из уважения к мертвому, а потому, что они уже приближались к живой. В окне горел свет.
Она открыла дверь; и они четверо – кроме Моллоя было еще трое – неловко протолкались в комнату, сняли и принялись крутить в руках шляпы. Причем все будто языки проглотили. Кроме разве что Моллоя: он и не собирался говорить, он просто хотел понаблюдать.
Ей было за пятьдесят, высокая худая женщина, холодная и вся будто стальная. Словно ее плавили в плавильном тигле ненависти и все мягкие части оплавились и сгорели.
Ей пришлось заговорить первой, как часто делают женщины в трагедиях.
– Что-то случилось? – безучастно поинтересовалась она.
Они кивнули.
– С Робом, – продолжала она, откусив нитку, которой что-то зашивала, когда ее прервал стук в дверь. Затем добавила: – Я так полагаю? Иначе вы бы не пришли сюда подобным образом. И без него. – Она воткнула иголку в кусок замши или фетра, в котором уже торчало несколько других, и подождала.
– Тот лев, лев который убежал, задрал его, – заикаясь, выговорил один.
Эту новость она восприняла со странным спокойствием. Не закричала и не заплакала, а двое из них, приготовившиеся подхватить ее, если она начнет падать, обнаружили, что от них этого не потребуется. Она стояла совершенно прямо.
– И сильно он его? – спросила она.
– Он мертв, Ханна.
– Я знаю, – ахнула она, словно спрашивала совсем о другом. – Сильно ли изуродовал?
– Довольно сильно, Ханна, довольно сильно.
Одни из них сказали – уже потом, – что она при этом улыбнулась – горькой ухмылкой. Другие утверждали, что тем все почудилось. Но некоторые из них тем не менее говорили, мол, сами видели, как она улыбнулась. Моллой своего отношения никак не выразил.
Вскоре женщина снова опустилась в кресло-качалку, в котором сидела, когда они постучали. Но села не от слабости и не от горя, а скорее в знак того, что беседа закончена. Однако, прежде чем сесть, она сняла с кресла платье в белый цветочек по синему фону, над которым работала до их прихода, положила его на колени и взялась за иголку.
Войдя в комнату, Моллой глаз не спускал с платья. Тот кусок окровавленной ткани он прихватил с собой. Теперь вытащил его и развернул на виду у женщины. Трудно сказать, какую расцветку ткань имела первоначально, однако по форме это был четырехугольник, причем неправильный – с одного конца уже, чем с другого.
Она взглянула на лоскут совершенно спокойно, не моргая, даже, можно сказать, с некоторым интересом.
– От этого платья, – произнесла она. – Мое воскресное платье. Я обнаружила, что из него вырезан кусок ножницами. Не собиралась надевать его сегодня вечером, случайно сняла с вешалки и увидела дырку. Вот решила остаться дома и залатать его. – Она развернула складки, чтобы показать дырку – четырехугольник неправильной формы, с одного конца уже, с другого – шире. – Ставлю заплатку из ткани, которая больше всего подходит по расцветке.
Все промолчали. Она ответила на неуслышанный вопрос:
– Сегодня с утра зарубила цыпленка на ужин. Возможно, Роб подтер этим куском за мной кровь – вы же знаете, что бывает, когда отрубаешь цыпленку голову, – а затем прихватил его с собой.
У некоторых мужчин побелели лица. Ханна продолжала работать иглой. Она была единственная, кто говорил. Единственная, кто мог говорить.
– Он собирался повести меня на цирковое представление сегодня вечером. Всю вторую половину дня провел в деревне и, похоже, полагал, что я с удовольствием схожу с ним. Мне идти не хотелось, но он прямо из кожи лез вон, умасливая меня. Похоже, уж больно ему не терпелось сходить. – Она аккуратно разгладила свое шитье. – А потом вдруг засуетился, сказал, что отправится пораньше, а я чтобы его догоняла. Указал, где его найти. Велел поджидать у клетки со львами. Там, мол, будет уйма народу, а я чтобы ждала его у клетки и никуда не отходила.
Один из мужчин отступил назад и стал нащупывать ручку двери, видно, ему не хотелось находиться в этом доме и он желал поскорее из него выбраться.
Ханна знай себе говорила. Добросовестно накладывала швы и говорила:
– Я видела, как он, прежде чем уйти, взял что-то из шкафа с инструментами. У нас есть шкаф для инструментов, вы знаете, в задней части дома. Не видела, что именно, но после его ухода пошла посмотрела и не обнаружила клещей и одного напильника. Их-то, наверное, и прихватил с собой, только вот не знаю, для чего они ему понадобились, если отправился он в деревню.
И те, что утверждали, будто она улыбнулась первый раз, говорили, что тут она улыбнулась снова. Однако те, которые говорили, что она не улыбалась тогда, настаивали, что не улыбнулась и теперь.
– Идемте, – позвал один из мужчин заплетающимся языком, как будто чем-то давился.
– Впрочем, он иногда делал странные вещи. Примерно с полгода назад однажды вечером я обнаружила на полу под нашей кроватью топор. Подняла его и протянула ему, ручкой вперед, заметив, что, должно быть, по ошибке положил его не туда. Хьюз согласился, что, наверное, так оно и есть, взял топор и отнес на место. С того дня такого ни разу не повторялось.
Туг Моллой впервые заговорил:
– Ферма принадлежала вам, миссис Хьюз?
– Да, – кратко ответила она, – мне. Она была записана на мое имя. Я позаботилась об этом много лет назад.
– Вы очень смелая женщина, – пробормотал он себе под нос.
– Дело не в том, что большинство женщин такие смелые, – возразила она. – Дело в том, что большинство мужчин такие трусы.
Больше Ханна почти ничего не сказала.
– Спокойной ночи, – заключила она, когда они один за другим выходили из дома. – Спасибо, что пришли и сообщили мне. А сейчас прошу меня извинить. Мне надо починить платье, из которого он вырезал кусок. Затем как можно быстрее его покрасить. Это единственная одежда, которая у меня есть и которую я могу надеть на похороны.
Глава 17
Ожидание: мгновения перед вечностью
Дверь комнаты была теперь заперта – изнутри, – а ключ вытащен из замка.
Одиннадцать сорок шесть. Рид сидел скорчившись в большом мягком кресле: такой худой, такой усохший, напоминая тряпочную куклу, оставленную там кем-то в сидячем положении, голова – на спинке кресла, ноги – на полу. Широко открытыми глазами он смотрел в никуда. В его глазах не было никаких признаков жизни, они ничего не воспринимали и напоминали крапления агата, выглядывающие из-за миндалевидных краев жесткой сморщенной кожи. Взмахни прямо перед ними – они даже не отреагируют.
Грудь едва поднималась и опадала, что удавалось заметить, только приглядевшись повнимательней. Единственный признак жизни во всем теле.
Шон сидел бочком на широком закругленном подлокотнике того же кресла, как бы защищая Рида с той стороны. Рид крепко обхватил его руку своими обеими, уверенный, что в этой руке заключалось его спасение, пальцы словно жгутом обвились над локтем. Другая рука Шона, опущенная в карман пиджака, держала револьвер, контуры которого, если повнимательней приглядеться, обозначались сквозь материю.
Джин стояла спиной к ним в другом конце комнаты, склонив голову над столиком, где поставили таз с водой. Казалось, ей не хотелось привлекать внимание к тому, что она делала; еле слышно зажурчала сливаемая вода, и она вернулась к креслу, держа двумя пальцами свежую примочку – сложенный в несколько раз мужской носовой платок.
Одиннадцать сорок семь. Дочь склонилась над отцом. Почувствовав непосредственную опасность примочки, его веки дрогнули.
– Ну-ка, давай прикроем их хоть ненадолго, – умоляюще попросила она и нежно приложила примочку к его горящим, жестким как камень глазам, разгладила ее, мягко прижав кончиками пальцев. И все поглаживала и поглаживала, изгоняя прочь ужас. Наконец осторожно убрала руки, и примочка сама удержалась на месте.
Его голова едва двинулась, запоздало протестуя против нежного насилия.
– Нет-нет, – заворочался он и попытался стряхнуть примочку.
Одна его рука даже отлепилась от рукава Шона. Рид хотел поднять ее и стащить примочку. Джин мягко ее перехватила, остановила и вернула на прежнее место:
– Пусть они отдохнут, хоть немного. Не смотри на них. Отвлекись на минутку.
– Когда я их не вижу, они идут быстрей. Они меня обманывают.
– Я здесь, рядом с тобой. Он здесь, рядом с тобой.
Она примостилась на втором подлокотнике, который, очевидно, занимала до того, как пошла намочить платок.
Рид теперь оказался как бы между двумя стенами. Их тела, склонившиеся друг к другу, образовывали над ним прикрывающую арку. Однако несчастный по-прежнему крепко цеплялся за руку Шона, а не за руку дочери.
Ее рука успокаивающе поглаживала его по волосам, движения становились все легче и наконец прекратились совсем. Одиннадцать сорок восемь. Какое-то мгновение они молча наблюдали за ним сверху.
Потом, словно по взаимному согласию, посмотрели друг на друга. Она указал на часы и сделала круговое движение рукой, против часовой стрелки, имея в виду, что их следует отвести назад.
Он головой показал на крепкие тиски у себя на руке, которые не давали ему двинуться.
Она легонько кивнула и указала на себя пальцем, подразумевая, что пойдет сама.
Он вытащил руку из кармана, где лежал револьвер, остановил Джин еле заметным движением и указал пальцем на себя. Затем потихоньку, опираясь на спинку кресла, стал высвобождать руку.
Почувствовав, что он пошевельнулся, Рид мгновенно приклеился к нему с удвоенной энергией.
– Я отсидел ногу. Позвольте мне немного ее размять.
Он разомкнул спаянные страхом руки, оторвал их по одной, доверив Джин. Ей пришлось удерживать их – до того сильна была чуть ли не рефлекторная попытка вернуть их на прежнее место.
Шон уже встал с кресла и выпрямился во весь рост.
Одиннадцать сорок девять.
– Нет-нет, не вставайте! – Лицо, закрытое платком, исказила гримаса.
– Да я же здесь, рядом с вами. – В притворной попытке восстановить нормальное кровообращение он раза три сильно топнул ногой. – Мне необходимо минутку постоять на ней.
Она кивнула в сторону часов, как бы прося его поторопиться.
Он двигался быстро и осторожно, беззвучными шагами, обходя подальше мебель, чтобы нечаянно ее не задеть. Добравшись до часов, оглянулся через плечо, желая удостовериться, что Рид не обнаружил его бегства.
Полузакрытое лицо оставалось неподвижным, зато лицо Джин так и трепетало в мучительном ожидании.
Накрыв задвижку, поддерживавшую стекло с ободком, ладонью, Том постарался приглушить звук, который, он знал, неминуемо сейчас последует. Одно движение – и раздался приглушенный, еле слышный щелчок.
Рид не пошевельнулся.
Но в тот самый момент, когда ему почти удалось открыть дверцу, предательски тонко пискнули неподатливые шарниры.
Рид вдруг задергался в кресле, выдернул у Джин руку, она, взлетев вверх, сорвала мешающую шору. Возникла иллюзия, что его глаза не открылись, а только что снова появились на лице после странного физического исчезновения.
Одиннадцать пятьдесят. Рука Шона находилась уже на циферблате и готова была чуточку раздвинуть стрелки, как вдруг внезапно упала, словно соприкосновение с ними ее обожгло.
Они молчали. Все трое. Даже Рид не возмущался. Впрочем, в словах не было необходимости: говорили его широко раскрытые обвиняющие глаза.
– Вернитесь, Шон, – смирившись, вздохнула она наконец. – Вернитесь.
Шон медленно отошел от часов, вернулся к креслу, опустился на подлокотник, на котором сидел прежде.
Рид не сводил с него вопрошающего взгляда.
– Вы их не трогали?
– Я ничего не сделал, – апатично ответил Шон.
– Поклянитесь, что не сделали. Поклянитесь.
– Он ничего не сделал, папа. Я наблюдала за ним.
Пальцы Рида, подобно белым червям, обвились вокруг предплечья Шона.
– Ключ у вас? Ключ от этой комнаты?
– Да, он все еще у меня.
Одиннадцать пятьдесят одна.
– Покажите, звякните им, чтобы я услышал.
Шон коснулся своего кармана, и там что-то беспокойно зазвенело.
Еще пять белых червей поползли по другой стороне его руки и переплелись с первыми пятью.
– Ваш револьвер заряжен? Вы уверены, что он заряжен?
– Я показывал его вам всего несколько минут назад.
– Переломите его, посмотрите еще раз, удостоверьтесь.
Шон снова вытащил пушку и, держа в обеих руках, переломил. Совершенно машинально, даже не глядя. Червяки проползли по револьверу, ощупали каждый патронник.
Шон, по-прежнему не глядя, хотя и приложив усилие, закрыл револьвер.
– Комната, в которой мы сидим, заперта на ключ, – пробубнил он. – Дом, в котором находится эта комната, на замке. Территория вокруг дома – под наблюдением. – Его глаза сощурились, как будто он смотрел на что-то этакое, что только он один мог видеть. – Сюда никто и ничто не сможет проникнуть.
Одиннадцать пятьдесят две.
Рид сделал глубокий вдох.
– Вы ненавидите меня, сынок. Вы ненавидели меня только что, пусть даже на мгновение. Я почувствовал, как по вашему телу прошла ненависть, как ваше тело на мгновение очерствело.
Шон, без всякого чувства в голосе, произнес:
– Не называйте меня сынком, сэр. У меня был отец. И он не боялся умирать.
– Но ведь он не знал, когда наступит его смерть.
– Ну, в таком случае моя мать. Она тоже не боялась. А она знала. У нее был рак. Причем врачи даже не могли применять обезболивающие средства, поскольку у нее было слабое сердце. В самом конце она улыбнулась мне слабой улыбкой. Последние ее слова были: «Прости, Том, что доставляю тебе столько хлопот». – Он замолчал.
Пальцы, сжимавшие его руку, соскользнули с нее и сошлись в рукопожатии. Затем поднялись к лицу Рида и на мгновение закрыли его, словно пытаясь смахнуть с него страх.
– Постараюсь не доставлять вам больше хлопот, – пробурчал он сквозь пальцы. – Постараюсь не… – Он сглотнул, опустил руки, положил их одна на одну. – Видите, Шон? Я буду сидеть здесь очень тихо… вот так… и просто ждать.
Детектив улыбнулся про себя довольно удрученно. Он обнял Рида за плечи и тихо ободряюще сказал:
Одиннадцать пятьдесят три.
– Называйте меня сынком, если хотите.
Глава 18
Погоня
Закусочная работала круглосуточно. Она сверкала белизной, как клиника: столешницы белые, стены до середины выложены белым кафелем; выше, до потолка, и сам потолок побелены, но побелка уже местами лупилась; во всю длину зала, по центру, шел ряд молочно-белых светильников вперемежку с вентиляторами, которые сейчас не работали. Даже пиджак у служителя за стойкой был белый.
Надпись на стене гласила: «За оставленные без присмотра шляпы и пальто ответственности не несем», ниже шло еще что-то, уже мелкими буквами.
За столом у входа дремал кассир средних лет. Служитель за стойкой от нечего делать читал газету.
На всем пространстве между ними двумя сидел один-единственный посетитель. Он безвольно склонился над одним из белых столиков, натянув шляпу на глаза, чтобы защитить их от чересчур белого сияния, исходившего от ламп вверху и отражавшегося от блестящих столешниц.
Пришел он туда явно не для того, чтобы поесть. Возможно, отдыхал. Скорее всего, сидел там потому, что больше некуда было пойти. Перед ним стояла чашка, на которую он давно не обращал внимания. Ее содержимое давно остыло, и молоко уже отделилось от кофе, образовав по краям белое кольцо. Кофе же в середине чуть ли не обрел свою первоначальную черноту. Из чашки, словно погруженная в воду мачта, торчала ручка ложки. На столе перед мужчиной лежал также картонный билетик с номерами от 1 до 100, пробита была только цифра 5. И больше ничего.
Он безвольно сидел в усыпляющей тишине заведения, пребывая чуть ли не в коматозном состоянии, напоминая человека, который очень долго не шевелился, возможно с полчаса. Даже кассир и тот двигался больше, хотя глаза у него то и дело слипались, он клевал носом, но потом снова поднимал голову, с трудом удерживая ее какое-то время в равновесии, после чего снова принимался клевать носом. Даже раздатчик за стойкой двигался больше клиента: он время от времени переворачивал газетную страницу, а прежде чем это сделать, слюнил палец. Мужчина же за столиком вообще не шевелился, забывшись или предавшись воспоминаниям, одна рука безвольно лежала на коленях, другая повисла плетью, будто в ней отсутствовал мускульный механизм, чтобы поднять ее или согнуть в локте. Действовал, возможно, только его разум.
Так он просидел уже с полчаса и, весьма вероятно, запросто мог бы просидеть еще полчаса.
Но вдруг он весь ожил. Не просто пошевельнулся, а резко задвигался и засуетился, причем, казалось бы, без какой-либо явной на то причины, совершенно безосновательно. Снаружи не донеслось ни звука, ничего не возникло в поле видимости. Двигался он быстро, как будто этого требовала ментальная детонация, которая и вывела его из состояния оцепенения. Стул с шумом отодвинулся назад, а он уже стоял во весь рост и смотрел на дверь. Но она не открылась, никто не появился. Ни внутри, ни снаружи не наблюдалось совершенно никаких признаков жизни.
Однако же он поспешно отошел от стола, оставив нетронутым кофе и не прихватив с собой неоплаченный чек, и направился к двери, собираясь, видно, поскорее выйти на улицу.
На полпути резко остановился, словно им овладело беспокойство, казалось, он засомневался в правильности принятого решения и оглядывался теперь в поисках другой двери, через которую мог бы поспешно ускользнуть, так как тот выход, к которому стремился без всякой видимой причины, перестал его устраивать. У стены, в задней части заведения, стояли две телефонные будки. Он повернул туда. По проходу между столиками добрался до них и вошел в дальнюю. Там сел, и импульс, который погнал его туда, очевидно, иссяк и покинул его. Он снова замер. Не снял трубку, даже не сразу прикрыл за собой дверь. Просто сидел и ждал, когда пройдет какой-то определенный период времени.
И тот прошел. Он длился минуты две, никак не дольше.
В течение первой минуты ничего не произошло. Затем едва слышно зашуршали шины и из-за угла появилась машина. Совсем тихо скрипнули тормоза, потом на асфальт ступил тяжелый башмак.
Две минуты истекли. Вращающаяся дверь повернулась, в закусочную вошли двое – Доббс и Сокольски, усталые и встревоженные. Между собой они не разговаривали, будто болтать им осточертело с час назад. Доббс сдвинул шляпу на затылок, вроде как смирившись с поражением.
Они взяли по карточке с круглой резиновой подставки на стойке перед кассиром.
Когда полицейские находились на середине зала, на полпути к тому месту, где укрылся он, но никак не раньше, мужчина задвинул стеклянную панель двери. Доббс, шагавший первым, на мгновение увидел его высунувшуюся руку и безразлично отвернулся.
Над мужчиной загорелся свет, и все внутри будки осветилось тускло-желтым. Этот свет как бы припудрил тулью шляпы и его плечи кукурузной мукой. Мужчина смотрел на нее, но стряхивать не стал. Затем повернул голову затылком к залу. Монотонность голой стены, на которую он теперь смотрел, казалось, моментально наскучила ему, и он вытащил из кармана огрызок желтого карандаша и принялся с усердием чертежника, уделяющего внимание каждой линии, вырисовывать на ней абстрактные геометрические фигуры. Эти фигуры не имели абсолютно никакого смысла и были чисто произвольными по замыслу. И тем не менее он продолжал вырисовывать их весьма старательно. Временами останавливался и окидывал их критическим взглядом, словно решая, подходит это ему или нет. Потом принимался рисовать снова. Его неподдельная увлеченность занятием могла послужить оправданием вынужденной праздности, которой он предавался в полной безопасности. Человек совершенно расслабился, ни разу не оглянулся, будто заранее знал, что никто его не прервет, события в зале его совершенно не волновали.
Доббс и Сокольски уже несли от стойки чашки дымящегося кофе, по-прежнему следуя друг за другом. Доббс, и на этот раз первый, подошел к столику, за которым прежде сидел мужчина, находившийся теперь в телефонной будке, и хотел было в свою очередь сесть там. Вероятно, тут сыграло роль, что стул был отодвинут от столика и на него казалось легче усесться, тогда как другие стулья пришлось бы вытаскивать. Однако, увидев оставленную чашку кофе, он заколебался. Затем поднял картонную карточку, лежавшую рядом с чашкой, как бы показывая Сокольски, что столик уже занят, и положил ее на место. Они прошли дальше и сели.
Места заняли напротив, но по-прежнему не разговаривали и избегали смотреть друг на друга. Их лица свидетельствовали о том, что им осточертел весь белый свет и все его народонаселение.
Доббс уставился в свою полосатую коричневую чашку. Сокольски смотрел на один из молочно-белых светильников под потолком. Траектории их взглядов расходились чуть ли не на милю. К тому же их взгляды совершенно не воспринимали того, на что были направлены. Фактически они ничего не видели.
Перевернув и встряхнув патентованную сахарницу, они щедро подсластили себе кофе, по-прежнему с удрученным видом подняли чашки и отпили. Сокольски продолжал смотреть вверх. Доббс – вниз. Затем тяжело поставили чашки на стол. Кофе оказался слишком горяч, чтобы его можно было выпить сразу. Сокольски отер губы рукой. Доббс вытащил помятую пачку, встряхнул ее, и единственная остававшаяся в ней сигарета выскочила в отверстие наверху.
Сунул ее в рот, но так и не прикурил. Словно мысленно осознав, что курение не доставит ему настоящего удовольствия, вытащил сигарету изо рта, разочарованно посмотрел на нее и положил на широкий, в форме канавки, ободок блюдца; она тут же порыжела и наполовину промокла.
Мужчина в будке теперь уже исправлял некоторые свои наброски. Перевернув карандаш, он добросовестно что-то стирал ластиком с самого края рисунка. Затем наклонился поближе и подул на расчищенное место, чтобы удалить скатавшиеся частички резинки. Реставрировав таким образом поверхность, которую выбрал себе для работы, снова принялся рисовать. О том, что происходит за дверью будки, он, казалось, совершенно позабыл.
Сокольски допил кофе и опять вытер губы, но не потому, что был такой воспитанный, а в предвкушении неизбежных неприятностей. Тут он заговорил – впервые с тех пор, как они вошли.
– Сам сделаешь? – спросил он. – Или предпочитаешь, чтобы доложил я?
Доббсу не потребовалось никакой преамбулы, чтобы понять его вопрос.
– Сам, – угрюмо бросил он. – Все равно кому-то из нас придется это сделать.
Он встал из-за стола и направился в заднюю часть зала к телефонным будкам, которые приметил еще раньше. Теперь, отодвинув часть столов и стульев в сторону, чтобы обеспечить себе свободу действий, там протирал пол цветной швейцар. Его согнувшаяся фигура, ведро, которое следовало обойти и случайно не перевернуть, влажный пол, ступая по которому можно, чего доброго, поскользнуться, – все это, вероятно, отвлекло внимание Доббса.
Оказавшись перед кабинками, он потянулся к ручке той, что была освещена, и потянул дверцу на себя. А когда уже поднял ногу, готовый войти, увидел прямо у себя перед носом чей-то затылок.
Мужчина в кабинке даже не пошевельнулся в ожидании, когда вторжение прекратится, он лишь спокойно на мгновение приостановил свое занятие. Его карандаш повис в воздухе.
– Простите, – пробормотал Доббс, попятился, закрыл дверцу и вошел в соседнюю кабинку.
Карандаш снова принялся исписывать стену, тщательно прорабатывая те же линии снова и снова, чтобы они стали толще, заметнее.
Через тонкую боковую перегородку донеслось звяканье опущенной монеты и быстрое вращение наборного диска, который повернулся всего раз. Затем настороженный голос: «Главное управление, пожалуйста». Дальше голос то появлялся, то исчезал, и не только потому, что разговор шел тихо, но и из-за частых остановок – говорившего постоянно прерывали.
– Его и след простыл…
– Сделали, что могли…
– С ног сбились…
– Я знаю, лейтенант, но мы делаем все, что в наших силах…
– Да, сэр…
– Так точно, сэр…
– Да, сэр, лейтенант…
– Так точно, сэр…
Сокольски уже оказался рядом с будкой. Один раз, чтобы легче было стоять, он оперся ладонью о стеклянную панель второй кабинки, не той, в которой находился Доббс. Затем убрал руку, и на стекле осталось мокрое пятно – нервничая, он потел. Мужчина в будке повернул голову и бросил на Сокольски короткий взгляд, оставшийся на стекле эфемерный отпечаток затуманил черты его лица подобно прозрачной маске, над которой открыто смотрели его глаза. Затем он снова повернулся лицом к стене, а отпечаток на стекле испарился.
Доббс вышел, и они постояли немного возле будок.
– Устроил мне такой разгон. Жаль, что ты не слышал.
Сокольски в тревоге прикусил нижнюю губу.
– Он с нас не слезет, – продолжал Доббс. – Без него, говорит, даже не показывайтесь.
Сокольски приглушенно ахнул в испуге:
– Он считает, мы от него что-то утаиваем?
– Давай двигаться, – заключил Доббс. – Тут нам все равно ловить некого.
Они направились вдоль стены к выходу, в том же порядке, в каком вошли, – Сокольски тащился за Доббсом.