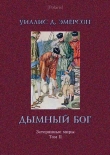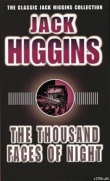Текст книги "У ночи тысяча глаз"
Автор книги: Корнелл Вулрич
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц)
Она ткнула большим пальцем куда-то себе за плечо:
– Арестуйте звезды за окном, сержант. Наденьте на них наручники. Огрейте их дубинкой.
Однако и у Шона было чувство собственного достоинства. Ему так хотелось ей помочь! Он встал, аккуратно задвинул стул и без единого слова пошел прочь.
Смех неожиданно прекратился. Том оглянулся: ее голова была опущена, глаза прикрыты рукой. Он немного постоял и вернулся за столик так же медленно, как и уходил. Не говоря ни слова, сел на тот же самый стул. Когда Джин наконец подняла глаза, то увидела на его лице терпеливое ожидание. Так, доступным ему способом, он стремился показать, что хочет лишь помочь ей.
Ее веки отяжелели от набежавших слез. Она взглянула на него и отвела рукой упавшие на глаза волосы.
– Ну что, готовы рассказывать?
– Не могу.
– Почему?
– Не знаю, с чего начать.
– Рассказывайте, да и все. Вы держите все в себе, оттого так тяжело. Надо облегчить душу.
– Словами ничего не выразишь. Да и вряд ли нужно. Пережить можно, а пересказать – нет.
– Нет ничего такого, чего нельзя было бы пересказать. Мне не раз приходилось выслушивать самые невероятные истории.
– Знаете, это как мельчайшие частицы, вроде песчинок или капель воды. Невозможно рассказать о таких малостях – ничего не получается. Люди не поймут, что вы имеете в виду…
– А если я вам помогу? Главное – взять разгон. На меня не обращайте внимания, как будто меня здесь нет, как будто вы рассказываете самой себе.
Но на этот раз у нее опять ничего не получилось. Она продолжала молчать.
Шон подождал. Однако решил не отступать:
– Вы сейчас боитесь, верно? Испытываете страх?
Она глубоко вздохнула, ее вдруг стала бить дрожь.
– Да, боюсь.
– А ведь было время, когда ничего не боялись.
– Было время, когда не боялась.
– Вот и начните с него. С тех самых пор.
Глаза ее затуманились, но уже не от слез. Она ушла в себя, ее взгляд скользнул мимо него, в ночь и за ее пределы, в далекое прошлое.
– Да, было время, когда я не знала страха…
Глава 2
Рассказ
1
Началось все с капли. Да, именно с капли. Но не воды, а капли бульона, упавшей на белое вечернее платье, надетое впервые. С такой, в сущности, малости.
Капля пролитого бульона. Косой взгляд, на секунду прервавший разговор. Огорчение на лице, мелькнувшем за плечом. Огорчение, вызванное неосторожностью. Лицо удаляется, пятно просыхает, разговор входит в прежнее русло. Однако что-то уже произошло.
Вот первый шаг к смерти. Едва заметный симптом тьмы при желтом свете множества стоявших на столе свечей. Крошечная точечка. Но она росла, увеличивалась – ото дня ко дню, от недели к неделе, от месяца к месяцу, – пока тьма не вытеснила свет. Пока все не обернулось тьмой. Пока не осталось ничего, кроме тьмы, страха и боли, смерти,
Меня, как я вам сказала, зовут Джин Рид, а отца – Харлан Рид. Бог вложил в наше сердце любовь к отцам, и Бог же сделал так, что в сердцах дочерей чувство это гораздо сильнее, чем в сыновьях. Но Бог позабыл дать нам то, что могло бы избавить от боли, которую нередко приносит с собою любовь. Бог позволяет нам оглядываться назад, однако запрещает заглядывать вперед. А если мы и делаем это, то на свой страх и риск. И нет никакого лекарства, которое позволило бы предупредить боль, есть лишь одно, которое может только следовать за нею, – время.
Я потеряла мать, когда мне исполнилось два года и, по сути, ее не знала. Меня растил отец. Иногда думаю, что большей любви не бывает, – вообразите любовь к родному человеку в сочетании со всем спектром романтической любви, за исключением, разумеется, запретной. Так все было у нас. Может, это и нехорошо, но подобного наказания мы все же не заслужили. Случалось, например, что я падала, сбивала себе коленку или получала ссадину. Тут же бежала к отцу, а он брал меня на руки, и его сочувствие, точно бальзам, проливалось на ушибленное место. Так же он поступил тогда, когда в восемь, не то в девять лет я обнаружила в себе нечто странное. До тех пор я ничего не чувствовала; дети, если растут изолированно, в половых особенностях не разбираются. Подобное незнание могло мне повредить. Отец позаботился о том, чтобы ничего плохого не произошло. Прижег, простерилизовал, удостоверился в том, что не останется следа и отметины.
Как-то раз в школе незнакомая девчонка уселась передо мной на игровой площадке и, нахально глядя прямо в глаза, спросила:
– Ты ведь жутко богатая, правда?
Я, как бы защищаясь, слегка попятилась.
– Нет, не богатая, – неуверенно ответила я. Меня словно обвиняли в том, что барахтаюсь в каком-то противном жирном соусе.
– Нет, богатая, – не унималась та. – Мне сказали.
Когда что-то отвлекло ее внимание, я украдкой бросила взгляд на свое платье. Оно было чистым и опрятным. Беспокоиться вроде не о чем. Но я не на шутку встревожилась.
Вечером, придя домой, сразу же спросила:
– Что значит – быть богатым?
Отец заговорил медленно, чуточку грустно и очень мудро:
– Слушай меня внимательно. А завтра – забудь. Когда тебе исполнится восемнадцать или двадцать, ты обо всем вспомнишь. Тогда это тебе будет нужней. Быть богатым – значит, прежде всего, быть готовым к трудностям. Постоянно чувствовать себя одиноко: ты протянешь руку, а она повиснет в воздухе. Тебя никто по-настоящему не полюбит. То есть ты не сможешь определить, любят ли тебя ради тебя самой. Придется быть очень осторожной: всюду ждут ловушки.
– А что же мне делать? – растерянно спросила я.
– Только одно. Вести себя так, словно ты ничего не знаешь. Веди себя… живи и думай, словно ты и не подозреваешь о том, что богата. И тогда, возможно, мир станет к тебе снисходительней.
На другой день я уже действительно обо всем забыла. Да, да, на следующий же день. А вспомнила много лет спустя, как и предсказывал отец. Так бывает, когда бросишь что-нибудь в воду: сперва оно потонет и долгое время не показывается, потом опять всплывает. Итак, отец дал мне нечто вроде завета, и я старалась ему следовать.
Теперь о том, что непосредственно предшествовало дню, когда злосчастная капля так омрачила мое существование. У меня, разумеется, были свои дела, заботы и интересы. Жизнь казалась безоблачной, ей ничего не угрожало. Дружбы с ровесниками я не водила – чувствовала, что мне с ними неинтересно. Меня считали немножко странной и нелюдимой. Не любила компаний, тряпки меня тоже особенно не интересовали. Мне нравилось читать. А еще любила гулять под дождем с непокрытой головой, одна, засунув руки в карманы и задрав голову, чтобы ощущать, как по лицу стекает вода. Ничто, казалось, не предвещало беды.
И вот однажды вечером за обедом, за день или два до того, как упасть упомянутой капле, отец мимоходом заметил:
– Джин, похоже, в пятницу мне придется отправиться в Сан-Франциско.
– Надолго?
– На два-три дня. Туда и обратно.
И добавил несколько слов о партии шелка из Японии: предстояло что-то уладить.
Деловые поездки были для него не редкость. Он совершал их постоянно.
Увлеченная десертом, я только погрозила ему пальцем:
– Не лучше ли тебе отправиться в понедельник? Ты знаешь, какое в пятницу число? Тринадцатое…
Он хмыкнул – впрочем, на иную реакцию я и не рассчитывала, и мы заговорили о чем-то другом; служанка в это время стояла у буфета, наливая кофе.
День или два спустя, то есть в четверг вечером, накануне отъезда отца, к нам, насколько я помню, приехали гости. Горели свечи, обед был каким-то очень уж церемонным, что для нас с отцом означало определенную несвободу. Мы это давно уже с ним заметили. Приходилось, однако, мириться… Я надела то самое злополучное новое белое платье, а в нем мне не нравилось абсолютно все. И то, что оно новое, и что белое, и что, наконец, платье – и какое! Один конец укороченный, другой – удлиненный. Меня раздражало ощущение расфранченности, да к тому же еще этот дурацкий шлейф – куда ни пойдешь, всюду он за тобой тянется. Я предпочитаю джемперы и твидовые костюмы. Только в них чувствую себя по-настоящему удобно. А платья… Их, правда, тоже иногда приходится надевать, но я старалась делать это как можно реже.
В тот вечер сидела я, значит, при полном параде за обеденным столом и старалась поддержать беседу с людьми, к которым была совершенно равнодушна, как, впрочем, и к теме беседы. Речь, по-моему, шла о приватном концерте одной оперной певицы.
– Вы непременно должны прийти, – уговаривала меня престарелая, увешанная бриллиантами дама, сидевшая напротив. – Мы будем рады вас видеть.
– Постойте-постойте, вы сказали – завтра? – Я с облегчением вздохнула. – Завтра мы точно не сможем. Отец собирается лететь во Фриско.
Я бросила взгляд на отца, сидевшего во главе стола, чтобы он подтвердил мои слова. Так ведут себя сообщники.
В этот момент передо мной ставили на стол тарелку с супом, рука, державшая ее, дрогнула, и капля пролившегося бульона попала мне на платье; я почувствовала, как она обожгла меня, мгновенно просочившись сквозь легкую ткань.
Ответом моему укоризненному взгляду было вспыхнувшее лицо не успевшей выпрямиться служанки и оказавшееся в тот миг рядом с моим. Возможно, уместней было не обратить внимания на столь тривиальную промашку, но я не совладала с собой, о чем теперь сожалею.
Разговор тем временем продолжался, и я поспешила включиться в него.
– Для полета дата действительно не очень подходящая, – сказала я. – Ну а для концерта? – И тут услышала взволнованный голос у себя над ухом:
– Простите, мисс.
– Ничего страшного, – бросила я, не взглянув на служанку, и продолжала беседу: – Отец только делает вид, что поездки ему ужасно надоели, но я-то знаю – втайне радуется им.
– Уж это точно, – с притворным сожалением отозвался он. – И ничто не доставляет мне большего удовольствия, чем бритье в полете, особенно в тот момент, когда самолет попадает в воздушную яму. Вот где испытываешь настоящее наслаждение: подносишь бритву к виску, а лицо твое вдруг уходит вниз.
И в таком духе протекал весь разговор. Пятнышко, оставленное бульоном, уже высохло. А через час я бы о нем скорее всего забыла, но мне о нем напомнили, запечатлели, так сказать, в моем сознании.
Как только гости разошлись, я сразу же поднялась к себе и первым делом освободилась от своего наряда. Надев шерстяной халат, прилегла на кровать с книгой, как вдруг раздался стук в дверь и появилась та самая служанка.
Я даже не сразу сообразила, где могла ее видеть; сейчас она была в пальто из шотландки и в надвинутой на лоб шляпке.
– Что у вас?
– Могу я поговорить с вами, мисс?
– Что за вопрос! Но почему вы все еще здесь? На часах почти двенадцать.
– Знаю, мисс. Осталась специально, чтобы сказать вам, как сожалею о случившемся. – Она подошла к моему белому платью, небрежно брошенному на спинку стула, – я никогда особенно не слежу за вещами, – и склонилась над ним, выискивая пятно. – Надеюсь, вы простите меня, мисс. Самой мне себя точно не простить.
Я могу не обратить внимания, если меня окатят с головы до ног, но терпеть не могу, когда меня чистят щеткой. А именно это она, на мой взгляд, и пыталась сейчас делать, пусть всего лишь на словах.
– Не надо трагедий по пустякам, Эйлин, – запротестовала я. – Не хватало еще, чтобы вы из-за меня лишились сна. Да к тому же в этом платье я похожа на русский кулич. Не хватало только его окропить.
Она, однако, почему-то не уходила. У меня уже устала рука держать палец на странице томика Хемингуэя.
– Мисс Джин, я не о самом случае, а о том, что его вызвало. Вообще-то рука у меня твердая.
– Нет правил без исключений. И давайте на сем закончим.
Не тут-то было. Нет, вероятно, ничего отвратительней настойчивости кротких. Или, точнее, кажущихся таковыми.
– Я об авиарейсе.
– Каком еще авиарейсе?
– Которым полетит мистер Рид, мисс. Он сказал, что летит завтра. Я как раз стояла за вашим стулом.
До меня как-то не сразу дошло, что именно она имеет в виду. Я закрыла книгу и вопросительно посмотрела на нее:
– Вы имеете в виду тринадцатое число? Господи Боже мой, Эйлин, пора бы вам наконец повзрослеть.
Она покачала головой:
– Не то, мисс. Не в числе дело. Оно всего лишь номер.
– Спасибо, что напомнили, – съязвила я.
– Но этот самый самолет, который вылетает обратным рейсом… – Она заметила, что я насмешливо смотрю на нее. – Знаю, что не мое дело…
– Нет-нет, продолжайте, – спокойно разрешила я. – Даже интересно.
Она нервно ломала руки, подыскивая нужные слова:
– Не надо ему лететь этим самолетом. Можно ведь вылететь позже и позже вернуться.
– Понятно, – сухо заключила я. – Вам все известно заранее?
– Не надо ему лететь этим рейсом, – как бы оправдываясь, повторила она. – Отговорите его, мисс Джин. Не к добру, уверяю вас. Если он вылетит завтра…
– То?..
– Оттуда ему придется лететь в понедельник вечером.
– Ну и что?
Последние слова она произнесла через силу, как будто и не сказать боялась, и еще больше боялась говорить.
– Этот самолет… Обратный рейс на восток… С ним может случиться неладное.
– Да что вы? – снова съязвила я. – Теперь о подобных вещах бывает известно заранее?
– Нет, мисс, не бывает, – потупилась она. – Вы же знаете, что не бывает.
– Послушайте, Эйлин, я не против того, чтобы вы там у себя пропустили иногда рюмку-другую, но решительно против того, чтобы вы после этого заявлялись сюда и начинали доказывать сомнительную пользу выпивок.
– Бог с вами, мисс, я ведь совсем не пью, – еле слышно пробормотала девушка.
Взглянув на нее, я тут же поняла, что она и в самом деле не пьет. У нее было болезненно-бледное худое лицо и сухопарое тело. Такую свалил бы и один глоток.
– Вы когда-нибудь слышали о Кассандре,[2]2
Кассандра – в греческой мифологии дочь царя Трои Приама и Гекубы, наделенная даром предвидения.
[Закрыть] Эйлин? – сказала я чуть мягче. – Не думаю, чтобы она кому-нибудь нравилась. Вы ведь не хотите походить на нее, правда? Ходите тут, пугаете людей. Вас станут избегать, вы знаете?
Она уже, кажется, начала раскаиваться в том, что завела разговор.
– Простите, мисс, – заторопилась она. – Во всяком случае, докучать вам я не собиралась… – И уже на пути к выходу бросила: – Предостережение идет не от меня, мисс. От моих знакомых.
– Понятно. Выходит, они занимаются предсказаниями. Ну что ж, поблагодарите их от моего имени и скажите, что в подобной помощи я не нуждаюсь.
Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами, как будто я произнесла какое-то богохульство.
– Ах, мисс, мне, верно, не следовало говорить вам ни слова.
– А вы сказали, и меня это уже начинает утомлять. Спокойной ночи, Эйлин.
Она, видимо, не ожидала такого приема. В горле у нее застрял комок, который она безуспешно силилась проглотить.
– Спокойной ночи, мисс, – наконец выговорила она и закрыла за собой дверь.
Я вернулась к Хемингуэю и, улыбаясь, прочла абзац, в котором не было ничего смешного.
2
На следующий день я провожала отца в аэропорт. Таким он мне и запомнился. Всю дорогу мы разговаривали. Один раз я искоса посмотрела на него – просто так, без всякой задней мысли, как бывает, когда сидишь с человеком в машине, которая куда-то мчится, разговариваешь и случайно бросаешь на него взгляд. Такой момент остается в твоей памяти.
Он до сих пор у меня в голове, этот моментальный снимок, четкий и ясный, словно сделанный только сегодня. И сохранился, как сохранился бы настоящий снимок, отпечатанный на фотобумаге. Он напоминает о том, чего давно уже нет.
Отец выглядел таким мужественным, таким красивым. Возможно, потому, что его блестящие седые волосы резко контрастировали со всем остальным в нем, как бы неподвластным времени, – точно не скажу. Знаю только, что он производил на меня впечатление человека гораздо более молодого, щеголеватого, сильного, подтянутого и энергичного – называйте как хотите, – чем смазливые темноволосые красавцы, которым за двадцать пять. У него был прекрасный цвет лица – ровный румянец, на фоне которого резко выделялась белизна волос, всегда аккуратно причесанных и безупречно подстриженных, когда бы ты его ни встретил, и сзади, и на висках – подобные прически больше свойственны молодым. Видя, какой эффект создают его волосы, я начинала понимать, почему даже молодые люди в восемнадцатом столетии, как мужчины, так и женщины, носили напудренные парики.
А еще у него великолепная линия подбородка – линия костяка, не имеющая ничего лишнего. Когда отец говорил, движение подбородка под медно-розовой кожей вызывало мысли о силе. И не только о силе, но, возможно, еще и об упрямстве – но не как главной черте характера, – и о здравом смысле, а прежде всего – да, прежде всего об искренности. Не знаю, может ли подбородок каким-то образом свидетельствовать об искренности, скорее о ней судят по глазам, но при виде этой чистой линии подбородка, в покое ли, в движении, думалось почему-то именно о ней.
Глаза у отца, от насыщенной активной жизни, были ясные, прозрачные – глаза молодости, и они не уставали смотреть, не уставали и от того, что видели. Серо-голубые, они лучились добротой и нежностью, а морщинки вокруг них, когда эти глаза улыбались, подтверждали, что их обладатель понимает решительно все. По крайней мере, когда дело касалось меня, но, видите ли, мне ни разу не приходилось наблюдать, как они смотрят на других, поэтому я могу говорить только о себе.
Воротник его пальто из верблюжьей шерсти был приподнят – так обычно носят пальто молодые люди. Сидел он свободно, как и двигался, – все его суставы оставались подвижны, нисколько не стеснены возрастом. На коленях у него лежал портфель, и, разговаривая со мной, он иногда заглядывал в него, проверял, не оставил ли чего дома. Я как сейчас его вижу: светло-коричневая гладкая свиная кожа с клетчатой подкладкой. Год или два назад сама ему подарила его.
Одна рука у него была в перчатке, а вторую он снял, так как курил сигарету. Пальцы небольшие, но сильные (не терплю длинных и тонких!), какие и должны быть у мужчины. На одном пальце он носил витое золотисто-зеленое кольцо с печаткой. Насколько помню, это была его единственная драгоценность.
Покончив с бумагами, он закрыл портфель, нажав большим пальцем щелкнувший замок. Замочек имел правильную прямоугольную форму и блестел как зеркало. Помню, он потускнел, когда с него соскользнул палец, и снова прояснился – так бывает и с зеркалом, на которое подышишь. Порой мне кажется, что столь же краткий след остается в жизни и от нас – мимолетный, эфемерный, растворяющийся после нашего исчезновения.
Вот такой моментальный снимок храню я в памяти до сих пор, снимок отца, каким он был в минуты полной открытости. Снимок того, чего давно уже нет.
Когда добрались до аэропорта, у нас еще оставалось несколько свободных минут. Мы сидели в машине перед зданием аэровокзала, освещенного бледными размытыми лучами солнца. Я, помнится, даже не стала выключать двигатель, готовая в любой миг уехать. Никому из нас двоих и в голову не приходило, что я могла бы выйти из машины, немного проводить его. Зачем? Обычное ведь дело. Он летал часто. Лететь самолетом для него значило то же, что поехать на такси в центр города.
– Ты не пойдешь вечером к Эйнсли? – с улыбкой спросил он.
– Боже избавь! – поморщилась я. – У меня есть предлог не ходить.
– Да, кстати, – вспомнил он. – Если позвонит Бен Харрис, скажи ему, что встретимся в следующее воскресенье. Пусть приходит с той же компанией, что и в прошлый раз, – симпатичные ребята.
Я приложила палец ко лбу и тут же его убрала.
– Пожалуй, мне пора.
Он вышел из машины, захлопнул дверцу и, наклонившись, поцеловал меня.
– Опять узел не по центру, – заметила я. – Научишься ты когда-нибудь за ним следить? – Я поправила ему галстук.
– А что, насчет этого есть какое-то правило? – сухо поинтересовался он.
Я вдруг вспомнила вчерашнее, и мне почему-то стало смешно.
– Да, совсем забыла. Вечером ко мне зашла одна из служанок – Эйлин Магуайр. Все пыталась убедить меня, что тебе не следует возвращаться этим же самолетом. Кто-то из ее знакомых гадал на кофейной гуще – ты бы видел, как она всему верит, – от ее слез, что называется, ковер взмок.
Отец даже не сразу понял, о ком я говорю. Впрочем, заниматься служанками входило в обязанности миссис Хатчинс, он к ним не имел никакого отношения.
– Магуайр?! Это которая?
– Новенькая.
– И что же может произойти? – Он улыбнулся.
Я щелкнула пальцами:
– А вот об этом я у нее не спросила.
Он засмеялся. И я вместе с ним. Однако ему пора было идти.
– Жди меня во вторник утром, – бодро сказал он и направился к входу в здание.
– Пока, папочка.
Я включила скорость, не дожидаясь, когда за ним закроется дверь. А, ерунда! Сколько раз он уж летал! Я торопилась, поскольку записалась к своему мастеру в парикмахерской и не хотела опаздывать.
В тот вечер обедала одна. За столом мне опять прислуживала Эйлин Магуайр.
Она все делала молча, но лицо у нее было мрачным, и каждый раз, когда мы встречались взглядами, она опускала глаза. Я и думать забыла о вчерашнем, но, увидев ее, сразу все вспомнила, будьте уверены.
Я чувствовала: ей не терпится, чтобы я заговорила первой, дав ей таким образом повод продолжить давешний разговор. Но я рассуждала иначе: чего ради поощрять ее бредни?
Однако ее унылая мина, ее опущенные глаза не могли не действовать на меня. Если бы она их вообще не поднимала или постоянно смотрела вниз! Но то, как они опускались при встрече с моим взглядом, было просто невыносимо.
– Послушайте, Эйлин, давайте не будет нагнетать атмосферу. Мне все же хочется спокойно пообедать.
Она отошла к двери буфетной, но, видно, не могла уже сдерживаться:
– Он улетел, мисс?
Я резким жестом указала на его стул:
– Здесь его нет, так ведь. Значит, улетел.
Снова затронув тему, она хотела уйти. Вот она, смелость малодушных – клюнул и бежать. Но я задержала ее, чтобы раз и навсегда с этим покончить.
– Эйлин, ваши домыслы и вчера мне не показались очень остроумными. А сегодня тем более. Запрещаю вам говорить об этом. Кофе, пожалуйста, и вы свободны.
– Простите, мисс, – пробормотала она и исчезла за дверью.
Ну и ну! Я покачала головой, дивясь ее настырности, и закурила сигарету.
В субботу вечером опять обедала одна. И опять это встревоженное лицо. Опущенные глаза. Красноречивое молчание.
Я отодвинула тарелку и обернулась к ней:
– Эйлин, простите, но вы действуете мне на нервы.
– Я же ничего не сказала, мисс.
Что правда, то правда – не сказала. Всего лишь «добрый вечер», когда я вошла в комнату, но каким жалким голосом!
– А зачем говорить? Достаточно того, что вы все время на меня смотрите.
– Не могу не смотреть на вас, мисс. Мне нужно видеть, куда иду и что подаю…
Мне не хотелось быть мелочной, и я решила не продолжать, хотя чувствовала себя не в своей тарелке из-за того, что мне нанесли поражение в состязании, об участии в котором даже не подозревала. Нельзя же, в конце концов, запретить людям смотреть на тебя. Нельзя запретить им думать.
Но Эйлин постоянно напоминала мне о неприятностях, мозолила глаза. Она заронила в мою душу беспокойство. Достаточно было взглянуть на нее, ощутить рядом ее присутствие, и беспокойство начинало пробуждаться. Причем вера, убежденность не имели ко всему этому никакого отношения: раздражало уже само осознание факта.
Я встала и вышла из комнаты, не дожидаясь, когда она принесет кофе.
Я решила посоветоваться с миссис Хатчинс и пригласила ее в холл на втором этаже, где нас не могли подслушать. Она уже полтора десятка лет служила у нас экономкой. Когда мне исполнилось шестнадцать, начала называть меня «мисс», но я этому воспротивилась. В ней не было решительно ничего от профессиональной экономки, потому-то, наверное, она так хорошо справлялась со своими обязанностями. При виде ее возникала мысль о доброй, пожилой, несколько увядшей тетушке: на шее черная выцветшая лента, говорит тихо, никогда не повышая голоса, в характере ничего тиранического, ни даже властного. Я ее почти никогда не видела, однако дом функционировал как часы – ни одна песчинка не мешала его механизму. А это уже своего рода искусство. У меня самой так бы не получилось.
– Обед был хороший?
– Грейс, не будете ли вы так добры… – бодро начала я. И тут же умолкла. Что я могла сказать? О чем попросить? «Велите этой служанке не портить мне настроение»? Звучало как-то нелепо. Да и чего такими заявлениями добьешься? – Ах, ладно, я передумала, – оборвала я себя и быстро вышла.
Следующая наша встреча с Эйлин Магуайр произошла в воскресенье вечером. По утрам я обычно выпивала чашку кофе у себя в комнате, а днем куда-нибудь уезжала, так что обеденное время было единственным, когда мы могли с ней увидеться.
Я вошла в столовую, твердя себе: «Больше этого не повторится. Моя вина не меньше ее – я ей подыгрываю. Стоит мне прекратить, все кончится само собой. Чтобы создать такую напряженность, нужны двое».
Когда она выдвинула для меня стул из-под стола, я обратилась к ней с напускной оживленностью:
– Добрый вечер, Эйлин. Отличный сегодня денек, а?
– Превосходный, мисс, – с жаром отозвалась она. – Хорошо прокатились?
– Очень. А если бы вы видели, какие я цветы привезла!
Она вышла, что-то подала, снова вышла.
И почти тут же вернулась и, еще не дойдя до стола, сразу от двери буфетной заговорила с нарочитой беззаботностью:
– Денек просто на редкость! А солнце какое!
– Не будем повторяться, – мягко сказала я. Мне еще хотелось добавить: «Делайте свое дело, развлекать меня не нужно», но это, пожалуй, могло ее обидеть.
В тот момент она ставила передо мной тарелку, и я заметила, что тарелка дрожит, не будучи ни слишком тяжелой, ни слишком горячей.
Я подхватила тарелку и мягко опустила ее на стол.
– У вас так дрожит рука, – мягко заметила я. – Вам надо следить за собой.
Миссис Хатчинс, видимо, прочитала тогда в холле мои мысли и напомнила ей, что, обслуживая меня, она не должна забывать о приветливости. Маятник качнулся в другую сторону. Эйлин была возбуждена, она не знала, как себя вести, и, по-моему, из двух крайностей выбрала худшую.
– Такие дни в это время года, – опять начала она, – большая редкость. Если уж здесь так приятно, можно себе представить, как хорошо на поле для гольфа: лучшего дня для вашего…
Она замолчала, словно затормозила, – дрогнув всем телом. И, точно в последней попытке удержаться, ее рука взлетела вверх, ладонь прикрыла рот. Метнув взгляд в сторону отцовского места за столом, Эйлин потупилась. Она опустила руку, как бы желая исправить промашку, но теперь словно утратила дар речи и погрузилась в тупое молчание. Она стала медленно-медленно пятиться. На лице ее был написан ужас.
У меня самой к горлу подступил комок. Комок гнева. Но я не позволила голосу наполниться гневом, изо всех сил сдерживала себя, и голос мой прозвучал ровно, почти тихо:
– С отцом ничего не случилось. Не понимаю, почему бы вам не говорить о нем без этих ужасных недомолвок и гримас.
Я со вздохом встала из-за стола. Увольнять мне еще никого никогда не приходилось.
– Убирайтесь! – сказала я. – Это, наконец, невыносимо! Сделайте одолжение – убирайтесь отсюда! Получите у миссис Хатчинс месячное выходное пособие и… пожалуйста, уходите.
В глазах у нее блестели слезы, губы дрожали.
– Я же ничего такого не сделала, мисс. Вы несправедливы.
Отвернувшись, я намеренно смотрела в сторону.
– Нет уж простите. Вы заварили эту кашу, и я вам тут ничем помочь не могу. Зла на вас не держу – если это вас хоть чуточку утешит. Вас ни в чем не виню. Просто, когда вы уйдете, нам обеим станет легче.
Она уронила голову – вероятно, чтобы я не видела, как ее лицо превращается в красную плаксивую маску. Потом, так и не подняв головы, вдруг стала как-то странно кружиться – не на одном месте, а описывая все большие и большие круги (так иногда разворачивается при недостатке места колесный транспорт), – и наконец, как-то чудно семеня, выскочила из комнаты. Ручаюсь, столь смехотворного ухода никто еще никогда не видел. Я почувствовала себя низкой и бесчувственной. Но ведь поступала так, как мне подсказывало сердце, и если человек хочет быть честным с самим собой, он не может поступить иначе.
Я выкинула ее из головы, как выкинула из комнаты и из дома. Ей теперь нигде не было места, и я решила, что со всем этим покончено.
Наступил понедельник, догорел до полудня и стал клониться к вечеру. Чувства безопасности, невредимости, уверенности в будущем – все это привычки, от которых не так-то легко избавиться. Чтобы совладать с любой привычкой, хорошей или плохой, требуется время, во мне же они засели крепко. В мире не было ни страха, ни чего-либо похожего на испуг, машина ровно катила по дороге, солнце приятно грело плечи через ткань моего свободного кашемирового пальто, лицо ласкал легкий ветерок, спутник скорости. Я остановилась набрать бензина в бак и дала парню, который меня обслуживал, пятьдесят центов: его глаза так дружески мне улыбались. Скорее всего, я смотрела на него как на собственное отражение в зеркале – впрочем, это не имело значения.
– Симпатичная тачка, – восхищенно сказал он.
– Пай-девочка, – согласилась я. – Никогда не вредничает.
Крохотная девчушка помахала мне на одном из перекрестков, и я, высоко подняв руку, ответила ей. Маленькой я тоже любила махать проезжающим мимо, и мне бывало больно, если меня не замечали. Я не хотела, чтобы этой малышке тоже стало больно.
Бросив взгляд на часы, увидела, что скоро шесть. «Пожалуй, надо развернуться и катить обратно, – сказала я себе. – Вернешься поздно, создашь для всех проблемы на кухне».
Впервые за весь день я подумала об отце. По нашим часам шесть, значит, на Тихоокеанском побережье три. Разница в три часа. Ему еще предстояло провести шесть часов в Сан-Франциско. Вылет в девять по местному времени.
И тут я снова вспомнила о ней или, скорее, о том, что же именно она имела в виду. Воспоминание только вызвало у меня мимолетную улыбку, а Эйлин продолжала стоять рядом и стучаться в дверь моего разума. Я упорно не хотела открывать и впускать ее. Но она, оказавшись у порога, не желала уходить, не желала оставлять меня в покое.
Солнце уже садилось и больше не грело, но это, конечно, объяснялось поздним часом, а не моими мыслями. Я застегнула пальто и поудобней устроилась на сиденье, чтобы не озябнуть на свежем ветру.
Миновав здание телеграфной компании «Вестерн юнион», я какое-то мгновение наблюдала в зеркало заднего обзора, как оно уплывает от меня.
Не знаю, почему вдруг съехала на обочину, дала задний ход и медленно двинулась к тому месту, мимо которого только что проехала.
Остановившись, вышла из машины и направилась к зданию. У меня не было никаких определенных мыслей вроде: «Я вхожу сюда, чтобы сделать то-то и то-то». Я просто вошла туда, села за стол, придвинула к себе картонку с бланками и, взяв прикрепленный цепочкой карандаш, начала писать печатными буквами:
РИД ЭНД СЬЮЭЛЛ
ДЛЯ ХАРЛАНА РИДА
МАРКЕТ-СТРИТ САН-ФРАНЦИСКО
ВОЗВРАЩАЙСЯ ПОЕЗДОМ ВМЕ…
Тут я остановилась и огляделась по сторонам, совершенно не задумываясь о том, что меня окружало. Молочно-белая люстра под потолком, уже зажженная, хотя на дворе еще было светло. Низкорослый рассыльный, с виду лет двенадцати, на самом же деле, наверное, гораздо старше, в оливково-серой униформе, сидевший болтая ногами на скамье у стены в ожидании, когда надо будет нести очередную телеграмму. Мужчина у стойки, заполняющий бланк и механически подсчитывающий слова, даже не читая их. Толстенький кубик белых листков на стене – отрывной календарь, на самом верхнем – черное «16».