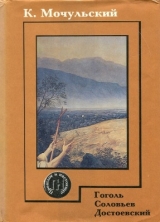
Текст книги "Гоголь. Соловьев. Достоевский"
Автор книги: Константин Мочульский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 80 страниц) [доступный отрывок для чтения: 29 страниц]
10. Смерть
В конце января 1852 года О. М. Бодянский навестил Гоголя и застал его за работой полным сил и энергии; Гоголь пригласил его на музыкальный вечер и обещал за ним заехать. Но вечер не состоялся. 26 января умерла жена А. С. Хомякова, сестра покойного друга Гоголя поэта Языкова. Эта смерть потрясла Гоголя; после панихиды, глядя на лицо покойницы, он сказал: «Ничто не может быть торжественнее смерти; жизнь не была бы так прекрасна, если бы не было смерти».
Хомяков рассказывает об этом следующее: "Смерть моей жены и мое горе сильно его потрясли; он говорил, что в ней для него снова умирают многие, которых он любил всей душой, особенно Н. М. Языков. На панихиде он сказал: «Все для меня кончено».
С этого момента, рассказывает Кулиш, он почувствовал, что болен тою самою болезнью, от которой умер отец его, именно что на него «нашел страх смерти».
Гоголь пророчески изобразил свою смерть в «Старосветских помещиках»; с детства он панически боялся таинственного зова среди бела дня, «после которого следует неминуемо смерть», и умер по той же причине, по которой умер Афанасий Иванович.
"Он вдруг услышал, что позади его произнес кто‑то довольно явственным голосом: «Афанасий Иванович»…
«Он весь покорился своему душевному убеждению, что Пульхерия Ивановна зовет его: он покорился с волею послушного ребенка, сохнул, кашлял, таял, как свечка, и, наконец, угас так, как она, когда уже ничего не осталось, что бы могло поддержать бедное ее пламя».
Это – точный диагноз болезни самого автора: Гоголь умер, потому что его позвала умершая Хомякова; он тоже «покорился» и тоже «истаял, как свечка».
Поверив в неминуемость смерти, писатель стал готовиться к ней подвижнически: говел на масленице; «перед принятием Святых Даров у обедни пал ниц и долго плакал». Большую часть ночей проводил без сна в молитве.
«Ночью с пятницы на субботу (8–9 февраля) он изнеможенный уснул на диване, без постели, и с ним произошло что‑то необыкновенное, загадочное: проснувшись вдруг, послал за приходским священником, объяснил ему, что недоволен недавним причащением и просит тотчас же опять причастить и соборовать его, потому что он видел себя мертвым, слышал какие‑то голоса и теперь почитает себя умирающим. По–видимому, после посещения священника он успокоился, но не прерывал размышлений, глубоко его потрясавших» (А. Т. Тарасенков). Плетнев писал Жуковскому: "Пропуская лишь несколько капель воды с красным вином, он продолжал стоять коленопреклоненный перед множеством поставленных перед ним образов и молиться. На все увещания он отвечал тихо и кротко: «Оставьте меня, мне хорошо». Друзья обратились к авторитету митрополита Филарета, и тот от имени Церкви велел больному подчиниться врачам, но он отказался.
В ночь на 12 февраля Гоголь сжигает «Мертвые души». По словам Погодина, придя в комнату, «он велел подать из шкафа портфель. Когда портфель был принесен, он вынул оттуда связку тетрадей, перевязанных тесемкой, положил ее в печь и зажег свечой из своих рук… После того как обгорели углы у тетрадей, Гоголь заметил это, вынул связку из печки, развязал тесемку и, уложив листы так, чтобы легче было приняться огню, зажег опять и сел на стуле перед огнем, ожидая, пока все сгорит и истлеет. Тогда он, перекрестясь, воротился в прежнюю свою комнату, поцеловал мальчика, лег на диван и заплакал».
На другой день Гоголь сказал А. П. Толстому: "Вообразите, как силен злой дух! Я хотел сжечь бумаги, давно уже на то определенные, а сжег главы «Мертвых душ», которые хотел оставить друзьям на память после своей смерти ".
Доктор Тарасенков, лечивший Гоголя, рассказывает о сожжении несколько иначе:
"Когда почти все сгорело, он долго сидел задумавшись, потом заплакал, велел позвать графа, показал ему догорающие углы бумаг и с горестью сказал: «Вот это я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все! Как лукавый силен, – вот он к чему меня подвинул! А я было там много дельного уяснил и изложил; это был венец моей работы: из него могли бы все понять и то, что неясно было у меня в прежних сочинениях… А я думал разослать друзьям на память по тетрадке: пусть бы делали что хотели. Теперь все пропало». Граф, желая отстранить от него мрачную мысль о смерти, с равнодушным видом сказал:
«Это хороший признак – и прежде вы сжигали все и потом писали еще лучше. Значит, и теперь это не перед смертью. Ведь вы можете все припомнить». «Да, – отвечал Гоголь, положив руку на лоб, – могу, могу, у меня все это в голове», – и, по–видимому, сделался спокойнее, перестал плакать "[10]10
А. В. Никитенко, со слов князя Д. А. Оболенского, записал в дневнике: "Гоголь кончил «Мертвые души» за границей и сжег их. Потом опять написал и на этот раз остался доволен своим трудом. Но в Москве стало посещать его религиозное исступление, и тогда в нем бродила мысль сжечь и эту рукопись. Однажды приходит к нему граф А. П. Толстой, с которым он был в постоянной дружбе. Гоголь сказал ему: «Пожалуйста, возьми эти тетради и спрячь их, на меня находят часы, когда это все хочется сжечь. Но мне самому было бы жаль. Тут, кажется, есть кое‑что хорошего». Граф Толстой из ложной деликатности не согласился. Он знал, что Гоголь предается мрачным мыслям о смерти и т. п., и ему не хотелось исполнением просьбы как бы подтвердить его ипохондрические опасения. Спустя дня три граф опять пришел к Гоголю и застал его грустным. "А вот, – сказал ему Гоголь, – ведь лукавый меня таки попутал: я сжег «Мертвые души». Он не раз говорил, что ему представлялось какое‑то видение. Дня за три до кончины он был уверен в своей скорой смерти ".
[Закрыть].
Обратимся к рассказу Н. Кулиша. «В понедельник на второй неделе поста духовник предложил ему приобщиться и пособороваться маслом. На это он согласился с радостью и выслушал все Евангелия, держа в руках свечу, проливая слезы. Во вторник ему как будто сделалось легче, но в среду обнаружились признаки жестокой нервической горячки, а утром в четверг 21 февраля его не стало»[11]11
За несколько часов до смерти Гоголь "бормотал что‑то невнятное, как бы во сне, и повторял несколько раз: «Давай, давай. Ну что же?» Часу в одиннадцатом он закричал громко: «Лестницу, поскорей давай лестницу!» Казалось, ему хотелось встать (А. Т. Тарасенков).
[Закрыть].
"Одними из последних слов, сказанных им еще в полном сознании, были слова: «Как сладко умирать» (Шевырев).
«Долго глядел я на умершего: мне казалось, что лицо его выражало не страдание, а спокойствие – ясную мысль, унесенную в гроб» (А. Т. Тарасенков).
За несколько дней до смерти Гоголь с усилием написал:
«Аще не будете малы, яко дети, не внидете в Царствие Небесное.
Помилуй меня грешного, прости Господи. Свяжи вновь сатану таинственною силою неисповедимого креста.
Как поступать, чтобы признательно, благодарно и вечно помнить в сердце моем полученный урок. И страшнее истории всех событий Евангель…»
* * *
Врачи разошлись в диагнозе болезни Гоголя; по–видимому, это была нервная горячка на почве истощения и острого малокровия мозга. Другими словами, Гоголь просто уморил себя голодом. Хомяков объяснял его кончину страхом смерти, «религиозным помешательством». Но можно предположить и иное. Гоголю было послано свыше откровение о смерти, он перестал бороться за жизнь, последние драгоценные дни употребил на христианское приготовление к великому таинству.
Вернемся теперь к вопросу о сожжении «Мертвых душ». В событии этом есть тайна, которая навсегда останется тайной. Мы уже говорили, что гипотеза о конфликте моралиста с художником должна быть отстранена. Почему же Гоголь сжег свою поэму?
На панихиде по Хомяковой Гоголь говорит мужу покойницы: «Все для меня кончено». Как Афанасий Иванович, он слышит голоса, предсказывающие ему смерть. Он уверен, что скоро умрет, настолько уверен, что почти перестает питаться. Мирские дела для него не существуют; две мысли делят между собой его сознание: достойно, по–христиански, приготовиться к смерти и распорядиться своим имуществом. Гоголь жил в полной бедности, но у него были рукописи. Как следовало с ними поступить? В конце января в Москву приезжает отец Матвей и остается до 5 февраля. В течение этого времени Гоголь несколько раз с ним подолгу беседует. Об этих беседах сохранился рассказ самого отца Константиновского, переданный прот. Образцовым («Тверские епархиальные ведомости», 1902 г.). Гоголь читал отцу Матвею вторую часть «Мертвых душ», и тот советовал не опубликовывать тех глав, где был изображен священник. «Это был живой человек, – рассказывал батюшка, – которого всякий узнал бы, и прибавлены такие черты, которых во мне нет, да и к тому же с католическими оттенками, и выходил не вполне православный священник». Более снисходительно, но все же неодобрительно отнесся о. Матвей к изображению генерал–губернатора.
По дошедшим до нас отрывкам второго тома мы можем судить о справедливости критики о. Матвея. Действительно, генерал–губернатор один из самых неудачных образов в поэме. Еще более естественно нежелание о. Матвея видеть в печати изображение священника, в котором странно сплетались его личные черты с «католическими оттенками». С мнением о. Матвея Гоголь не согласился; можно предположить даже, что, находясь в крайнем нервном возбуждении, он отвечал на критику о. Матвея в самом резком тоне: не успел тот уехать, как Гоголь, раскаявшись в своей горячности, пишет ему извинительное письмо.
«Отцу Матвею. 6 февраля 1852 г. Москва.
Уже написал было к вам одно письмо еще вчера, в котором просил извинения в том, что оскорбил вас; но вдруг милость Божия, чьими‑то молитвами, посетила и меня жестокосердного и сердцу моему захотелось вас благодарить крепко, так крепко. Но об этом что говорить. Мне стало только жаль, что я не поменялся с вами шубой. Ваша лучше бы меня грела. Обязанный вам вечной благодарностью и за гробом, ваш весь Николай».
Однако, несмотря на это сердечное письмо, совету о. Матвея Гоголь все‑таки не последовал, а через пять дней после его отъезда принял совсем другое решение: он сделал А. П. Толстому предсмертное распоряжение о своих произведениях, поручая часть их напечатать, а часть отдать на просмотр митрополиту Филарету. Это значит, что, неудовлетворенный мнением о. Матвея, Гоголь решает обратиться к высшему церковному авторитету: к тому же среди его рукописей находилась вполне отделанная работа «Размышления о божественной Литургии». Кажется естественным, что писатель, не будучи богословом, хотел представить это сочинение на суд пастыря церкви. Разговор с Толстым происходил 10 февраля, а в ночь на 12–е Гоголь сжигает рукописи. Событие это может быть объяснено в двух планах, между собой не соприкасающихся, а потому и не противоречащих друг другу. Первый план – психологический; ночью Гоголь внезапно чувствует, что умирает; страх смерти затемняет его сознание. К этому присоединяется приступ его обычной нервной болезни: гиперболической работы воображения. О симптомах ее Гоголь рассказывал Ф. В. Чижову в 1849 году. «У меня все расстроено внутри: я, например, вижу, что кто‑нибудь спотыкнулся; тотчас же воображение за это ухватится, начинает развивать – и все в самых страшных призраках. Они до того меня мучат, что не дают мне спать и совершенно истощают мои силы».
Если такой ничтожный повод мог вызвать в воображении Гоголя «страшные призраки», то что должно было происходить в его несчастной душе при приближении смерти? В эту минуту каждая неотделанная строка, каждый неудачный образ, каждое двусмысленное слово разрастались кошмаром. Возможно, что припомнились и неодобрительные слова о. Матвея и уж теперь прозвучали угрозой вечных мук. Намереваясь уничтожить эти главы, Гоголь в состоянии невменяемости сжигает и несколько других. Когда он приходит в себя и замечает свою ошибку, то говорит Толстому: "Я хотел сжечь бумаги, давно уже на то определенные, а сжег главы «Мертвых душ», которые хотел оставить друзьям на память после моей смерти ". В. Гиппиус («Гоголь». Ленинград, 1924 г.) убедительно доказывает, что у нас нет оснований считать эти слова Гоголя мистификацией. Бросил в огонь тетради, перевязанные тесемкой, не посмотрел, сжег по ошибке и то, что не хотел сжигать. Если бы хотел сжечь всю вторую часть, то почему «забыл» в шкафу рукопись с четырьмя первыми и одной из последних глав поэмы?
Наконец, Погодин в статье о последних днях Гоголя, помещенной в «Москвитянине» непосредственно после смерти писателя, приводит слова, сказанные им слуге Семену сейчас же после сожжения: «Иное надо было сжечь, а за другое помолились бы за меня Богу, но Бог даст, выздоровею и все поправлю». Это свидетельство вполне совпадает с рассказом Тарасенкова о разговоре Гоголя с графом Толстым.
Несомненно, что Гоголь совершил сожжение в состоянии умоисступления; очнувшись, он раскаивался в нем и плакал.
Таково объяснение в плане психологическом; но возможно и другое объяснение, в плане мистическом; оно вполне законно, так как относится к мистику, который, подобно всем духовидцам, переживал состояния благодати и безблагодатности, имел видения света и тьмы и с сознательного возраста вел упорную и тяжкую борьбу со злыми духами. Не признать реального вмешательства дьявола в жизнь Гоголя – значит зачеркнуть весь духовный его путь.
Ту особенность своего душевного состояния, о которой Гоголь рассказывал Чижову и которую мы назвали гиперболической работой воображения, писатель воспринимал также и в образах мистических. Неудачу «Переписки» он объяснял «чудовищной преувеличенностью», до которой были доведены в ней некоторые, по существу правильные мысли. И в этом видел он вмешательство темной силы. «А дьявол, который тут как тут, – писал Гоголь отцу Матвею в 1848 году, – раздул до чудовищной преувеличенности даже и то, что было даже и без умысла учительствовать».
В трагическую ночь на 12 февраля в душе Гоголя свершилась последняя борьба с дьяволом. Дьявол «раздул до чудовищной преувеличенности», до «страшных призраков» его сомнения в пользе своего литературного наследия. Он подсунул ему тетрадки, перевязанные тесемкой, он заставил его бросить их в огонь.
«Вообразите, как силен злой дух!» – сказал Гоголь А. П. Толстому. А в предсмертной молитве написал: «Прости Господи. Свяжи вновь сатану таинственною силою неисповедимого Креста».
Последнее испытание было пережито. Гоголь причастился, соборовался и сподобился христианской кончины.
11. Заключение
Оглядываемся на путь, пройденный нами по следам Гоголя. Одно впечатление преобладает над всеми: жизнь Гоголя полна таинственного смысла и трагического величия. Прав Иван Аксаков, сказавший о Гоголе: «Жизнь его представляет такую великую, грозную поэму, смысл которой останется долго неразгаданным».
Думаем, что смысл жизни Гоголя не будет никогда разгадан; он лежит в той области, на пороге которой изнемогают все человеческие домыслы.
Но какой скорбный, какой страшный путь! Какими непрерывными, многообразными и изощренными страданиями куплено его величие! Жизнь Гоголя – сплошная пытка, самая страшная часть которой, протекавшая в плане мистическом, находится вне нашего зрения. Человек, родившийся с чувством космического ужаса, видевший вполне реально вмешательство демонических сил в жизнь человека, воспринимавший мир sub specie mortis, боровшийся с дьяволом до последнего дыхания, – этот же человек «сгорал» страстной жаждой совершенства и неутолимой тоской по Богу. Душа Гоголя – сложная, темная, предельно одинокая и несчастная; душа патетическая и пророческая; душа, претерпевшая нечеловеческие испытания и пришедшая ко Христу.
В Гоголе дано наивысшее напряжение противоположностей, наибольшее раздвоение.
«Я не знаю, – пишет С. Т. Аксаков, – любил ли кто Гоголя. Я думаю, нет; да это и невозможно. Вот до какой степени Гоголь для меня не человек, что я, который в молодости ужасно боялся мертвецов, не мог произвести в себе этого чувства во всю последнюю ночь».
И тот же С. Т. Аксаков заявляет: «Я признаю Гоголя святым, это истинный мученик нашего времени и в то же время мученик христианства».
И «не человек», и «святой» – это масштаб души Гоголя.
Владимир Соловьев. Жизнь и учение
Предисловие
Вл. Соловьев учил о целостности человеческой природы: человек есть живое духовное единство, воплощенный дух и одухотворенная плоть. Только исходя из центра его существа, можно понять смысл его судьбы, историю его жизни и ценность его творчества.
Между тем по отношению к самому Соловьеву этот синтетический метод никогда не применялся; его философия обычно излагалась отдельно от жизни, идеи отвлекались от переживаний, учение – от личности. В результате его умозрительные построения приобретали вид схем и абстракций, а биография превращалась в перечисление малозначащих фактов.
В основе настоящей работы лежит изучение личности философа. Необходимо восстановить внешнюю историю его жизни, проследить пути его душевного развития, подойти к проблеме его духовного сознания. Мы располагаем разнородными и нередко противоречивыми материалами: письмами, стихами, философскими сочинениями, критическими и полемическими статьями, свидетельствами современников. При пользовании ими нужна большая осторожность. Соловьев не любил и не умел «высказывать» себя, а современники плохо его понимали. Он был человеком «закрытым»: окруженный друзьями, учениками, почитателями, он прожил беспредельно одинокую жизнь. Во всей русской литературе нет личности более загадочной; его можно сравнить только с Гоголем. У Соловьева было множество ликов, но настоящее лицо его почти неуловимо. О самом святом для него он предпочитал говорить в шутливой форме, любил издеваться над собой и мистифицировать друзей. Был ли он самим собой в своей философии, в своей цер–ковно–общественной деятельности, в своей поэзии? В «Альбоме признаний» Т. Л. Сухотиной сохранился его ответ на вопрос: кем желали бы вы быть?» – «Собою, вывороченным налицо». И может быть, все десятитомное собрание его сочинений – только его «изнанка».
Кем же был Соловьев?
Нам кажется, что нельзя проникнуть в его «тайну», не поверив в подлинность его мистического опыта. С детских лет Соловьев жил «в видениях и грезах» и эти видения считал «самым значительным» в своей жизни. Он был мистиком, обладал реальным ощущением сверхчувственного, видел лицом к лицу «божественную основу» мира, встречался с таинственной «Подругой Вечной». Конечно, можно отвергнуть прозрения и пророческие предчувствия Соловьева как соблазн и субъективную иллюзию, но тогда придется отвергнуть и все его религиозно–философское творчество, ибо все оно, как из зерна, вырастает из первоначальной мистической интуиции. Только в свете видений Подруги Вечной раскрывается смысл его учения о «положительном всеединстве», о Софии и о Бого–человечестве, становится понятной его идея свободной теократии и проповедь соединения церквей.
Но мистический опыт вовсе не означает святости, и было бы совершенно неправильно сравнивать созерцания философа с опытом святых. У Соловьева нередко «духовное» находилось в мучительном разладе с «душевным»; в его прозрениях бывали «подмены»; небесная лазурь заволакивалась иногда астральными туманами, и мистическое искажалось оккультными примесями. Его природа была глубоко эротической, и «злое пламя земного огня» постоянно врывалось в его религиозноесознание. Его этика, эстетика и теория любви окрашены эротически И только в конце жизни, после тяжких испытаний и разочарований, он преодолел наконец этот соблазн, и его благоговейное почитание Вечной Женственности очистилось от «эротических вихрей».
Первоначальная интуиция всеединства лежит в основе вдохновенного учения Соловьева о Софии Премудрости Божией. Он первый указал путь к построению православной космологии и антропологии, и русская богословская и философская мысль пошла по проложенной им дороге.
Вершина его творчества – гениальное учение о Богочеловечестве, о божественности человека и человечности Бога, о смысле мировой истории, как процесса богочелове–ческого. Раскрывая в философских понятиях величайшую истину православия, заключенную в Халкидонском догмате, Соловьев делает из нее практические, церковно–обще–ственные выводы. Он начертывает план «христианской политики» и проповедует вселенское христианство. Один из первых в России, он говорит об экуменизме и социальной миссии церкви.
«Лучшие годы» философа посвящены служению идее свободной теократии и проповеди соединения церквей. На этом пути ждут его самые горькие разочарования. К концу жизни он отказывается от «внешних замыслов» и признает свою теократию утопией.
«Теократический» период сменяется «эсхатологическим». С юных лет интуиция всеединства и софийности мира сочеталась в его душе с напряженным предчувствием надвигающегося конца. Он верил, что исторический процесс приближается к своему завершению, и ждал Страшного Суда над историей. В молодости он думал, что преображение мира произойдет эволюционным путем, что Царство Божие осуществится в земных формах, в виде свободной теократии. Перед смертью конец мира представлялся ему катастрофическим: до Второго Пришествия будет царство Антихриста и только небольшая горсточка христиан останется верной Христу. Историосо–фические построения Соловьева завершаются потрясающим финалом «Повести об Антихристе».
В статье «Жизненная драма Платона» Соловьев изображает творчество греческого философа как жизненную трагедию, главным героем которой является он сам. Между судьбою Платона и судьбой его русского ученика существует тайное сходство. И у Соловьева было острое чувство неправды этого мира, стремление построить иной идеальный мир, где правда живет, теория Эроса, попытка преображения вселенной и, после крушения ее, замысел реформировать общество.
Показать творчество Соловьева в его внутреннем единстве как жизненную драму «автора» – такова задача нашей работы.
Вопрос о влиянии философа на русскую культуру мог бы быть предметом особого исследования. Соловьев подготовил блестящий русский Ренессанс конца XIX и начала XX века; он был предтечей возрождения религиозного сознания и философской мысли, вдохновил своими идеями целое поколение богословов, мыслителей, общественных деятелей, писателей и поэтов. Самые замечательные наши богословы, Бухарев, о. Павел Флоренский, о. С. Булгаков, духовно с ним связаны. Философия братьев Сергея и Евгения Трубецких, Лосского, Франка, Эрна, отчасти Л. Лопатина и Н. Бердяева восходит к его учению о цельном знании и о Богочеловечестве. Его мистические стихи и эстетические теории определили пути русского символизма, «теургию» Вячеслава Иванова, поэтику Андрея Белого, поэзию Александра Блока.
Еще сильнее и глубже было непосредственное воздействие его личности. От Соловьева исходила таинственная притягательная сила, необъяснимое обаяние, которое одинаково захватывало столь различных людей, как Константин Леонтьев и Александр Блок. Образ «Философа» поражал воображение. Его удивительная судьба окружалась легендой. Он был знаменем, вокруг которого объединялись и за которое боролись.








