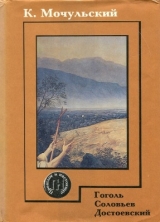
Текст книги "Гоголь. Соловьев. Достоевский"
Автор книги: Константин Мочульский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 80 страниц) [доступный отрывок для чтения: 29 страниц]
Это свидетельство поразительно: Соловьев убежден, что в своей защите католичества и проповеди единой вселенской церкви он остается верен принципам славянофильства. Расхождение с Аксаковым кажется ему простым недоразумением, а обвинение в увлечении латинством – клеветой. Он не может понять, что его «вселенская» точка зрения еще недоступна современникам, что историческое разделение церквей не может быть сразу же преодолено актом личного вхождения в единое мистическое тело Церкви. Он просто отказывается от выбора между католичеством и православием, отрицает историческую действительность и ставит себя в небывалое доселе положение – первого и единственного члена вселенской церкви. Необычайно религиозное дерзновение этого замысла, необычайна трагичность этого т^овного одиночества. Соловьев верит, что вероисповедные перегородки до неба не доходят, и он считает их несуществующими. Но он живет еще на земле, и ему прихолится постоянно на них наталкиваться, разбивать о них голову. Позиция его между католическим и православным миром кажется двусмысленной и соблазнительной. Он принадлежит и тому и другому, но принадлежит лишь в теории. На практике он вне этих миров, он выше их, и его не понимают ни католики, ни православные; «слишком ранний предтеча слишком медленной весны».
В 1884 году на статью Соловьева «О народности и народных делах России» Ив. Аксаков отвечает резкой отповедью в «Руси» («Против национального самоотречения и пантеистических тенденций, высказавшихся в статьях В. С. Соловьева») [51]51
И. С. Аксаков. Полное собрание сочинений. Том IV. СПб., 1903.
[Закрыть]. Он признает искренность автора, но «искренность эта человека отвлеченного и диалектика, которому дороже всего диалектический вывод и мало заботы до его мучительных для жизни результатов, для которого fiat logica et pereat mundus». Соловьев призывает русский народ к национальному самоотречению; во всех его умствованиях отсутствует любовь к ближайшим своим братьям. Аксаков с негодованием восклицает: «Лжет, нагло лжет, или совсем бездушен тот, кто предъявляет притязание перескочить прямо во «всемирное братство» через голову своих ближайших братьев, – семьи или народа, или же служить всему человечеству, не исполнив долга службы во всем его объеме своим ближайшим ближним», – и заканчивает: «Похвально для русского желать воссоединения церквей, но для правильного суждения об этом необходимо предварительно теснейшее воссоединение с духом собственного народа. Г. Соловьев не обще–человек, а потому напоминаем ему мнение Хомякова: «Истинное знание дается только жизни, не отделяющей себя от народа».
Аксаков писал в пылу гнева, и его упреки Соловьеву не вполне справедливы, но он правильно почувствовал слабые места противника – диалектический и теоретический характер его построений и отсутствие внутренней органической связи с народной русской стихией. Соловьев не был укоренен в русской жизни; ему была чужда крепость и цельность славянофилов. Менее всего он был человеком «почвенным», связанным с укладом и строем старого помещичьи–крестьянского быта. В своем мироощущении он бьш «без роду и племени», бездомным скитальцем, несколько абстрактным «всечеловеком». Оторванность от быта, от органических стихий мира придают его образу призрачность, бесплотность и невесомость. Он не внедряется в жизнь, а скользит по ней как тень. Он – «не от мира сего».
Статья Аксакова рассеяла последние иллюзии Соловьева. Нельзя было продолжать говорить о «верности славянофильским принципам». Налицо было не досадное недоразумение, а глубокий разрыв. Соловьев резко полемизирует с Аксаковым, стараясь, однако, не превращать идейное расхождение в личную ссору. В последнем письме к нему (апрель 1884 г.) он пишет: «Как в прошлом году я не желал, чтобы «Великий спор» породил маленькую ссору между нами, так и теперь не желаю, чтобы народные дела России дурно повлияли на наши личные отношения. Я сердился на Вас несколько времени за чересчур сердитый тон Вашей первой статьи и за некоторые совершенно несправедливые замечания Ваши. Но, кажется, ни Вы, ни я вечно сердиться не можем».
Аксаков принял протянутую руку и не менее великодушно ответил Соловьеву. «То, что Вы не сердитесь, – писал он, – облегчает мою душу. Я не без душевной боли и нападал на Вас. Напасть же, и напасть резко, я почитал своим долгом, ибо проповедовать России национальное самоотречение, когда мы от него именно страдаем, это от духа лестча. До свиданья, надеюсь. Когда начнется летний сезон, милости просим к нам на дачу».
На этом переписка между ними прекратилась: примирение осталось чисто внешним, порванную духовную связь возобновить им не удалось.
* * *
Полемика Соловьева с славянофилами по национальному вопросу продолжалась более восьми лет [52]52
Эти журнальные статьи (числом 15) были впоследствии изданы автором в двух выпусках под общим названием «Национальный вопрос в России» (Выпуск I, 1883—1888. Выпуск II, 1888—1891).
[Закрыть]. Сначала сдержанная и корректная, она становилась постепенно все более резкой и ожесточенной. Соловьев проявил себя блестящим, остроумным и смелым публицистом. В русской литературе рядом с ним можно поставить одного Герцена, но и тот уступает ему в силе диалектики, выразительности формулировок и логической ясности мыслей. У Соловьева – темперамент бойца, страстная убежденность, нравственный пафос, праведный гнев. Борьба его вдохновляет: он наносит жестокие удары и как будто любуется их силой и меткостью. Его холодная беспощадность и непогрешимая ловкость производят иногда тягостное впечатление. Он действует во имя христианской любви, но в нем есть какое‑то нездоровое упоение разрушением. К тому же славянофилы, которых он уничтожает, – его родные братья: он сам вышел из их лагеря, идеологически тесно с ними связан, продолжает начатое ими дело.
Соловьев противополагает положительную силу народности отрицательной силе национализма. Национализм ставит выше всего исключительный интерес одного народа. От такого патриотизма избавила нас кровь Христова, пролитая иудейскими патриотами во имя своего национального интереса. «Аще оставим Его так, вси уверуют в Него, и приидут Римляне и возьмут место и язык наш…» Если руководиться только политикой интереса, тогда допустимо всякое злодейство: Англия морит голодом ирландцев, давит индусов, отравляет опиумом китайцев. Лучше отказаться от патриотизма, чем от совести. Народность есть не высшая идея, а природная историческая сила, которая сама должна служить высшей идее. С христианской точки зрения следует ценить народность не саму по себе, а только в связи с вселенской христианской истиной. Поэтому Россия должна отречься от своего национального эгоизма и признать себя частью вселенского целого. Самоотречение не есть самоубийство, напротив, – это нравственный подвиг, высшее проявление духовной силы.
«Под русской народностью, – пишет Соловьев, – я разумею не этнографическую только единицу с ее натуральными особенностями и материальными интересами, а такой народ, который чувствует, что выше всех особенностей и интересов есть общее вселенское дело Божие, – народ, готовый посвятить себя этому делу, народ теократический по призванию и по обязанности».
Поздние славянофилы извратили вселенскую идею своих предшественников; так называемое «русское направление» выступило во имя русских начал и поставило национальный элемент выше религии. Православие превратилось в атрибут народности.
Впоследствии, в пылу полемики, Соловьев перестает различать два момента в развитии славянофильства. Все славянофилы, Ив. Киреевский и Хомяков, Аксаковы и Данилевский, Страхов и Катков, сливаются пред ним в одну массу, в одного врага, которого надо сокрушить. Он пишет, что славянофильство уже совершило свой круг: выросло, отцвело и принесло плод. Дурные качества этого плода доказывают, что дело славянофилов никуда не годилось. Катков «разъяснил недоразумение» этой школы. В нем она нашла свою Немезиду: он освободил религию народности от всяких идеальных прикрас и объявил народ предметом веры во имя его силы. Эта сила представлена государством, а поэтому правительство есть живое личное слово обожествленного народа.
«Поклонение своему народу, – продолжает Соловьев, – как преимущественному носителю вселенской правды; затем поклонение ему как стихийной силе, независимо от вселенской правды, наконец, поклонение тем национальным односторонностям и аномалиям, которые отделяют народ от образованного человечества, – вот три фазы нашего национализма».
В 1891 году Соловьев подводит итоги борьбы: враг окончательно уничтожен. •Славянофильство, – пишет он, – в насто–жшее время не есть реальная величина; никакой «наличности» оно не имеет… Славянофильство умерло, и этот факт не изменится, если разложение называть развитием».
В письме к А. Н. Аксакову он заявляет, что ему было суждено нанести этому учению последний удар – coup de grâce.
Но и в минуту торжества над врагом ненависть победителя не смягчается. Несправедливой суровостью дышит его отходная славянофильству: «Грех славянофильства не в том, что оно приписало России высшее призвание, а в том, что ово недостаточно настаивало на нравственных условиях такого призвания. Оно забыло, что величие обязывает; провозгласило народ Мессией, а он стал действовать как Варавва. Оказалось, что глубочайшей основой славянофильства была не христианская идея, а зоологический патриотизм».
Соловьев был прав в своем обличении эпигонов славянофильства; благодаря его полемике их языческий национализм, прикрывавшийся официальным народничеством, и обскурантизм, прятавшийся за официальное православие, были обнаружены и заклеймены. Прав он был и в том, что и в раннем славянофильстве подметил противоречивое смешение христианского универсализма с национальной гордостью. Но он был глубоко несправедлив, ставя на одну доску Хомякова и Страхова, Ив. Киреевского и Астафьева. Он осуждал все дело славянофилов на основании политики Каткова и Победоносцева и не хотел видеть громадного значения этой школы в истории русского сознания.
* * *
В curriculum vitae 1887 года Соловьев пишет, что после оставления профессорской деятельности он сосредоточил свои занятия «на вопросе о соединении церквей и о примирении христианства с иудейством». Первое его соприкосновение с еврейским миром происходит в 1881 году: он задумывает статью об иудействе и знакомится с «талмудским юношей» Файвелем Бенциловичем Гецом, который снабжает его книгами по еврейскому вопросу. Дружба Соловьева с Гецом продолжается до самой смерти философа. Уже в первом письме к нему Соловьев выражает свою глубокую симпатию к еврейскому народу. «Я в последнее время имел случай убедиться, – пишет он, – что в действующей русской интеллигенции самый честный элемент есть все‑таки еврейский». В связи с работой над теократией он принимается за изучение древнееврейского языка и берет уроки у Геца; три года читает Библию и Талмуд. Бывало, рассказывает Гец [53]53
Статья Ф. Геца «Об отношении Вл. С. Соловьева к еврейскому вопросу» в «Вопросах философии и психологии». Кн. 56. 1901 г.
[Закрыть], «придет Вл. С. ко мне часов в десять вечера и останется до двух часов ночи и позже… Главное, он интересовался объяснениями и толкованиями талмудических и раввинских комментаторов. Потом взялся за изучение Талмуда. Прочел у меня трактаты «Абот», «Абода–зара», «Иома», «Сукку»; читал также немецкие книги о талмудической письменности, занимался еврейской историей и литературой». Плодом этих занятий явилась «История ветхозаветной теократии», составляющая первый том «Истории и будущности теократии».
Теократическая концепция Соловьева связана с изучением истории «боговластия» Ветхого Завета. Самая идея теократии – чисто иудаистическая; заблуждение философа заключалось в том, что он переносил ее в историю христианской церкви и пытался подчинить «царство благодати» порядку «царства подзаконного».
В 1884 году появляется большая статья Соловьева «Еврейство и христианский вопрос». «Еврейский вопрос есть вопрос христианский», – заявляет автор. Иудеи всегда относились к христианам, согласно предписаниям своей веры, по–иудейски; христиане же доселе не научились относиться к иудейству по–христиански. В еврейском вопросе христианский мир обнаруживал доныне или ревность не по разуму, или бессильный индифферентизм. И то и другое отношение чуждо христианского духа. Автор признает только религиозное разрешение еврейского вопроса. «Мы потому отделены от иудеев, что мы еще не вполне христиане, и они потому отделяются от нас, что они не вполне иудеи. Ибо полнота христианства обнимает собой и иудейство, и полнота иудейства есть христианство». Чтобы понять евреев, надо ответить на три вопроса: 1) почему Христос был иудеем, почему краеугольный камень вселенской церкви взят в доме израилевом? 2) почему большая часть Израиля не признала своего Мессию? и 3) почему наиболее крепкие в религиозном отношении части еврейства вдвинуты в Россию и Польшу?
В национальном характере еврейского народа автор отмечает три главные черты. Евреи прежде всего отличаются глубокой религиозностью, затем крайним развитием самосознания и самодеятельности и, наконец, крайним материализмом. В иудейской религии начало божественное и начало человеческое пребывают нераздельно, но и неслиянно. «Наша религия, – пишет Соловьев, – начинается личным отношением между Богом и человеком в древнем завете Авраама и Моисея и утверждается теснейшим личным соединением Бога и человека в новом завете Иисуса Христа». Эти два завета суть две ступени одной и той же богочеловеческой религии. Еврейский материализм следует понимать в религиозном смысле: иудейская мысль не отделяла дух от его конкретного выражения: она видела в природе не диавола и не Божество, а лишь недостроенную обитель богочелове–ческого духа. Идея святой телесности стоит в центре религиозной жизни Израиля. Вот почему Бог открылся как личность и воплотился именно среди израильского народа; вот почему еврейство есть избранный народ Божий.
По мнению Соловьева, искажение национального характера евреев объясняется перевесом человеческих особенностей над религиозным элементом: национальное самочувствие превращается тогда в национальный эгоизм, а материализм становится корыстолюбием.
«Окончательная цель для христиан и для иудеев одна и та же – вселенская теократия, осуществление божественного закона в мире человеческом. Но в христианстве нам открылся сверх того и путь к этой цели, и этот путь есть крест. Вот этого‑то крестного пути и не сумело понять тогдашнее иудейство». Крест Христов требовал от иудейского народа двойного подвига: отречения от своего национального эгоизма и временного отказа от земного благополучия. Если для иудеев идея креста, налагаемого на человека, являлась уже большим соблазном, то крест, поднятый самим Богом, стал для них соблазном соблазнов. Доказать им, что они ошибаются, можно только фактически, осуществляя на деле христианскую идею. Вот почему еврейский вопрос есть вопрос христианский.
В заключение автор впервые набрасывает свой план будущего теократического строя. Полнота его требует равномерного развития трех орудий Божественного правления – священства, царства и пророчества. Ветхозаветная теократия вознесла пророческое служение в ущерб двум другим; западное христианство утвердило преимущественно священство; на долю Византии выпало одностороннее развитие царства. Но эти три начала, разъединенные в наше время, бессильны осуществить в полноте христианскую идею. «Можно было бы отчаяться в судьбах христианства, – пишет Соловьев, – если бы в запасе всемирной истории не хранились еще свежие силы – силы славянских народов». Он верит, что теократическое царство явится соединением всемирного священства (папства) с русским царством. Посредницей этого соединения будет Польша, ибо «весь смысл и вся сила польского народа в том, что среди славянства, перед лицом Востока, она носит и представляет католичество». И автор пророчествует:«Наступит день, и исцеленная от долгого безумия Польша станет живым мостом между святыней Востока и Запада. Могущественный царь протянет руку помощи гонимому первосвященнику. Тогда восстанут и истинные пророки из среды всех народов и будут свидетели царю и священнику. Тогда прославится вера Христова, тогда обратится народ Израилев».
В теократическом царстве евреям будет принадлежать экономическая, материальная область. «Как некогда цвет еврейства послужил восприимчивой средой для воплощения Божества, так грядущий Израиль послужит деятельным посредником для очеловечения материальной жизни и природы, для создания новой земли, идеже правда живет».
Статья о еврействе – одна из самых замечательных работ Соловьева. Он был первым русским мыслителем, смело заявившим, что «еврейский вопрос есть христианский вопрос». После выступления Соловьева «идеологический антисемитизм» стал более невозможным. Он сорвал с него все маски и показал его антихристианский, звериный характер. На чем бы ни строилась в дальнейшем «христианская политика», она не может не считаться с идеями Соловьева: совершенный им акт мужества и справедливости изменил что‑то внутри христианского мира.
* * *
Еврейству и его истории посвящен ряд других статей Соловьева: «Новозаветный Израиль» (1885), «Талмуд и новейшая полемическая литература о нем в Австрии г Германии» (1886), «Евреи, их вероучение и нравоучение» (1891), «Когда жили еврейские пророки?» (1896).
Соловьев принимает близко к сердцу судьбу русских евреев, борется с юдофобством «русского направления», протестует против преследований евреев, ратует за их полное равноправие. Узнав в 1886 г. о новой волне погромов, он пишет Гецу из Загреба: «Что же нам делать с этой бедой? Пусть благочестивые евреи усиленно молят Бога, чтобы Он отдал судьбы России в руки религиозных и вместе с тем разумных и смелых людей, которые и хотели бы, и умели, и смели сделать добро обоим народам». В 1887 году он с радостью сообщает Гецу, что уже прочел по–еврейски всех пророков. «Теперь, слава Богу, могу хотя отчасти исполнять долг религиозной учтивости, присоединяя к своим ежедневным молитвам и еврейские фразы». Он цитирует по–еврейски стихи из псалмов Давида. Его перо «всегда готово к защите бедствующего Израиля». Когда в 1888 г. Ф. Гец задумывает издание еврейского журнала, Соловьев дает ему рекомендательные письма на имя цензоров Майкова и Феоктистова. В 1890 году он предлагает Льву Толстому составить текст протеста против антисемитизма. Толстой ему пишет: «Я вперед знаю, что если Вы, Владимир Сергеевич, выразите то, что Вы думаете об этом предмете, то Вы выразите и мои мысли и чувства, потому что основа нашего отвращения от мер угнетения еврейской национальности одна и та же: сознание братской связи со всеми народами и тем более с евреями, среди которых родился Христос». Соловьев сам составляет текст и собирает под ним многочисленные подписи. Через год он посылает Гецу обширное письмо с обличением антисемитизма, разрешая поместить его в виде предисловия в книге последнего «Слово подсудимому». Книга эта была немедленно конфискована цензурным комитетом, и все хлопоты Соловьева оказались безуспешны.
В заключение приведем оценку деятельности Соловьева в защиту еврейства, принадлежащую Ф. Гецу. «Можно безошибочно утверждать, – пишет он, – что со смерти Лессинга не было христианского ученого и литературного деятеля, который пользовался бы таким почетным обаянием, такой широкой популярностью и такой искренней любовью среди еврейства, как Вл. С. Соловьев, и можно предсказать, что и в будущем среди благороднейших христианских защитников еврейства, рядом с именами аббата Грегуара, Мирабо и Маколея, будет благоговейно, с любовью и признательностью упоминаться благодарным еврейским народом славное имя Вл. С. Соловьева».
10 Литературные знакомства (К. Леонтьев, Н. Федоров, А. Фет). «Духовные основы жизни» (1882—1884)
В начале 80–х годов Соловьев познакомился с К. Н. Леонтьевым. Это был человек, прямо противоположный ему по душевному складу и ощущению жизни.
«У Вл. Соловьева, – пишет Н. Бердяев [54]54
Н. Бердяев. Константин Леонтьев. YMCA‑Press. Париж, 1926 г.
[Закрыть], – была абстрактная и иногда обманчивая ясность мышления, что‑то скрывающая и прикрывающая; у К. Леонтьева была конкретная, художественная ясность мышления, раскрывающая всю сложность его природы и его запросов. Как писатель Вл. Соловьев не художник, как человек не эстет… К. Леонтьев – ясный в своем добре и в своем зле. Вл. Соловьев – весь неясный и загадочный, в нем много обманчивого».
О. Иосиф Фудель [55]55
О. Иосиф Фудель. К. Леонтьев и Вл. Соловьев в их взаимных отношениях. Русская мысль. Ноябрь – декабрь, 1917.
[Закрыть] рассказывает о «романе» между Леонтьевым и Соловьевым. Леонтьев страстно полюбил Соловьева, его дружба походила на влюбленность. «Я его очень люблю лично, сердцем, – признавался он, – у меня к нему просто физиологическое влечение». Соловьев принимал эту любовь, позволял себя любить, но сам оставался сдержанным и холодноватым. Леонтьев писал о. Фуделю о Соловьеве: «Что он гений, это – несомненно, и мне самому нелегко отбиваться от его обаяния (тем более, что мы сердечно любим друг друга)». Соловьев считал Леонтьева «умнее Данилевского, оригинальнее Герцена и лично религиознее Достоевского». Но он ни разу не высказался по существу о творчестве Леонтьева; когда тот выбрал его судьей в своем споре с Астафьевым по национальному вопросу, Соловьев уклонился от этой роли. Леонтьев говорил о Соловьеве с восхищением и преклонением. «Но лучше я умолкну на мгновение, и пусть говорит вместо меня Вл. Соловьев, человек, у которого я недостоин ремень обуви развязать». Так отдавать себя Соловьев не умел. Его статья о Леонтьеве в Энциклопедическом словаре очень осторожна и «проблемы» Леонтьева почти не касается. В примечании к статье «О народности и народных делах России» Соловьев вскользь упоминает о Леонтьеве, называя его «талантливым и оригинальным автором книги «Византизм и славянство»; на критический этюд Леонтьева «Наши новые христиане» он отвечает короткой заметкой в защиту Достоевского. Вот и все, что он написал о своем друге. Леонтьев имел основание горько жаловаться на Соловьева и говорить, что тот «предает» его своим молчанием. Беспощадная полемика Соловьева против славянофилов мучительно переживалась Леонтьевым. Но он прощал ему все его несправедливости и увлечения. После долгой разлуки они встретились как близкие друзья. «Мы не только не поссорились, – рассказывал Леонтьев о. Фуделю, – но все обнимались и целовались. И даже больше он, чем я. Он все восклицал: «Ах, как я рад, что Вас вижу». Обещал приехать ко мне зимой. Да я не надеюсь». Но последнего испытания любовь Леонтьева все же не выдержала. Когда он понял, что Соловьев сближает христианство с гуманитарным прогрессом и демократией (в статье «Об упадке средневекового миросозерцания»), он возненавидел его так же страстно, как страстно раньше любил. Эта вражда мучила его перед смертью, отравляла последние минуты. Леонтьев называет Соловьева «сатаной» и «негодяем», рвет его фотографию, требует его высылки за границу, предлагает духовенству произносить проповеди против него.
Соловьев оказал огромное влияние на Леонтьева, заставил его разочароваться в своем идеале самобытной русской культуры, в своей вере в православное славянское царство. Но и в жизни Соловьева встреча с Леонтьевым не прошла бесследно. Леонтьев первый закричал о том, что путь Соловьева ведет к пропасти; что в его величественном строительстве теократического царства есть какая‑то зловещая ложь. Он первый почуял в деле Соловьева веянье «антихристова» духа. И Соловьев в «Трех разговорах» признал правду Леонтьева, его мрачный пессимизм и апокалиптическое вдохновенье. В скрытой трагической борьбе между двумя мыслителями внешне побежденный Леонтьев в конце концов вышел победителем.
* * *
Другой замечательный человек, имевший влияние на Соловьева в 80–е годы, был Николай Федорович Федоров, гениальный автор «Философии общего дела», такой же одинокий и непонятый мыслитель, каким был и Соловьев. С его учением Соловьев познакомился еще в 1878 году, в разгаре своей дружбы с Достоевским. Последователь Федорова народный учитель Петерсон изложил Достоевскому основные идеи «Философии общего дела». Они глубоко его взволновали, и он писал Петерсону: «Мы здесь, то есть Соловьев и я, по крайней мере, верим в действительное, буквальное и личное воскресение и в то, что оно будет на земле».
В начале восьмидесятых годов Соловьев в Москве встретился с Федоровым. Сначала он отнесся к нему как к гениальному чудаку, был поражен необычайным своеобразием его личности, но в его «странные» идеи до конца поверить не мог. Он писал Н. Н. Страхову: «Иногда очень приятно и забавно беседуем с Н. Ф. Федоровым, который меня совершенно очаровал, так что я даже думаю, что и его странные идеи недалеки от истины». Постепенно отношение его к автору «Философии общего дела» меняется. Он внимательно изучает рукописи Федорова. «Проект» всеобщего зоскрешения умерших отцов объединенными силами сынов, замысел, дерзновенный до безумия и до какого‑то мистического ужаса, кажется ему новым откровением христианского духа. Он пишет Федорову: Прочел я Вашу рукопись с жадностью и наслаждением духа, посвятив этому чте–нию всю ночь и часть утра, а в следующие два дня, субботу и воскресенье, много думал о прочитанном. «Проект» Ваш я принимаю безусловно и без всяких разговоров: поговорить же нужно не о самом проекте, а об некоторых теоретических его основа–ниях или предположениях, а также и о первых практических шагах к его осуществлению… Пока скажу только одно, что со времени появления христианства Ваш «проект» есть первое движение вперед человеческого духа по пути Христову. Я со своей стороны могу только признать Вас своим учителем и отцом духовным… Будьте здоровы, дорогой учитель и утешитель».
Учение Федорова сводится к положению: «объединение сынов для воскрешения отцов». Люди живут в разъединении и вражде. «Гражданственность заменила «брат–ственность», «государственность» вытеснила «отечественность». «Для нынешнего века, – пишет Федоров, – отец – самое ненавистное слово, а сын – самое унизительное». Нужно уничтожить распрю между государствами, народами, классами, нужно создать бесклассовое общество, единую семью, братственность. В социальном смысле учение Федорова, пожалуй, радикальнее марксизма, – и отсюда становятся понятны попытки некоторых его последователей связать «Философию общего дела» с коммунизмом. Но проект Федорова перерастает план социального и вполне раскрывается только в плане религиозном. Цель «объединения сынов» не в земном благополучии, а в продолжении дела Христа. Все живущие сыны соединяются для единственной задачи – воскрешения умерших отцов. «Религия и есть дело воскрешения». Христос своим воскресением указал человечеству путь и цель. В настоящее время духовные силы людей парализованы враждой и борьбой; но когда они воссоединятся в любви – все им станет возможно. Человечество будет действительно владычествовать над землей и управлять стихиями. «В регуляции, в управлении силами природы, – пишет Федоров, – и заключается то великое дело, которое может и должно стать общим». Тогда смертоносная сила природы сделается живоносной, рождение будет заменено воскрешением, любовь половая любовью сыновней. Мир должен быть восстановлен силами самого человечества. «Приготовление из целого человеческого рода орудия, достойного Божественного через него действия, есть задача богословов».
Если человечество объединится в любви, не будет катастрофического конца света и Страшного Суда. Наш земной мир без потрясений эволюционно превратится в Царствие Божие.
Мы понимаем, почему Соловьев с «жадностью» читал рукопись Федорова. «Братственность», к которой призывал автор «Философии общего дела», – была близка заветной идее Соловьева о всеединстве; Федоров говорил о религии, как о реальной космической силе, преображающей мир, ставил христианству грандиозную практическую задачу – всеобщего воскресения, подчеркивал значение человеческого элемента в религиозном деле, требовал полного осуществления человеческого творчества – научного, технического, социального, богословского. Наконец, он пламенно верил, что Царствие Божие явится результатом единого богочеловеческого процесса, что оно будет здесь на земле, что оно увенчает собою «общее дело» человечества, мир, преображенный силами человеческого творчества.
Но при ближайшем знакомстве с учением Федорова, в долгих беседах с ним Соловьев смущался и недоумевал. Религия Федорова была для него слишком натуралистична, его мистицизм иногда напоминал какую‑то естественную магию. Воскрешение мертвых с помощью научной регуляции сил природы и технического прогресса принимало нередко вид колдовства. Божественное начало в богочеловеческом деле явно заслонялось человеческой самодеятельностью. Чудеса техники упраздняли чудо благодати. Покойники вставали из гробов в своих земных телах, получалась дурная бесконечность земной жизни, а не преображение мира. Проект Федорова давал человечеству власть над прошлым, он делал «бывшее как бы не бывшим», но он не был обращен к будущему. Чем‑то бесконечно древним, языческим, праславян–ским веяло от его культа предков: воскрешение отцов прекращало рождение детей, сыновняя любовь уничтожала любовь отеческую. Наконец, в учении Федорова совершенно отсутствовала идея Креста и искупления; у него не было никакой чувствительности ко злу, и понятие греха не вмещалось в его построение. О своих сомнениях Соловьев писал Федорову:
«Простое физическое воскресение умерших само по себе не может быть целью. Воскресить людей в том состоянии, в каком они стремятся пожирать друг друга, воскресить человечество на степени каннибализма было бы и невозможно и совершенно нежелательно… Если бы человечество своей деятельностью покрывало Божество (как в Вашей будущей психократии), тогда действительно Бога не было бы видно за людьми; но теперь этого нет, мы не покрываем Бога, и потому Божественное действие (благодать) выглядывает из‑за нашей действительности, и притом тем в более чуждых (чудесных) формах, чем менее мы сами соответствуем своему Богу… Следовательно, в положительной религии и церкви мы имеем не только начаток и прообраз воскресения и будущего Царствия Божия, но и настоящий (практический) путь и действительное средство к этой цели. Поэтому наше дело и должно иметь религиозный, а не научный характер и опираться должно на верующие массы, а не на рассуждающих интеллигентов».
Соловьев почувствовал, что «Общее дело» Федорова строится не на мистическом учении церкви, а на натуралистическом гуманизме. Но в целом огненный, героический дух федоровского «проекта» пленил «прожектера» Соловьева. Влияние Федорова ускорило его переход к церковно–общественной деятельности и к строению земного теократического царства.
* * *
К 80–м годам относится также начало многолетней дружбы Соловьева с А. А. Фетом. Дружба эта была особенная. Фет был прямым антиподом Соловьева по характеру и убеждениям. Его сознательная и упорная враждебность христианству, свирепое и мрачное реакционерство, его ненависть ко всему «разумному и полезному» и отвращение к общественной деятельности приводили Соловьева в уныние. Но он предпочитал не возмущаться, а смеяться над дикими выходками своего приятеля: считал его безответственным, не принимал всерьез его «идеологии» и умилялся его детской непосредственностью. В Воробьевке, имении Фета, Соловьев отдыхал в атмосфере патриархального помещичьего быта и чистой лирической поэзии. Он все прощал Фету за его поэтический талант, добродушие и остроумие. Певец природы сам казался ему «явлением природы»: его полнокровная чувственность, наивное эпикурейство, ребяческий эгоизм пленяли раздвоенного и отрешенного мыслителя. Соловьев любил погружаться в «природный» мир поэта, в запахи земли, в шелест трав, в краски восходов и закатов. Он переводил с Фетом латинских поэтов, исправлял его стихи и помогал их печатанью. В 1881 году Соловьев с Н. Н. Страховым и графиней С. А. Толстой редактирует фетовский перевод «Фауста» и хлопочет об издании его. Для него Фет – жрец чистого искусства, «истинный антиутилитарный поэт». Он подшучивает над его человеческими слабостями, но преклоняется перед бескорыстным служением Аполлону, своего рода «теургическим действом». Письма Соловьева к автору «Вечерних огней» полны непривычной для него нежности. Он постоянно тоскует по тихому уюту Воробьевки, по долгим вечерним беседам о Виргилии и Горации. В одном письме 1889 г. Соловьев пишет Фету фетовским поэтическим языком: «Приветствуют Вас все крылатые звуки и лучезарные образы между небом и землею. Кланяется Вам также и меньшая братия: слепой жук и вечерние мошки, и кричащий коростель и молчаливая жаба, вышедшая на дорогу. А наконец приветствую Вас и я, в виде того серого камня, который Вы помянули добрым словом… Бесценный мой отрезок настоящей, неподдельной радуги, обнимаю Вас мысленно в надежде на скорое свидание».








