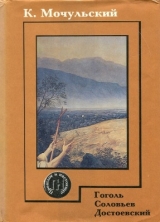
Текст книги "Гоголь. Соловьев. Достоевский"
Автор книги: Константин Мочульский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 80 страниц) [доступный отрывок для чтения: 29 страниц]
Соловьев увидел личную божественную основу мира. В ее единстве множественность вещей не растворяется. Моря, реки, леса и горы хранят свои четкие индивидуальные очертания. Bee они сами по себе и все они – одно. Все взаимопроницаемо, но различимо. Единство космоса, «душа мира» – не бесформенное смешение, а личный образ – Вечная Женственность. Но если она есть «сияние божества», то не вносит ли Соловьев женское начало в самое Божество? На этот вопрос он отвечает в предисловии к Сборнику своих стихотворений: «1) Перенесение плотских, животно–человеческих отношений в область сверхчеловеческую есть величайшая мерзость; 2) Поклонение женской природе самой по себе, т. е. началу двусмыслия и безразличия, восприимчивому ко лжи и злу не менее, чем к истине и добру, – есть величайшее безумие… 3) Ничего общего с этой глупостью и тою мерзостью не имеет истинное почитание вечной женственности, как действительно от века восприявшей силу Божества, действительно вместившей полноту добра и истины, а чрез них и нетленное сияние красоты».
«Только в свете этого образа, – пишет Александр Блок, – ставшего ясным после того, как второй, производный, погашен смертью, можно понять сущность учения и личности Вл. Соловьева. Этот образ дан самой жизнью, он не аллегория ни в каком смысле; пусть будет он предметом научного исследования, самое существо его неразложимо: он излучает невещественный золотой свет. Золотом и киноварью писались слова, исходящие из уст Гавриила: Ave, gratiae plena. В периодической системе элементов этот основной, простейший элемент должен быть отмечен золотом и киноварью».
* * *
Вернувшись в Россию, Соловьев любил юмористически описывать друзьям свое путешествие в пустыню. Гр. Ф. Соллогуб по его рассказам сочинил шуточную пьесу «Соловьев в Фиваиде», в которой Сатана, обеспокоенный религиозным учением философа, подвергает его различным испытаниям. Соловьев отгадывает загадки Сфинкса, не поддается соблазнам семи смертных грехов и посрамляет Царицу Савскую. Выступает он «под руку с Кузьмой Прутковым».
Вероятно, слушая эту довольно нелепую мистерию, философ заливался своим грохочущим и немного жутким смехом. Он любил пародии, даже если они касались самого для него священного. Легкий привкус кощунства его не пугал.
В Каире он прожил четыре месяца; писал матери, что сочиняет «Некоторое произведение мистико–теософо–философо–теурго–политического содержания и диалогической формы». Чтобы дописать его «в тиши уединения», он собирается на месяц поселиться в Сорренто, а затем поработать в Париже, в Национальной библиотеке. В мае 1876 года он сообщает: «В Париже буду заниматься изданием своего малого по объему, но великого по содержанию сочинения Principes de la religion universelle; язык оного отдал исправить аббату Гетте». Очевидно, это «ми–стико–политическое сочинение» и есть «Principes de la religion universelle». В своей первоначальной «диалогической форме» оно до нас не дошло: материал его был впоследствии распределен между «Философскими основами цельного знания» и «Россией и Вселенской Церковью».
Непосредственный отзвук свидания в пустыне слышится в стихотворении:
Вся в лазури сегодня явилась Предо мною царица моя, – Сердце сладким восторгом забилось, И в лучах восходящего дня Тихим светом душа засветилась, А вдали, догорая, дымилось Злое пламя земного огня.
Лазурь, рассвет, тишина и «злое пламя» взошедшего над пустыней солнца, – вот несколько кратких записей, из которых через много лет вырастет третья часть поэмы «Три свидания».
Изучение литературы о Софии отразилось на другом каирском стихотворении: «У царицы моей есть высокий дворец, о семи он столбах золотых». В своем саду, средь роз и лилий, царица скорбит о покинутом друге, который гибнет в полночном краю, в борьбе «с злою силою тьмы». Она приходит к нему на помощь – и «низринуты темные силы во прах». Царица – София Премудрость Божия, о которой Соломон говорит в «Притчах»: «Премудрость созда себе дом и утверди столпов седмь».
Но самым важным мистическим документом этого времени является «Молитва об откровении великой тайны», сохранившаяся в записной книжке Соловьева. Вот ее полный текст:
«Во имя Отца и Сына и Св. Духа.
Ал – Soph, Jah, Soph – Jah.
Неизреченным, страшным и всемогущим именем заклинаю богов, демонов, людей и всех живущих. Соберите воедино лучи силы вашей, преградите источник вашего хотения и будьте причастниками молитвы моей: да возможем уловить чистую голубицу Сиона, да обретем бесценную жемчужину Офира, и да соединятся розы с лилиями в долине Саронской.
Пресвятая, Божественная София, существенный образ красоты и сладость сверхсущего Бога, светлое тело вечности, душа миров и единая царица всех душ, глубиною неизреченною и благодатию первого Сына Твоего и возлюбленного Иисуса Христа молю Тебя: Снизойди в темницу душевную, наполни мрак наш своим сиянием, огнем любви расплавь оковы духа нашего, даруй нам свет и волю, образом видимым и существенным явись нам, сама воплотись в нас и в мире, восстановляя полноту веков, да покроется глубина пределом и да будет Бог все во всем».
В этой молитве–заклинании сплетаются мотивы каббалистические, библейские, гностические и христианские. Жажда чуда и вера в близость «откровения тайны» сливаются в пламенном призыве.
* * *
В январе 1876 г. к Соловьеву приезжает его приятель кн. Д. Н. Цертелев, племянник поэта Алексея Толстого. Д. Цертелев, философ, поэт и спирит, писал об учении Шопенгауэра и Гартмана и сочинял стихи о всемирном уничтожении. Друзья проводили ночи напролет в беседах о спиритизме и немецкой метафизике. Лукьянову удалось получить от жены Цертелева рукопись, которая является, вероятно, совместным творчеством двух друзей. Она называется «Вечера в Каире» и посвящена описанию спиритического сеанса. Приходит тень Сократа и доказывает возможность материализации духов. В 1897 г. Соловьев вспомнил о ночах в Каире и посвятил Цертелеву стихотворение «Другу молодости»:
Помнишь ли, бывало,
Ночи те далеко, —
Тишиной встречала
Нас заря с востока.
Из намеков кратких
Жизни глубь вскрывая,
Поднималась молча
Тайна роковая.
После свидания в пустыне Соловьеву нечего было делать в Египте. Но Западная Европа его не притягивала, и он живет в Каире, «потому что в нем жить приятнее, чем в каком‑нибудь другом месте за границей». Он не решался вернуться в Россию до истечения срока своей командировки. Наконец, в начале марта Цертелев уезжает из Каира, и через несколько дней после его отъезда Соловьев тоже покидает Египет. На месяц он поселяется в Сорренто и знакомится там с двумя соотечественницами – Надеждой Евгеньевной Ауэр и г–жей Трайн. Лукьянов делает любопытное предположение. Повесть «На заре туманной юности» заканчивается следующими словами: «Четыре года после того я встретился с Жюли в Италии на Ривьере; но это была такая встреча, о которой можно рассказывать только любителям в ночь под Рождество». Эпизод, описанный в повести, относится к 1872 г.; встреча с Н. Е. Ауэр в Италии – к 1876 г. Вполне правдоподобно заключение Лукьянова, что Н. Ауэр и есть героиня повести Жюли. В 1895 г. судьба свела Соловьева с Н. Ауэр в третий раз: он встретил ее в Финляндии на Сайме и по этому поводу писал брату Михаилу: «Еще третьего дня я гулял по снежным равнинам озера Саймы с М–me Ауэр, за которой 19 лет тому назад ухаживал на Везувии; какой символизм! теперь у нее 19–летняя дочь Зоя, напоминающая мне Катю Владимировну (Романову) лет двадцать тому назад».
Воспоминания о внезапной влюбленности во время поездки в Харьков ожили в Сорренто, и Соловьев пережил новое, недолгое, но бурное увлечение.
Во время экскурсии на Везувий в обществе Н. Ауэр с Соловьевым случилось несчастье: его обступили мальчишки, требуя от forestiere подачки: он роздал им все бывшие при нем деньги, бросил им кошелек и наконец вздумал спастись бегством. Лошадь поскользнулась, он упал, поранил себе колено и разбил обе руки. Ему пришлось пролежать неделю в больнице в Неаполе; Н. Ауэр за ним ухаживала; он посылал ей красные розы. Выздоровев, Соловьев отправился в Париж через Геную и Ниццу. В Ницце написано стихотворение «Песня офитов», свидетельствующая о его знакомстве с гностическими учениями. Офиты – гностики II века, с их загадочными мистериями и поклонением змее как образу грядущего Спасителя, поразили романтическое воображение Соловьева.
Белую лилию с розой,
С алой розой мы сочетаем.
Тайной пророческой грезой
Вечную истину мы обретаем.
Зачеркнутый в рукописи вариант более характерен: «Светлую Плэрому мы обретаем».
В Париже он прожил больше месяца, работая в Национальной библиотеке. Издать свое сочинение по–французски ему не удалось. В начале июня он возвращается в Россию.
«На меня в Париже напала такая тоска, что я при первой возможности, бросив все дела и занятия, устремился без оглядки в Москву».
Поразительно равнодушие Соловьева ко всему европейскому: в Англии ему «лень» знакомиться с англичанами, он нигде не бывает, ничего не осматривает, никуда из Лондона не выезжает; в Каире живет, потому что там хороший климат и что где‑нибудь жить надо; Италия кажется ему «пошлейшей страной в свете»; Париж вызывает тоску, и французов он ненавидит. Его не интересует ни искусство, ни театр, ни литература, ни нравы Запада. Он зачарован одним образом:
Не быт людей, не страсти, не природа —
Всей, всей душой одна владела ты.
Соприкосновение с Европой только усиливает в нем его русскую стихию. Совсем по–славянофильски звучит следующее его заявление в письме к отцу (май 1876 г.): «Так как Вы, кажется, немножко по мне скучаете, то могу Вас успокоить: больше уже путешествовать не буду, ни на восточные кладбища, ни в западный н… не поеду, а так как мне сведущие люди предсказали много странствий, то я буду странствовать по окрестностям города Москвы».
5 Речь «Три силы». «Философские начала цельного знания» (1877)
Возвращением из заграничной командировки заканчивается первый ученический период жизни Соловьева. Наступает период философский. В течение Пяти лет он строит свою широкую философскую систему: метафизику, гносеологию, этику и историософию. К этому времени относятся: «Философские начала цельного знания» (1877), «Чтения о Богочеловечестве» (1878) и «Критика отвлеченных начал» (1877—1880).
Вскоре после приезда Соловьева в Москву, кн. Д. Цертелев познакомил его с своей теткой графиней Софией Андреевной Толстой, вдовой поэта Алексея Константиновича Толстого. С ней жила ее племянница Софья Петровна Хитрово с детьми; она разошлась с мужем, хотя официально не была с ним в разводе. Соловьев скоро сблизился с этой семьей; постоянно бывал у графини в Петербурге, подолгу гостил в ее имениях Пустыньке (Петербургской губернии) и Красном Роге (Брянского уезда). Его письма к Софии Андреевне полны особенной доверчивости и нежности. Софью Петрову Хитрово он любил, и эта любовь заполнила всю его жизнь. Об истории этого чувства мы можем только догадываться, так как ни одно письмо из переписки Соловьева с Хитрово доселе не попало в печать. Долгие годы Соловьев верил в возможность брака с любимой женщиной, но от этой веры ему пришлось отказаться, и разрыв с С. П. стоил ему великих страданий: любовь к Хитрово была его жизненной трагедией. Тайны своих отношений с ней он никогда никому не доверил. Это не могло быть случайным – такова была его воля. Поэтому и биографы Соловьева должны ограничиться одной внешней историей «любви всей его жизни». Граф Александр Толстой умер за год до сближения Соловьева с его семьей; все в доме было полно воспоминаниями о нем. Софья Андреевна и ее племянница жили культом его памяти, его книгами, мыслями, стихами; библиотека графа, его рукописи и любимые вещи хранились благоговейно; по вечерам велись о нем долгие беседы и перечитывались его интимные письма. Соловьев вошел как близкий человек в эту особенную атмосферу толстовского дома. Он был уже подготовлен к ней отчасти дружбой с племянником графа Цертелевым. В доме С. А. Толстой он дышал воздухом чистой поэзии, душевного изящества, эстетического чувства жизни. Его окружала романтика сверхъестественного: потустороннее сплеталось с земным; предчувствия, предзнаменования, вещие сны, приметы, спиритические опыты, таинственные явления делали почти неуловимой грань между двумя мирами. Биограф гр. А. Толстого А. Лиронделль [31]31
Andre Lirondelle. Le poete Alexis Tolstoi. L'Homme a l'oeuvre. Paris, 1912.
[Закрыть] собрал любопытный материал, относящийся к занятиям графа оккультными и метапсихическими явлениями. В начале шестидесятых годов А. Толстой изучал Сведенборга, Ван Гель–монта, «Магнетическую магию» Каанье (Cahagnet), в которой рассказывается о магических зеркалах, талисманах, элевациях, фильтрах, заклинаниях, заговорах, колдовстве; «Естественную магию» Дю Поте (Du Potet), посвященную явлениям сомнамбулизма, магнетизма, ясновидения, галлюцинаций, видений, материализации и т. д.; «Историю магии» и «Догмат и ритуал высшей магии» Элифаса Леви с чертежами, текстами заклинаний и вызовов, треугольниками, пентаграммами и тетраграммами, «Пневматологию» Эд де Мирвиль (J. Eudes de Mirville), содержащую учение о маг–нитических токах, одержимости, сверхъестественных голосах, экзорцизмах, таинственных мономаниях, летающих столах и самовозжигающихся огнях. Оккультные увлечения А. Толстого отразились на его «Дон Жуане». В письме к Маркевичу он объясняет, что статуя командора есть не что иное, как материализация астральной силы, которая осуществляется невидимо в каждом акте нашей воли и видимо во всех магнетических и магических опытах.
Таков был круг «мистических интересов» автора «Дон Жуана». Поэта–романтика привлекало все таинственное, но он не выходил за пределы натуральной магии Парацельса. Его чувство природы окрашено довольно неопределенным пантеизмом, и в личное бессмертие он не верил. Софья Андреевна разделяла увлечение мужа спиритизмом и магнетизмом, но не сочувствовала его «натуралистической религии». Она была натурой глубоко религиозной и мистически одаренной.
В момент сближения Соловьева с семьей Толстого общий тон дома определялся духом невидимо присутствовавшего в нем покойного поэта, но в этот тон вдова его вносила свой, очень личный оттенок мистической духовности.
В атмосфере романтической таинственности и космической поэзии выросло учение Соловьева о Софии.
* * *
Осенью 1876 года Соловьев возобновил свои лекции по истории древней философии в Московском университете, но курс его продолжался недолго. Один из профессоров, Любимов, подал «особое мнение» о необходимости изменения университетского устава. Оно было поддержано М. Н. Катковым и вызвало большую смуту среди московской профессуры. Хотя Соловьев вовсе не был на стороне Любимова, но его возмутила травля, которой тот подвергался, и он подал прошение об отставке (14 февраля 1877 г.). Через месяц его назначили членом Ученого комитета при Министерстве народного просвещения. Он переехал в Петербург и прожил там с небольшими перерывами четыре года. Письма Соловьева к гр. С. А. Толстой показывают, с какой быстротой отношения их превратились в духовную близость и привязанность.
«Сейчас приехал на Шпалерную… (т. е. на петербургскую квартиру графини), – пишет Соловьев. – Пролил я несколько слез перед холодным камином в гостиной, но все‑таки думаю, что мне будет здесь очень хорошо. – Все тихо и меланхолично, как в моей душе теперь. Если бы только всегда знать, что с Вами, и не выдумывать по ночам разные невозможные ужасы…»
В другом письме (27 апреля 1877 г.) мы находим исключительно важное и единственное в этом роде сообщение Соловьева об изучении им литературы о Софии:
«…В библиотеке не нашел ничего особенного. У мистиков много подтверждений моих собственных идей, но никакого нового света, к тому же почти все они имеют характер чрезвычайно субъективный и, так сказать, слюнявый. Нашел трех специалистов по Софии: Georg Gichtel, Gottfried Arnold и John Pordage. Все три имели личный опыт, почти такой же, как мой, и это самое интересное, но собственно в теософии все трое довольно слабы, следуют Беме, но ниже его. Я думаю, София возилась с ними больше за их невинность, чем за что‑нибудь другое. В результате настоящими людьми все‑таки оказьтаются только Парацельс, Бэм и Сведенборг, так что для меня остается поле очень широкое».
Кроме занятий в библиотеке была еще служба в Ученом комитете, которая оказалась совсем не синекурой. «Я уже начал свою службу в Ученом Комитете, – пишет Соловьев Д. Н. Цертелеву. – Заседания – скука смертная и глупость неисчерпаемая; хорошо еще, что не часто».
Он живет уединенно, почти нигде не бывает, «стал совсем мизантропом». Тоскует по семье С. А. Толстой, уехавшей на лето в Красный Рог.
Самым значительным духовным событием этого периода жизни Соловьева было его сближение с Ф. М. Достоевским. Они познакомились еще в 1873 г., но настоящая дружба между ними началась только в 1877 году. Анна Григорьевна Достоевская в своих воспоминаниях пишет, что Федор Михайлович, чем больше встречался с Соловьевым, тем больше к нему привязывался; отношение писателя к молодому философу было похоже на отношение старца Зосимы к Алеше. Старец полюбил Алешу за то, что он напоминал ему умершего брата: Достоевский привязался к Соловьеву, т. к. он, по своему духовному облику, казался ему похожим на И. Н. Шидловского, оказавшего на Федора Михайловича в юности столь благотворное влияние. Отсюда, быть может, и пошла легенда, что в образе Алеши Достоевский изобразил Соловьева. Анна Григорьевна полагает, что есть больше оснований думать, что с Соловьева был списан другой Карамазов – Иван. Действительно, не простодушный и восторженный Алеша, а блестящий диалектик Иван с его силой формальной логики и рациональной этики, с его размахом социальной утопии и религиозной философии внешне напоминает Соловьева. Недаром в «Братьях Карамазовых» именно Иван излагает свою «идею» о теократии, над которой в то самое время работал Вл. Соловьев. С. Гессен [32]32
Sergius Hessen. Der Kampf der Utopie und der Autonomie des Guten in der Weltanschauung Dostoewskis und W. Solowjows. Die Padagogische Hochschule. Heft 5. Okt. 1929.
[Закрыть] предполагает, что Соловьев оказал влияние на архитектонику «Братьев Карамазовых». У него Достоевский заимствовал «формальные особенности своей философской техники».
Влияние Достоевского на Соловьева сказывается на первом же его публичном выступлении в Петербурге в 1877 г. – речи «Три силы», прочитанной в апреле в заседании Общества любителей российской словесности.
Общественный и национальный подъем, охвативший Россию в начале освободительной войны 1877—1878 гг. разбудил в Соловьеве жажду немедленного жизненного действия. На объявление войны он ответил речью «Три силы» и попыткой принять активное участие в военных действиях. Речь его начинается спокойным историко–философским вступлением и кончается вдохновенной проповедью. Мировая история породила две силы: первая – мусульманский Восток, исключительная власть религиозного начала: «Один господин и мертвая масса рабов»; вторая сила – западная цивилизация: «всеобщий эгоизм и анархия». Полного раскрытия эта сила достигла во французской революции, уничтожившей прежнее органическое единство Европы. Единственное величие, сохранившее еще свою силу на Западе, – это величие капитала. Социализм не обновит человечества: на вопрос о положительном содержании и цели жизни он не даст ответа. Синтез религии и философии не может произойти на европейской почве, ибо он совершенно противоречит общему духу западного развития. Итак, если мусульманский Восток уничтожает человека и утверждает только бесчеловечного бога, то западная цивилизация стремится прежде всего к исключительному утверждению безбожного человека. Атомизм в жизни, атомизм в науке, атомизм в искусстве – вот последнее слово европейской культуры, и если история человечества не должна кончиться этим ничтожеством, то следует верить, что выступит новая историческая сила, которая «оживит мертвые в своей вражде элементы высшим примирительным началом». Эта третья сила должна быть откровением божественного мира, и тот народ, через который эта сила проявится, будет только посредником между человечеством и тем миром. Он не нуждается ни в особенных преимуществах, ни во внешних дарованиях; от него требуется только свобода от всякой ограниченности и односторонности, требуется равнодушие ко всей этой жизни с ее мелкими интересами и всецелая вера в положительную действительность высшего мира. А эти свойства, несомненно, принадлежат племенному характеру славянства и его главного представителя – народа русского. «Итак, – заявляет Соловьев, – или это есть конец истории, или неизбежное обнаружение третьей всецелой силы, единственным носителем которой может быть только Славян ство и народ русский. Внешний образ раба, в котором находится наш народ, жалкое положение России в экономическом и других отношениях не только не может служить возражением против ее призвания, но скорее подтверждает его… Великое историческое призвание России… есть призвание религиозное в высшем смысле этого слова». Все указывает на то, что час этот близок; начинающаяся война послужит могущественным толчком для пробуждения положительного сознания русского народа.
Соловьев заканчивает призывом к русской интеллигенции: «А до тех пор мы, имеющие несчастие принадлежать к русской интеллигенции, которая вместо образа и подобия Божия все еще продолжает носить образ и подобие обезьяны, мы должны же наконец увидеть свое жалкое положение, должны постараться восстановить в себе русский народный характер… свободно и разумно уверовать в другую высшую действительность».
По строгости диалектического метода и сжатости формулировок, по внутреннему напряжению – речь Соловьева блестяще открывает собой период его творческого расцвета. Прошло всего три года со времени написания «Кризиса западной философии», но за это короткое время мысль его прошла большой путь. В магистерской диссертации он был славянофилом только отчасти; в «Трех силах» он не только разделяет основную веру славянофилов, их мессианский пафос, но идет дальше их.
Проповедуя «третью силу как высший религиозный синтез начал Запада и Востока», Соловьев в своей речи дает замечательный образец синтеза всех течений русской мысли. В «бесчеловечном Боге» Востока можно видеть своеобразное преломление идеи Хомякова о Кушитском религиозном начале; к Хомякову же восходит мысль о том, «что религиозный принцип, легший в основу западной цивилизации, представляет лишь одностороннюю и, следовательно, искаженную форму христианства»; характеристика европейской культуры как процесса раздробления и обособления индивидуальных начал построена на основных выводах Ив. Киреевского. Соловьев утверждает, что «Церковь западная, отделившись от государства,., сама стала церковным государством»: реакцией на этот отрыв церкви от народа была революция; в ней завершилось самоутверждение отдельной личности: «революционное движение предоставило каждое лицо самому себе». Все это место в речи точно воспроизводит тезисы статьи Ф. И. Тютчева «Россия и революция». Тютчев тоже связывает революционное движение на Западе с секуляризацией Римской Церкви. «Западная Церковь, – пишет он, – сделалась политическим учреждением… Реакция этому положению? вещей была неизбежна… Революция есть не что иное, как апофеоз человеческого я, как последнее слово отрыва личности от Церкви, от Бога… Человеческое я, предоставленное самому себе, противно христианству по существу».
Есть в речи Соловьева и отклики учения К. Н. Леонтьева: западная цивилизация, некогда находившаяся в «цветущей сложности», ныне идет по «упроститель–ному смешению», безличности и опошлению. «Чрезмерное развитие индивидуализма в современном Западе, – пишет Соловьев, – ведет прямо к своему противоположному – ко всеобщему обезличению и опошлению. Старая Европа в богатом развитии своих сил произвела великое многообразие форм, множество оригинальных, причудливых явлений; были у нее святые монахи, что из христианской любви к ближнему жгли людей тысячами; были благородные рыцари, всю жизнь сражавшиеся за дам, которых никогда не видали, были философы, делавшие золото и умиравшие с голоду, были ученые схоластики, рассуждавшие о богословии, как математики, а о математике, как богословы. Только эти оригинальности, эти дикие величия делают западный мир интересным для мыслителя и привлекательным для художника…» Эта тирада не только по мыслям, но и по стилю напоминает Леонтьева; Соловьев вводит в свое философское изложение некое «художественное интермеццо»; нарядные образы его выдержаны в духе Леонтьевской декоративности.
Наконец, мысль о том, что призвание России религиозное, что она явит миру божественное начало, которое таится в глубине ее веры и смирения, несомненно, внушена Соловьеву Достоевским. В «Дневнике писателя» Достоевский, углубляя славянофильское учение, вдохновенно говорил о русском народе, самом христианском на свете, о его смирении, о его «образе раба», о его мистической любви ко Христу. «Безбожный человек», результат всего европейского развития, появляется у Соловьева как оригинальный синтез идеи Хомякова о самоутверждении человеческого начала на Западе и идеи Достоевского о человеко–божестве («Бесы»).
Таков сложный и разнообразный состав «Трех сил», этой «философской симфонии» Соловьева. Но пестрый материал переработан им творчески – и перед нами не мозаика, а живое органическое целое. Соловьев доводит до конца славянофильские идеи, и в результате, вместо понятия национальной самобытности, получается прямо противоположное ему понятие всечеловеч–ности. Он показывает, что в подлинном мессианизме ничего специфически национального быть не может: мессианизм неизбежно переходит в универсализм. Мысль о вселенскости русского духа, легшая в основу «Пушкинской речи» Достоевского, была формулирована Соловьевым еще в более широкой форме в 1873 г. Изменил ли он славянофилам, так истолковав их теорию? Напротив, он завершил их учение, явился самым последовательным и самым бесстрашным продолжателем их дела.
* * *
Откликом на речь Соловьева была грозная статья А. Станкевича в «Вестнике Европы» «Три бессилия: три силы. Публичная лекция Вл. Соловьева». По поводу ее Соловьев писал С. А. Толстой: «Неужели Вам было неприятно, а не забавно читать о «Трех силах» в «Вестнике Европы?» Я отчасти предчувствую, что Вы будете мне говорить, но объявляю заранее, что между мною и благоразумием не может быть ничего общего, так как самые цели мои не благоразумны. Тут расчет никакой не поможет – «не догадка, не ум, но безумье в тот край, но удача привесть тебя может!»
Призвав русскую интеллигенцию к делу, Соловьев должен был первый подать пример. Он решил отправиться на войну. Слабое сложение и болезненность исключали возможность поступления в действующую армию; он придумал поехать на фронт в качестве военного корреспондента «Московских ведомостей». Долго вел переговоры с Катковым, переходил от надежды к разочарованию, называл свой план «химерой легкомысленной юности», «мечтой воображения» и наконец все‑таки уехал. Перед отъездом он писал графине Толстой: «Большая история меня очень радует.
Гул растет как в спящем море
Перед бурей роковой —
Вскоре, вскоре в бранном споре
Закипит весь мир земной».
Уезжал он полный радостных предчувствий и верил в провиденциальный смысл войны за освобождение славян.
По дороге в действующую армию он проводит два дня в Красном Роге у С. А. Толстой. Во время спиритического сеанса происходит странное событие, о котором он сообщает Д. Н. Цертелеву. «Здоров ли ты, и не было ли с тобой чего‑нибудь особенного 13 и 14 июня ночью? Там в моем присутствии произошла какая‑то чертовщина: являлся твой дух и я не знаю, что еще. Вследствие этого очень о тебе беспокоились мы все. Хотели, чтобы я послал телеграмму…»
В Кишиневе ему приходится дожидаться паспорта. В делах Министерства народного просвещения хранится телеграмма от кишиневского губернатора на имя министра следующего содержания: «Испрашиваю разрешение выдать паспорт на выезд за границу надворному советнику В. С. Соловьеву». Получив паспорт, Соловьев добирается до Бухареста, где неделю ждет денег от Каткова. Не дождавшись, занимает на месте и собирается ехать дальше. Отцу он сообщает свой будущий адрес: Свиштово в Болгарии, штаб действующей армии. На этом наши сведения обрываются. В Бол гарию Соловьев так и не попал; через полтора месяца он уже снова в Москве. Почему он переменил решение, что заставило его вернуться назад после того, как все внешние препятствия (паспорт, деньги) были устранены, остается загадкой. Из Москвы он пишет довольно странное письмо С. А. Толстой: «…Впрочем, нисколько не удивляюсь, что вы мною интересуетесь: я знаю, что Вас интересуют все предметы — как живые, так равно и неодушевленные (иногда принадлежу к этим последним). Avec des apparences de bonte j'ai un coeur tres mediant. C'est mauvais, mais je n'y puis rien. Один китайский купец, когда англичанин упрекал его за какой‑то обман, отвечал ему: «I am a rogue – cannot help it» [33]33
Я плут – ничего не могу поделать.
[Закрыть]. Прощайте надолго. Надеюсь, встретимся лучше, т. е. когда я буду лучше».
Письмо холодное, ироническое, горькое – и очень жалкое. Соловьев пережил что‑то тяжелое, может быть, даже унизительное для его самолюбия. Он увидел в себе что‑то «темное» (un coeur tres mediant», «I am a rogue»). И об этом говорит в вымученно–шутливом тоне, с легким отвращением к самому себе. Не связана ли эта угнетенность с внезапным возвращением с войны?
По каким бы мотивам он ни отказался от своего плана, одно оставалось несомненным: его героический порыв, его желание принять реальное участие в «большой истории» потерпели крах. При столкновении с действительностью молодой философ почувствовал свою внутреннюю несостоятельность и не мог не пережить этого очень болезненно. Чтобы оправиться от удара, нанесенного ему жизнью, он уходит в теорию, в «дебри метафизики».
* * *
В 1877 году в «Журнале министерства народного просвещения» появилось незаконченное исследование Соловьева «Философские начала цельного знания». Это – первый набросок философской системы; начертана схема, намечены основные вехи, разработаны вчерне главные отделы: философия истории, логика и метафизика. Проблемы, затронутые в этом сочинении, центральны в творчестве Соловьева. Он неоднократно возвращается к ним в своих последующих работах: «Чтениях о Богоче–ловечестве», «Критике отвлеченных начал», «Оправдании добра» и «Теоретической философии».
«Философские начала цельного знания» начинаются «общеисторическим вступлением». Философия должна ответить на вопрос о цели нашего существования. Но, говоря о всеобщей и последней цели, мы тем самым предполагаем понятие развития. Развиваться же может только живой организм. Следовательно, мы признаем человечество настоящим органическим субъектом исторического развития. Всякое развитие заключает в себе три момента: смешение или внешнее единство, обособление образующих элементов и внутреннее свободное единство.








