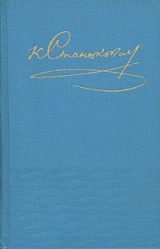
Текст книги "Том 9. Рассказы и очерки"
Автор книги: Константин Станюкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
– Не совсем, я думаю… Приходите – поболтаем! – почти приказала она.
Курчавый, снимая фуражку и наклоняя голову, спросил:
– Когда позволите?..
– А сегодня, в семь часов…
Его светлость повел бесстрастные глаза на дочь.
«Новый каприз!» – подумал он и поморщился.
«Проблематическая» репутация единственной дочери, жены известного сановника, товарища князя по пажескому корпусу, давно уж была болячкой князя, и уж он только смущался теперь забвением «апарансов» [4]4
Здесь: приличий (от фр. les apparences).
[Закрыть]красавицы графини.
Его светлость опять взглянул на дочь.
Но она не обратила внимания на значительный, предостерегающий взгляд отца, который – графиня хорошо знала – говорил: «Люди смотрят!»
– С чего прикажете начать, ваша светлость? – слегка аффектированным тоном младшего по должности и по чину спросил адмирал, прикладывая руку к козырьку своей белой фуражки, слегка сбившейся на затылок.
– Я в вашем полном распоряжении, любезный адмирал! – с подавляющей любезностью ответил князь и тоже немедленно приложил два длинные пальца руки в перчатке к большому козырьку фуражки, надвинутой, напротив, на лоб.
– Угодно вашей светлости сперва посмотреть артиллерийское учение, потом парусное?.. Или пожарную тревогу прикажете, ваша светлость? – настойчивее спрашивал адмирал, продолжая играть роль подчиненного.
– Так покажите мне, любезный адмирал, сперва ваших молодцов матросов-артиллеристов и затем лихих моряков в парусном учении… Больше я не злоупотреблю вашей любезностью, адмирал.
– Слушаю-с, ваша светлость.
Адмирал позвал к себе вахтенного офицера и приказал:
– Барабанщиков.
Старший офицер, слышавший разговор двух стариков, похожих в эту минуту на «ученых обезьян», извинился перед графиней и бегом бросился к компасу, чтобы подменить вахтенного лейтенанта и командовать авралом.
И, слегка перегнувшись через поручни полуюта, звучным, красивым и особенно радостным голосом крикнул бежавшим по палубе двум барабанщикам:
– Артиллерийскую тревогу!
Барабанщики с разбега остановились и забили тревожный призыв.
– К орудиям! – рявкнул с бака Кряква.
В мгновение раздался топот сотни ног по трапам и по палубе. Ни одного окрика унтер-офицеров.
Через минуту на корабле царила мертвая тишина. У орудий на палубе и внизу, в батареях, недвижно стояла орудийная прислуга.
VI
– Где угодно, ваша светлость, посмотреть учение? Здесь или внизу?
– Пожалуй, здесь, адмирал.
Пробила дробь, и ученье началось.
Старый артиллерист, по обыкновению, волновался, но не закипал гневом и не ругался. Он, по счастью, не забывал, что на полуюте его светлость и графиня, которая…
«Пронеси господи смотр!» – мысленно проговорил колченогий капитан морской артиллерии и наконец просиял. Он заметил, что и гости, и адмирал, и «коварный грек», и старший офицер, видимо, были довольны.
Еще бы!
Матросы откатывали орудия в открытые порты и подкатывали назад для примерного заряжания, словно игрушки, и делали свое дело без суеты, быстро и молча.
– Превосходно… Ве-ли-ко-леп-но! – говорил его светлость, любуясь ученьем и обращаясь к адмиралу, точно лично он – виновник торжества.
– Привыкли матросы, ваша светлость!.. И в море боевыми снарядами недурно палят! – отвечал адмирал без особой почтительной радости и словно нисколько не удивлялся лихости матросов.
Но в душе радостно удивлялся, что старый артиллерист из вахтеров не произнес ни одного бранного слова.
– Удивляет меня наш Кузьма Ильич! Хоть бы свою любимую «цинготную девку» сказал! – тихо и весело проговорил адмирал, подходя к старшему офицеру.
– Еще как окончится учение, Максим Иваныч!.. Зарежет!.. Особенно перед графиней! – взволнованно отвечал старший офицер, не спуская глаз с артиллериста, точно хотел внушить ему не прорваться.
– А эта дамочка-с, видно, все свои онеры вам показала, Николай Васильич? – с улыбкой бросил адмирал и вернулся к его светлости и графине, от которых не отходил капитан и восторженно улыбался.
Скоро его светлость просил дать отбой, и матросы были отпущены от орудий.
– Ну-ка, теперь покажем гостям, как мы ставим и убираем паруса, Николай Васильич? – уже сам возбужденный при мысли о быстроте парусных маневров, весело сказал адмирал старшему офицеру.
И, обратившись к его светлости, промолвил:
– Не угодно ли, графиня и ваша светлость, поближе подойти.
Князь и графиня подошли к поручням.
Старший офицер, лихой моряк и знаток парусного дела, возбужденный, с загоревшимися глазами, забывший в эту минуту решительно все, кроме парусов, и казалось, еще красивее, со своим вызывающим видом лица и всей его посадки его стройной фигуры, как-то особенно звучно и весело крикнул:
– Свистать всех наверх! Паруса ставить!
Боцмана засвистали. Все матросы были на палубе, и марсовые бросились к мачтам.
– К вантам! По марсам и салингам! – крикнул старший офицер.
Сигнальщик уже перевернул минутную склянку.
Матросы взбежали по веревочной высокой лестнице духом.
Адмирал отошел от гостей и, подняв голову, впился глазами на мачты. Казалось, теперь он весь жил постановкой парусов.
– По реям!
Матросы разлетелись по реям как бешеные, словно бы по ровному полю.
Еще минута – и весь корабль, точно волшебством, весь оделся парусами.
И адмирал, и старший офицер, и боцман Кряква только довольно улыбнулись. Нечего и говорить, что князь дивился быстроте маневра.
– Одна минута, вашескобродие, – доложил сигнальщик старшему офицеру.
– Прелестно… Весь маневр в одну минуту… Это волшебство! – проговорил князь.
Адмирал не опускал головы с верху и зорко поглядывал на паруса, все ли до места дотянуто. Не спускал глаз и Курчавый и не заметил, что графиня бросала по временам на него восхищенные взгляды, словно бы на первого тенора на сцене.
Адмирал слышал слова князя и не подумал ответить.
«Точно могли на „Султан Махмуде“ ставить паруса более минуты! Точно матросы не работают как черти!» – подумал адмирал, и, конечно, в голову его и не пришло мысли о том, какими жестокими средствами дрессировали матросов, чтобы сделать их «чертями».
Вместо адмирала «грек», весь сияющий, благодарил его светлость за то, что быстрота так понравилась князю и графине, и точно он, капитан, виновник такого торжества.
Через несколько минут раздалась команда старшего офицера «крепить» паруса.
Снова побежали наверх марсовые и стали убирать марселя и брамсели. Внизу в то же время брались на гитовы нижние паруса.
По-прежнему царила тишина на корабле, и адмирал и старший офицер были в восторге. Уборка парусов шла отлично, и ни одного боцманского словца не долетало до полуюта.
Но вдруг – на фор-марсе заминка. Угол марселя не подбирается.
Курчавый в ужасе взглянул на фор-марсель. Адмирал нетерпеливо крякнул.
В эту минуту маленький молодой матросик, стоявший внизу у снасти, смущенно и быстро ее раздергивал. Она «заела» и не шла.
И, вероятно, чтобы понудить веревку, матросик чуть слышно умилостивлял веревку, говоря ей:
– Иди, миленькая! Иди, упряменькая!
Но так как «миленькая» не шла, то матрос рассердился и, бешено тряся веревку, тихо приговаривал:
– Иди, подлая. Иди, такая-сякая… Чтоб тебе, такой-сякой.
Унтер-офицер услыхал непотребное слово и, негодующий, чуть слышно проговорил матросу:
– Ты что ж это, Жученко, такой-сякой, ругаешься? Что я тебе приказывал, растакой с… с…
Боцман подскочил к снасти, раздернул ее и сдержанно сердито воркнул:
– Чего копались тут, такие-сякие, словно клопы в кипятке? Матрос, а насекомая, такая-сякая!
Мачтовый офицер в благородном негодовании воскликнул:
– Не ругаться, такие-сякие!
Среди тишины до полуюта долетели и «морские термины». Князь весь съежился. Графиня улыбнулась и отвернула лицо. Словно бы смертельно оскорбленный, что вышла заминка, как сумасшедший бросился старший офицер вниз, и, не добегая до бака, он крикнул:
– Отчего не раздернули?
– Раздернули! – крикнул Кряква.
– Раздернули?! А еще обещали… Постараемся!
И с уст старшего офицера как-то незаметно сорвалось «крылатое» словечко, и он полетел назад.
«Грек» замер от страха. «Все пропало! Его светлость?! Что он доложит в Петербурге?» – пронеслось в голове капитана.
И он уже был на баке и, по обыкновению мягко, проговорил:
– Перепорю вас, такие-сякие!..
Князь совсем сморщился… Графиня сдерживала смех.
Максим Иваныч, услыхавши всю эту брань, вспылил. Он побежал сам на бак. Но до бака не дошел и, увидавши ненавистного ему «грека», прошептал:
– Разодолжили-с… Нечего сказать… При даме-с!..
И позабывший, что дама в нескольких шагах, адмирал прибавил от себя более внушительные слова.
Только что взбежавши назад на полуют, адмирал вспомнил, что сказал, и, смущенный, чуть слышно спросил старшего офицера:
– Слышно было?
– Слышно, Максим Иваныч! – угрюмо проговорил старший офицер и продолжал командовать.
Закрепили паруса отлично. Никто из гостей и не заметил заминки на несколько секунд, которая «зарезала» моряков.
Марсовых спустили с марсов.
– Я в восторге, адмирал, – проговорил с утонченною любезностью князь. – Парусное ученье великолепно. Благодарю за доставленное наслаждение, любезный адмирал.
Адмирал смущенно поклонился.
– Прикажете продолжать учение, ваша светлость?
– К сожалению, не могу… Обещал смотреть сегодня пятнадцатую армейскую дивизию.
– Быть может, изволите позавтракать, ваша светлость?
Но князь извинялся, что нет времени, и скоро, любезно простившись со всеми, направился к трапу…
– Так вечером приходите! – промолвила, весело смеясь, графиня, протягивая руку Курчавому.
Проводивши гостей, адмирал вошел в свою каюту и, взглянув на парадно накрытый стол и на вестового в полном параде, воскликнул:
– Ну и черт с ним, если не захотел завтракать…
И, обращаясь к вестовому, крикнул:
– Старый сюртук и зови всех офицеров к столу, Суслик! Да башмаки свои можешь снять!
Волк
(Из далекого прошлого)
I
Однажды, под вечер воскресного дня, баркас с матросами первой вахты пристал к левому борту парусного корвета «Гонец», стоявшего на севастопольском рейде.
В числе возвратившихся с берега пожилой фор-марсовой Лаврентий Чекалкин, носивший кличку «Волка», поднялся со шлюпки озлобленный, мрачный и бледный. Голова его была обмотана тряпицей, пропитанной кровью.
Другой матрос, тоже пожилой фор-марсовой, Антон Руденко, поднялся на палубу, прихрамывая на одну ногу. Вспухшее его лицо было окровавлено. Половина уха была оторвана.
– Это что такое? – сердито спросил старший офицер Петр Петрович старшину баркаса.
– Передрались, ваше благородие.
Быстрый и решительный во всяких случаях, Петр Петрович крикнул боцману Гордеенку:
– Завтра до флага перепороть обоих!
– Есть, ваше благородие! Но…
– Какие там «но»? Я тебе «но» пропишу на морде!
– Слушаю, ваше благородие. Однако дозвольте переждать порку.
– Почему?
– Волк быдто поранен ножом, а Руденко вовсе измят. И ноги, должно быть, перелом.
– Были вдребезги?
– Выпимши, но при полном рассудке, ваше благородие!
Старший офицер изумился.
Оба матроса были исправные и приятели.
– И вдруг так изувечили друг друга? Из-за чего?
– Не могу знать, ваше благородие. Должно, из-за эстой самой Феньки, – со снисходительным презрением к женщинам прибавил боцман.
– Какая такая Фенька?..
– Молодая вдовая матроска.
– Ну, так что ж?
– С Волком два года путалась и в один секунд: «Отваливай! Очертел, мол, сразу». Беда какие торопливые есть матроски! – насмешливо промолвил боцман.
– Так, значит, Руденко не зевал на брасах… А Волк приревновал?..
– Не должно… Фенька в Симферополь утекла. Новый город пожелала увидать. Любопытная, видно! – усмехнувшись, пояснил старый боцман.
– Ничего не понимаю! – воскликнул Петр Петрович.
– Как баба облестит – никакого не выйдет понятия, ваше благородие!
– Тоже нашли – из-за бабы драться! А еще хорошие матросы! Позови-ка их сюда! – приказал Петр Петрович.
Он решительно был изумлен романической историей, и у кого же? «У пожилого умного Волка, казалось, не способного на такие штуки!» – подумал старший офицер, питавший некоторую слабость к лихому марсовому.
Уж очень хорошо он вязал штык-болт на ноке фор-марса-реи и вообще был «отчаянный» в работах матрос… Первый на «Гонце».
И вдруг – скажите пожалуйста!
Через минуту оба матроса подошли на ют, где стоял старший офицер.
– Так как же, Волк? Обезумел, что ли, под старость?
– Никак нет, ваше благородие! – застенчиво промолвил Волк.
– Хорош: «Никак нет!» Полюбуйтесь оба на себя. Доктор сейчас осмотрит. Нечего сказать: старые петухи! А еще приятели!.. Прежде пьянствовали вместе… А теперь, видно, отстал пить?
– Отстал, ваше благородие…
– Ну, говори, Волк, чтобы мне знать, как вас выдрать после починки. Из-за чего разодрались?
– Так, ваше благородие! Из-за разговора.
– Не ври, Волк… Из-за Феньки?.. Сказывай!
Волк молчал.
– Точно так, ваше благородие! С позволения сказать, из-за непутящего ведомства и вышла раздрайка! – проговорил виновато Руденко.
Волк только презрительно взглянул на приятеля.
– И ты, Волк, из-за бабы изувечил Руденку? А эта злая скотина пырнул тебя? Кто зачинщик?
– Я, ваше благородие! – безучастно вымолвил Волк.
– А ты, верно, подзадорил его, подлец? Волк зря не начнет! – сердито обратился старший офицер к Руденко.
– Я, ваше благородие, думал, чтобы как следует… Для его старался… Открыть, значит, глаза его хотел… Вижу, Волк здря в тоску вошел. Я и обсказываю: по той, мол, причине Фенька от его сбежала, что не очень-то лестно ей хороводиться с им. Прикидывалась, говорю, быдто обожает… Как пить, в Симферополе тую ж минуту молодого солдата нашла. Лукавая, ваше благородие! Вокруг пальца обводила Волка, а он…
– И Волк за твои подлые слова изувечил тебя, Руденко?
– Точно так, ваше благородие!
– Ты, подлец, как разбойник… ножом? Ну уж и отполирую я тебя, мерзавца!
– Не оборонись я ножом, не жить бы мне, ваше благородие! Освирепел из-за слов Волк. Извольте взглянуть на морду… И ухо… И нога…
– Мало еще тебе. Будешь помнить выволочку… Зачем лез с подлым разговором к Волку?.. Просил он тебя насчет Феньки?.. Говорил, что ли?
– Никак нет, ваше благородие…
«Какой же он привязчивый дурак!» – подумал старший офицер, взглядывая на Волка. И, казалось, теперь понял причину перемены Волка в последнее время.
Волку было стыдно и обидно. То, что скрывал он от всех, стало предметом общего внимания. Главное, о Феньке пойдут разговоры.
– Ступай оба. Доктор осмотрит! – сказал Петр Петрович.
И значительно смягченным тоном прибавил, обращаясь к Волку:
– А ты не тронь больше этого подлеца!
– Есть, ваше благородие!
– Ведь до смерти его изобьешь… У тебя кулак!.. И угодишь в арестанты из-за мерзавца. Помни, Волк.
– Есть, ваше благородие!
И тон голоса Волка, и выражение его лица как будто говорили, что не стоит в арестанты из-за такого человека, который своим подлым разговором довел до драки и теперь, как «последний матрос», обсказал причину старшему офицеру.
– И ты, Волк, знаешь… того… Не распускай шкотов… Нечего матросу скучать… Плюнь! – почти ласково промолвил Петр Петрович.
II
Через полчаса в кают-компанию вошел худощавый и маленький старый врач Никифор Иванович. Обыкновенно веселый и легкомысленный «папильон» [5]5
Мотылек (от фр. le papillon).
[Закрыть], он несколько озабоченно сказал старшему офицеру:
– Дело-то «табак», Петр Петрович!
– Больных не любите, так и «табак», Никифор Иваныч? – проговорил, подсмеиваясь, старший офицер.
Он хорошо знал, что этот «мичман», несмотря на его почтенный возраст, не любил лечить больных. Давно уже позабывший медицинские книжки, он всегда весело говорил, что природа свое возьмет, а не то госпиталь есть, если матросу предназначено в «чистую», как Никифор Иванович называл смерть.
По счастью для него и, главное, для матросов, на корвете больных не бывало.
– Да что их любить, Петр Петрович! А Волка нужно бы в госпиталь!
– Разве на корвете нельзя зачинить?
– Все можно, а лучше отправить на берег. Природа у Волка свое возьмет, и хирург живо обработает. Рана глубокая, под ухо прошла… Перевязку сделал, а теперь пусть дырку чинят в госпитале. Верней-с. Ну, да и я, признаться, давно не занимался хирургией, Петр Петрович!.. И вообще не любитель лекарств! – откровенно признался Никифор Иванович.
– А Руденко что?
– Отлежится… Дня через три с богом порите его, Петр Петрович!
– А нога?
– То-то перелома будто нет. Посмотрю, как завтра… И ловко же его изукрасил Волк! Счастье, что Руденко еще цел! – весело промолвил старенький доктор.
Старший офицер послал вестового сказать на вахте, чтобы подали к борту четверку, и сказал юному, несколько месяцев тому назад произведенному смуглолицему мичману Кирсанову:
– Отвезите, Евгений Николаич, вашего любимца в госпиталь. Да попросите сейчас же его осмотреть и спросите, нет ли опасности.
– Слушаю, Петр Петрович!
– И ведь с чего сбрендил старый дурак! Знаете, Евгений Николаич?
– Знаю, Петр Петрович. Оттого он переменился в последнее время и тосковал.
– То-то и удивительно… Волк… и… из-за какой-то Феньки!..
– Волк не похож на других… Он по-настоящему любит женщину! – краснея и взволнованно промолвил мичман, словно бы обиженный за удивление старшего офицера.
Мичману было двадцать лет. Ему казалось, что и он «по-настоящему любит», и навеки, конечно, эту «божественную» Веру Владимировну, к сожалению, жену капитана первого ранга Перелыгина. Он знаком с нею три месяца, и с первой же встречи влюбился в эту хорошенькую блондинку лет тридцати и таил от всех свою любовь. «Божественная» с ним кокетничала, а он благоговел, по временам втайне желал «кондрашки» толстому, короткошеему капитану, раскаивался и верил, что госпожа Перелыгина – пушкинская Татьяна. Недаром же она любила декламировать:
Но я другому отдана
И буду век ему верна
Вымытый, перевязанный и переодетый, с «отсылкой» (бумагой) в госпиталь, вышел Волк на палубу.
Перед тем как Волку спускаться в шлюпку, его окликнул старший офицер и сказал:
– Скорей починись, Волк!
– Есть, ваше благородие!
Вся команда, уже в палубе, пожелала Волку скорей вернуться на корвет.
Он хотел было идти на нос шлюпки, но мичман приказал матросу сесть на сиденье рядом с ним, и четверка отвалила.
Вечер был обаятельный. Звезды загорелись в небе.
Волк задумался.
Это был здоровый, крепкий человек, далеко за сорок, мускулистый, широкоплечий, мешковато одетый, спокойно-уверенный в своей физической силе, привыкший к морю и любивший его, с грубоватым, суровым лицом, с тем выражением искренности, простоты и в то же время какого-то философски-спокойного ума, которым отличаются моряки, много видавшие видов на своем веку.
Еще недавно его серые глаза светились радостно, и по временам в его серьезном лице появлялась горделиво-торжествующая улыбка счастливого человека. В то время он и бросил пить, вдруг сделался бережлив и стал мягче характером.
Суровый на вид, он обыкновенно редко сердился, и его трудно было разозлить. Только скалил свои крепкие белые зубы и добродушно подсмеивался. Но, когда его охватывал гнев, он напоминал обозленного волка, и все боялись довести матроса до исступления. Знали, что мог избить до смерти, если не удержать силой.
В последнее время Волк сразу изменился. Стал молчалив, угрюм и раздражителен. По временам долго смотрел на море, точно думал какие-то невеселые думы, и глаза его были тоскливые, какими прежде не бывали.
От людей старался скрыть тоску, и матросы, любившие и уважавшие Волка, только дивились, пока не узнали, что его бросила Фенька, безумная «приверженность» к которой была известна на корвете и всех изумляла.
– Чудеса! Вовсе втемяшился Волк! – говорили тихонько на баке.
Но подсмеиваться над ним не смели.
Все знали, что Волк вообще не любил «пакостных» разговоров, как называл он циничные шутки о бабах, обычные на баке, и очень озлился бы за Феньку. Раз он избил до полусмерти одного матроса, сказавшего при нем что-то скверное о ней.
И это хорошо помнили на баке.
Шлюпка повернула с рейда в Корабельную бухту.
Море точно дремало. Кругом было тихо-тихо… Только часовые с блокшивов, на которых жили арестанты, перекликались протяжными «слу-шай!..».
Огоньки мигали в домах слободки.
Волк глядел на огоньки… Еще месяц тому назад Фенька здесь жила…
«Конец!» – подумал Волк, и чувство обиды и боли охватило его, когда он опять вспомнил «скоропалительность» перемены Феньки… Была, кажется, привержена, обещала вернуться из Симферополя и вдруг так «обанкрутила»…
Слова Руденки жалили его сердце, точно змея…
– Что, брат Волк… Болит голова? – вдруг участливо спросил мичман.
– Самую малость, ваше благородие!
– Верно, скоро выпишешься…
– Как бог, ваше благородие…
– Экий подлец этот Руденко!.. Уж ему будет!
– И без того… избил… А полегче бы его пороть, ваше благородие!.. Заступились бы, ваше благородие, перед старшим офицером… Зачинщик-то я… Я и виноватый!
– И ты еще заступаешься за подлеца? – воскликнул мичман, тронутый словами Волка.
– А то как же, ваше благородие? Не оборонись он и не ошарашь ножом, пожалуй, быть бы мне убивцем… За это в арестанты.
– Разве убил бы?
– В обезумии человек на все пойдет, ваше благородие, – необыкновенно просто и убежденно сказал Волк.
«Он по-настоящему любит», – снова подумал мичман.
И ему стало обидно, что он не только не вызвал на дуэль одного лейтенанта, который в кают-компании назвал «божественную» Веру Владимировну «любительницей похождений», но промолчал и теперь даже разговаривает с лейтенантом.
«И какой я подлец в сравнении с Волком!» – мысленно проговорил мичман.
Он несколько минут молчал, чувствуя себя виноватым и восхищенный любовью матроса. И вдруг порывисто и сердечно проговорил, понижая голос до шепота:
– Знаешь что, Волк?
– Что, ваше благородие? – чуть слышно ответил Волк.
– Может, ты захочешь известить Феньку, что ты в госпитале… Так скажи адрес. Я напишу.
– Спасибо, ваше благородие… Не надо!
И при лунном свете лицо Волка показалось угрюмее, когда он еще тише прибавил:
– Не приедет, ваше благородие!..
– Шабаш! – крикнул мичман.
Четверка остановилась у пристани.
Юный мичман приказал гребцам ждать его возвращения и вместе с Волком вышел на берег.
– Скорей поправься – и на конверт, Лаврентий Авдеич! – горячо проговорил молодой загребной на четверке.
– Спасибо, братцы! Чуть починят башку – на конверт!
Мичман с Волком поднимались в гору. Матрос шел немного сзади, соблюдая дисциплину.
– Иди рядом, Волк! – наконец проговорил Кирсанов.
– Есть, ваше благородие!
И Волк поравнялся с мичманом.
– Отчего, ты думаешь, не приедет?.. Только написать… Навестит.
– Не надо, ваше благородие.
– Недобрая, что ли, она?
– Она?! Руденко все набрехал на нее! – возбужденно проговорил Волк.
– Так отчего же она уехала?.. Ты так привязан к ней. Нарочно зимой на вольную работу ходил, чтобы только…
– Не пытайте, ваше благородие! – перебил матрос.
В его голосе звучала почти что мольба.
Юный мичман сконфузился и смолк.
В госпитале как раз был вечерний осмотр главного доктора, и были все врачи, когда пришел мичман с раненым.
Хирург внимательно осмотрел рану Волка, ковырял ее каким-то инструментом и велел фельдшеру поместить Волка в палату.
– Счастливо оставаться, ваше благородие! – ответил Волк на ласковое прощание мичмана.
И когда матрос ушел, мичман спросил пожилого рыжеватого врача:
– Что, доктор, опасна рана?
– Опасна! – умышленно преувеличивая опасность раны, отчеканил резко, с апломбом, рыжий врач, словно бы недовольный недостаточно почтительным тоном профана к жрецу.
– Волк умрет? – испуганно, чуть не со слезами проговорил мичман.
– С чего вы это взяли? Опасна – не значит смертельна! – внезапно смягчаясь, промолвил рыжий врач при виде испуга мичмана за матроса. – Не волнуйтесь, молодой человек… Бог даст, выживет… Здоровый. А странная фамилия: Волк…
– Это, доктор, кличка… А фамилия его Чекалкин… Первый матрос у нас на корвете… И какой хороший человек, если бы знали!.. Вы, доктор, почините его! – умоляюще и краснея просил мичман.
– Постараюсь… А вы первый год мичманом? – ласково улыбаясь, промолвил врач.
– Первый… А что?
– Свежестью веет… Приятно смотреть на такого мичмана… Позвольте познакомиться… Зайдите ко мне как-нибудь…
Они назвали фамилии друг другу, и оба, по-видимому, были довольны новым знакомством.
Когда мичман вернулся на корвет и доложил старшему офицеру, что сказал хирург, Петр Петрович поморщился и пошел к капитану доложить о происшествии.
Ввиду серьезности раны капитан недовольно заметил, что придется написать начальнику эскадры рапорт, и прибавил:
– А как Руденко отлежится, дайте ему триста линьков…
– Есть!
– А потом под суд… Законопатят в арестанты… Ножом пырнуть! Мог и убить!
Капитан помолчал и прибавил:
– И как это Волк втемяшился в какую-то там бабенку-с!.. Не первогодок, кажется… Не понимаю-с!
– И я не понимаю… Мог бы понять, что ему сорок шесть, а этой Феньке, говорят, двадцать пять!
– Конечно, возраст основательный… Но… но Волк молодец и ведь не старик же, однако! – с внезапным раздражением крикнул капитан.
И старший офицер спохватился, что дал маху.
Капитану было сорок пять, а его жене – двадцать.
III
Волк лежал на койке рядом с матросом Бычковым, сломавшим себе ногу при падении с марса-реи фрегата «Проворный».
На третью ночь после поступления в госпиталь Волк не спал. Болела голова, и тревожили тяжелые мысли. Не занятый работой, он вспоминал недавнее время, – и не мог от него оторваться.
И с какою-то мучительной проясненностью проносились перед ним картины счастья. А теперь?
Волк только встряхивал головой, словно отгоняя от себя тоску.
Припоминал, в чем виноват был перед Фенькой, и мучился раскаянием.
«Оттого и бросила!» – объяснял внезапное решение Феньки этот не понимавший женщин матрос. И с тоской любящего сердца, потерявшего навеки Феньку, прошептал:
– Крышка!
– Чего не спишь, Волк? Это насчет чего крышка? – спросил сосед по койке.
Волк не отвечал.
Но ему вдруг захотелось открыться, выкрикнуть кому-нибудь про боль смятенной души, не дающей покоя.
И, сдерживаясь от волнения, проговорил:
– А я, братец ты мой, думаю: не может этого быть, чтобы бабья душа была вроде как беспардонная… Сегодня, к примеру, ты хороший, а завтра – подлый человек, и чтобы духа твоего не было… Такой загвоздки в секунд нет… Видно, другая какая загвоздка…
– Стоит и обмозговывать! Нашел чем заниматься! – ответил Бычков, удивленный, что такой степенный и старый матрос думает о таком нестоящем предмете, как бабья душа, да еще ночью, когда спать надо. Но так как и Бычкову не спалось – нога ныла, – то он тотчас же прибавил: – Всякая баба беспардонная и есть. Но только мало полного нашего понятия о бабе. От нее столько загвоздок, что лучше и не думай, по каким причинам, а бей ее! Оно верней.
Бычков, матрос лет за тридцать, уверенно и убежденно проговорил эти слова и притом без всякого озлобления. Напротив! И в его некрасивом, грубом лице, и в тоне его голоса было много добродушия.
– За что бить? – спросил Волк.
И в его голову пришла мысль: может, не обескуражила бы его Фенька, если бы он ее бил? Но в ту же минуту мысль эта исчезла. Стал бы он ее бить! Да и Фенька в его глазах была особенная. Тронь только ее!
– А за все, братец ты мой! Такая уж в их природа. И которые лестнее, вовсе беспардонные шельмы! Видал ты вчера мою матроску, Волк? Проведать забегала…
– Видал.
– Так завсегда вертит подолом, стерва! По глазам ейным вижу… И чем глаза ласковей, тем больше облыжности… Значит, уж продает меня. Заметает, подлая лиса, хвостом… Как, мол, ловчей обмануть законного своего матроса!
Волк жадно слушал. Это суждение Бычкова казалось откровением. И ревнивые подозрения невольно закрадывались в голову Волка.
А Бычков среди тишины палаты, нарушаемой храпом или каким-нибудь словом во сне, вполголоса продолжал:
– Уж сколько я дубасил свою матроску – все загвоздок искал.
– И что же?
– Зря! Только мужчинское свое зло срывал. Бывало, бьешь – клянется… Прибавишь бою – Аришка взвоет и сперва поклянется, а потом зарок даст… «Никогда, мол, не буду… В потемнении рассудка, дескать, закон нарушила… Подлый матрос, мол, слабую матроску облестил… Так – по путе ветром надуло… А я, говорит, тебя только, законного матроса, и обожаю…» И ведь так ублажит, что, по нашей подлости, и поверишь…
– А веры-то нет?
– Верь подлой! Синяки прошли, она опять за свое. Кровь в ей бунтует. Никак не может. Ну, и приверженности ко мне такой нет, чтобы закон Аришке в охотку… Однако – врать нечего – добрая матроска и завсегда уважит… Пойми-ка эту линию, Волк!
Но Волк не понимал, казалось, и возмущенно сказал:
– Подлость одна бить так бабу.
– То-то и я бросил потом Аришку. Вижу, не выучишь. И нет во мне прежней обиды. Служи, мол, такая-сякая, как обвязанная жена, и мой хлеб жри, и черт с тобой, ежели ты вроде быдто влюбленная… Путайся с другими… Вот, братец ты мой, как я полагаю насчет загвоздок… Плюнь, и шабаш!
Волк был возмущен и молчал.
– А ты, Волк, чего не спишь?.. Какая загвоздка? Или башка болит? С чего это тебя матрос ножом пырнул?..
– Избил его… Не догадайся он ножом, я б его до смерти…
– Пьяный?
– То-то тверезый.
– Так чем же тебя матрос до точки довел?
– А он не будь что ни на есть подлюгой! – взволнованно начал Волк, закипая гневом. – Нечего сказать, открыл свою подлую душу… И ведь нет больше подлости, как обессуживать бабу… Бреши на ее – всякий поверит. А она что с подлецом сделает? Он-то расславит… Пакость на ей и останется. Понимаем ли мы бабу? Нам только чтобы себя потешить… И ты, Бычков, как ее понимаешь?
– Да так и понимаю. На то и дадена баба.
– Разве это правильно, ежели по совести? Можно, что ли, так форменно жить? Вот ты Аришке считаешься будто мужем. Собаки и есть. По-собачьи и живете… А знаю я одну, так она не такая. Позволит кто-нибудь ее лошматить? Наплюет тебе в рожу, да и от тебя в утек… Горда. Не то, что прочие… Ваши все на обман. А главное, Фенька наотмашь всю причину сказывала. Ничего не боялась.
Голос Волка звучал восторженно.
– Чудно что-то… Так ты из-за эстой Феньки…
– А ты как думал?
– Ты, значит, вроде быдто…
Но Волк перебил:
– Не вроде быдто, а форменно привержен. Меня она, может, другим обернула… Тоже и я до Феньки вроде как пес был… А как бог мне счастья послал… Феньку узнал, так прямо-таки под всеми парусами врезамшись на мель… И шабаш… Понять можешь, Бычков?
– Бывает, видно… Втемяшится, быдто как в потемнении рассудка человек…
– Небось не в потемнении, а в полном рассудке… И жизнь пошла другая. Будем мы, мол, по-хорошему… Мною не брезговала, понимала, что Волк душу ей отдаст… И как это… в секунд поворот от меня… Так и сейчас не войду в понятие… В чем загвоздка…
Голос Волка оборвался.
Невыносимая тоска томила его. Прошла минута-другая в молчании.
Наконец Бычков сказал:
– Так, значит, этот самый матрос, которого ты избил…
– Что матрос? – грозно перебил Волк.
Бычков испуганно промолвил:








