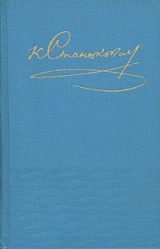
Текст книги "Том 9. Рассказы и очерки"
Автор книги: Константин Станюкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 26 страниц)
На другой галс [6]6
Лечь на другой галс – значит поворотить. (Прим. автора.)
[Закрыть] *
I
Однажды, когда июльский день в захолустном городке выдался особенно жаркий, Нилыч и я спасались от палящего зноя под густою листвой дикого винограда беседки в фруктовом саду.
Разумеется, Кудластый был с нами. Он спал, всхрапывая тяжело и беспокойно.
Нилыч, возвратившись ранним утром с купанья, нарубил сажень дров и аккуратно сложил их, потом дал обычный урок маленькому Абрамке и, по окончании урока, занялся починкой кое-каких погрешностей своего костюма.
Теперь, после двух рюмок водки, плотного завтрака и недолгого сна в своем сарае, Нилыч с чистою совестью и по праву благодушествовал, покуривая трубку и ловко сплевывая в сад через открытую дверь беседки.
Кругом стояла мертвая тишина. Зной точно истомил людей и животных. Все притихли. Городок будто замер.
Со двора и из дома ни звука.
Не слышно было гнусавого и нежного голоса «уксусной» хозяйки, имевшей обыкновение «скулить», как выражался Нилыч, упрекая Акцыну и Карпо решительно за все, за что только могла придумать придирчивая скаредность хозяйки.
Она «скулила» и за то, что наймиты не берегут хозяйского добра и не жалеют «бедной слабой женщины», и за то, что получают жалованье совершенно напрасно.
Не раздавалось протестов Акцыны и иронических ответов Карпо. Не слышно было шуток и перебранок между собой их молодых певучих голосов. Обыкновенно болтливые, они словно набрали в свои рты воды. Не мурлыкал лениво и Карпо. И куда делся он, не могла бы ответить и Акцына, дремавшая в кухне.
Почтенная свиная семья – маменька, папенька и пять боровков – растянулись под забором и – ни хрюка. Не шелохнулась, ни разу не крякнув, стайка уток, забившаяся в траву. Не видать ни гусей, ни индюшек, ни хвастуна павлина. Даже два петуха не вскрикивали как оглашенные, что жарко, и курицы не кудахтали и куда-то попрятались.
Нилыч не раскис от жары и неожиданно и несколько возбужденно вдруг проговорил, понижая свой громкий голос бывшего боцмана:
– То-то оно и есть, вашескородие! Вовсе чудные загвоздки бывают на свете, ежели подумать… Поди обмозгуй их!
После этих слов Нилыч снова смолк.
Смолк и задумался, подняв глаза на кусочек голубого неба, с которого глядело ослепительно-жгучее солнце, заливавшее блеском замлевшие деревья и рдевшие плоды перед беседкой, словно бы искал в бирюзовой лазури объяснения «загвоздки», и даже не раскуривал потухшей в его зубах трубочки.
Прошла так минута, другая задумчивого созерцания Нилыча.
Наконец он отодвинулся в тень беседки, сунул трубку в карман своих широких полотняных штанов и, обративши ко мне сморщенное загорелое лицо, раздумчиво произнес:
– Я и говорю: не понять, вашескородие!
– Что не понять, Нилыч?
– Да человека… Жил себе, примерно сказать, все время на одном галце и вдруг круто обернул на другой галц. И раскуси, по какой такой причине? Что у его в душе? В том-то и загвоздка, что быдто из-за смеха… И уж как его ни утихомиривали – и так и этак – ничего не боялся человек, а смеха испугался… И ведь кто его поднял на смех? Прямо-таки вроде молокососа… И из-за такого зубоскала и – поди ж – переменил весь курц жизни, вашескородие!.. А доложу вам, что был человек не то чтобы в легких годах, а в пожилом возрасте… За пятьдесят перевалило, как он вошел в другое понятие… Почему? В каких смыслах? А он ни гу-гу… На другой, мол, линии – и шабаш! Просто, вашескородие, ошарашил, и никто не обмозгует насчет поворота… Да и как не обалдеть? Небось вовсе обалдеешь рассудком, ежели, примерно сказать, здешняя уксусная барыня да вдруг встанет утром совестливой и не заскулит, что ее, скареду, обкрадывают. Так точно и тогда, вашескородие… Ума помрачение быдто нашло… Смотрим и не доверяем глазам…
– Да вы про кого это, Нилыч?..
– Да про боцмана Шитикова. Три года я с им ходил в дальнюю, на «Вихре». Добрый конверт был, вашескородие… Так вот этот самый боцман Шитиков… Может, изволили слышать?..
– Нет, не слыхал…
– Вовсе обозленный был человек и уж такой беспардонный по свирепости, что другого такого боцмана я во всю службу не видал, вашескородие… А кажется, видел боцманов! И бил вроде смертного боя, и уж ежели кого пороть прикажут, то Шитиков обязательно сам лупцует линьками и как есть палач… Начнет и распаляется… И что дальше, то больше… Вовсе в озверение входит… И никакой пощады… И никому…
– С чего он, в самом деле, был такой зверь? – спросил я.
– То-то и я хотел дойти своим понятием до этого самого. Почему, мол, в Шитикове такая озлобленность и на своего же брата – матроса? Не зверь же он в мужиках был… Земляки сказывали, что никакой злобы не оказывал… И когда в матросы поступил, не было в ем карактера, который временем объявился…
– Как же вы, Нилыч, объяснили себе зверство боцмана?..
– Самой флотской службой, вашескородие. Из-за страха перед тогдашними начальниками, чтобы не отшлифовывали самого, он и озверел… Отличиться хотел… Так по всему оказывало, ежели вникнешь с рассудком… То-то оно и есть, вашескородие. Такие загвоздки бывают, что и человек вдруг зверем станет по трусости перед боем и линьками… Небось изволили слышать, какая была прежде служба? Тоже хоть и теперь взять, например, уксусную… За что она теснит и на деньги зарится?.. Ежели обмозговать, так и она не зря паскудой стала! – не без философского поучения прибавил Нилыч.
И Нилыч примолк.
Так прошло несколько минут. Старик покуривал и сплевывал и, казалось, не хотел продолжать своих воспоминаний о боцмане Шитикове.
– Да вы что же не продолжаете, Нилыч?.. Только раззадорили началом… Вы расскажите про боцмана, и как смех изменил его… Это что-то удивительно…
– Очень даже удивительно, вашескородие.
– Так что же вы оборвали рассказ?
– После обскажу, как вышла с боцманом загвоздка.
– Отчего не сейчас?
– Неспособно вам слушать…
– Почему? – удивленно спросил я.
– От жары изморились, вашескородие.
– Верно, вам жарко рассказывать, Нилыч.
– Мне! – не без обидчивости воскликнул Нилыч. – Я даже уважаю жару, а не то чтобы Нилыч словно окунь на песке… Жарит старые кости, отогревает от смерти… А вы: «Боится жары». Меня и на Яв-острове солнце не оконфузило… Небось и здесь не разлимонит, вашескородие, как здешних хохлов… Сама уксусная, уж на что как домовая какая, бродит день-деньской и скулит, и эта подлая щука пасть раскрыла и отлеживается… И лукавая девка Акцына и шельма Карпушко не стрекочут. Лодырничают от жары… И жида на улице нет… Быдто все передохли как мухи… И животные попрятались… А я не сержусь… Главная причина: кожа не боится и сух всем телом…
– Так рассказывайте, Нилыч. Я буду внимательно слушать.
– Что ж, коли вгодно, объясню вам про боцмана и матросика.
– Это про зубоскала?
– Про этого самого… Ловко он зубы скалил и умел высмеять боцмана, то-то смешил ребят… А поди ж, и вовсе тихий и щуплый был матросик!
Нилыч сделал последнюю затяжку и продолжал.
II
– Был Шитиков и из себя, можно сказать, злющий. Такой худощавый и не входил в тело, хоть и ел много… Значит, внутри никогда не было замиренья – злость беспокоила… И глаз у его был тяжелый, вроде быдто рыбьего. И рыжий. И больше капитана и старшего офицера на конверте нашем «Вихре» требовал с матроса… Для их и старался, и нудил строгостью команду, и в тоску вгонял. Бил ожесточенно и без пыла, а спокойно. И ни с кем не водился… Ни с кем не разговаривал… Так на конверте и был в одиночестве, вашескородие… Понимал, что ребята вовсе не терпели его и он как какой-нибудь ненавистник всем был… А попал он вскорости после поступления на службу к капитан-арестанту Тузову. Может, слышали, какой вверь был, вашескородие! Во флоте все знали.
– Слышал.
– Ну так у этого самого капитана и была выучка Шитикову, да такая, что там он и озлобился. В госпитале пролежал от боя и порки. Карактерный был. Бросил после того пить без рассудка, когда спускали на берег, и стал стараться, чтобы из матросского положения выбиться и сохранить свою шкуру. Из сил выбивался и по службе и по поведению. С берега возвращался завсегда на своих ногах и ни боцманам, ни унтерцерам ни боже ни непокорное слово, чтобы самому в унтеры выйти. И к этому он вел линию. Мол, лучше других шлифовать, чем с меня будут сдирать шкуру. А на «Нетрони» и капитан Лев Иваныч Тузов, и старший офицер Николай Васильич Долгий были под масть. Два сапога пара. Обучали нашего брата по-старинному. Дня не проходило, чтобы на баке не стояло крика и стона… Я, вашескородие, служил на «Нетрони» и не раз кричал из-за линьков… Не приведи бог. Вы такого, прямо сказать, разбоя на флоте уж не застали. Другая мода насчет боя пошла при вас, вашескородие… Батюшка император, покойный Александр Второй, пожалел: и волю дал, и разбой на флоте отменил… Царство небесное нашему спасителю!
Эти слова Нилыч произнес с умилением и проникновенно. И, обнажив голову, встал со скамьи и истово перекрестился.
– Вскорости произвели Шитикова в унтерцеры – на собачью должность на «Нетрони» – и в первый же раз, как приказали пороть, он, вроде как живодер, отличился… И если капитан или старший офицер желали, чтобы матроса отшлифовать во всей форме и без фальши, чтобы помнил, то беспременно приказывали, чтобы Шитиков принимал в линьки… И уж старался, оправдывал доверие начальства. Жарит это с расстановкой изо всей силы линьком по матросской спине, и что дальше, то сильнее жарит. Только побледнеет из себя и хучь до смерти забьет, если велено по счету всю плепорцию. И начальство очень даже одобряло Шитикова… А он тем азартнее старался… И матросы так и прозвали его живодером… Молчит… И сам понимает, что начальники на «Нетрони» живодеры и требуют, чтобы унтерцер был живодером, не то ему в кису, да и самого в линьки – звания небось не разбирали… По самой такой причине вовсе Шитиков из-за страха, как обсказывал, и продал свою душу… И бога забыл… А как старший офицер получил бриг под команду, Шитикова взял к себе… Можете понимать, как он нового капитана оправдал… Взвыли матросы!
Нилыч помолчал, откашлялся и продолжал:
– Лет через десять, а то и больше, опять довелось мне служить с Шитиковым на «Вихре». Уж он старшим боцманом был. Все на своем галце был. И, надо правду сказать, хоть и командир, и старший офицер, и прочие офицеры в строгости требовали службы, однако с ими можно было служить… Жестокости не было, и назначение линьков было не очень обидное… Все больше по двадцати пяти ударов всыпали. Редко когда по ста обескураживали, а свыше – вроде как на смертоубийство – не назначали… И бой был с рассудком… Но Шитиков и бил без рассудка, и так сам отсчитывал двадцать пять, что как есть палач… И на «Вихре» по-старому и прозывали. Живодер да живодер… Плавали мы так с им около двух лет и терпели живодера… Одна рыжая морда его тоску наводила… И боялись боцмана за его ненависть к матросу… И ничего с им не могли поделать… Ничего он не боялся…
– А вы разве жаловались на боцмана? – спросил я.
– Это кому же, вашескородие, по старым временам? – не без иронической нотки задал в свою очередь вопрос Нилыч. – И за что жаловаться?.. Так наказывал боцман не от себя, а по приказанию… А бой был дозволен боцману… Да и нельзя боцману без боя… Только с рассудком и без повреждения личности… В том-то и различка… И я был боцманом, вашескородие, доводилось – чесал морды, хучь голубь наш Василий Федорыч и запрещал… Однако никаких кляуз не было, и матросы не обижались… А на Шитикова все обижались… Хоть, нечего врать, зря Шитиков не дрался. Обвязательно за неисправку какую. Только уж всякое лыко в строку было у его, обозленного, за то, что живодер и нет сил хотения отстать… Ежели ты столько лет живодерничал, то не отстать… И всячески мы пробовали утихомирить его… Ничего не брало…
– А как матросы пробовали утихомирить боцмана?
– Всячески. Два старые матроса усовещивали… Бога просили вспомнить…
– Что ж боцман?
– Больше отмалчивался… Тогда избили раз на берегу в Риве (Рио-Жанейро). В самом лучшем виде остался… После того недели три отлеживался…
– И вы били, Нилыч?
– А то как же? Очень даже бил. Все присогласились поучить боцмана, и я… Как же выучить такого живодера… И обвязательно выучивали, чтобы боцманов…
– А Шитикова?
– То-то я и обсказывал, что ничего его не брало. Отлежался – и опять за свое.
– Что ж, жаловался он на матросов за побои?
– На это подлости в ем не было, вашескородие. И когда старший офицер выспрашивал его, объяснил, что расшибся… И ни на ком не вымещивал… А переносицу-то сломали… Однако не взыскивал за переносицу… Живодер, а, правду сказать, справедливость была в ем… Хорошо. Видим это мы, что выучка впрок не пошла, старые матросы решили, как на Яв-остров, в Батавь (Батавия) придем, снова проучить боцмана на берегу… Однако не пришлось, вашескородие.
– Отчего?
– Не съезжал на берег с командой… Догадался… А отпросился съехать одному… И на берегу один как перст шатался… И вскоре вернулся… Видно, не скусно в чужом городе в одиночку скучить… На конверте хоть людей российских видишь… А с им даже баталер и фершал не хороводились. Таким родом терпели мы живодера без малого два года… Приходилось ждать еще год возвращения домой. А тогда Шитикову в чистую отставку. Ему уж предлагал старший офицер в ластовые офицеры. Однако не согласился. По другой части, по своему, мол, званию, простому, найду место! Это он обсказал старшему офицеру. Не полез в офицерское звание… Ума в ем, значит, хватило… Понимал, что ни пава ни ворона будет. Ну, плаваем это мы по морям, заходим в порты, ждем не дождемся, когда пройдет еще год, как загвоздка эта самая и случилась… Пришли это мы в Гонконт, как с клипера «Голубчика», что на рейде с нами стоял рядом, перевели к нам на конверт матросика, по прозванию Зяблик… Вот этот Зяблик и утихомирил живодера… Не иначе как через его Шитиков вдруг повернул на другой галц… Чудеса!.. А я, вашескородие, выкурю трубку и опосля про Зяблика обскажу… Не изморились от жары?.. Подпекает… А по мне вовсе даже хорошо…
Нилыч набил трубку, не спеша выкурил ее и продолжал.
III
– И обскажу я вам, вашескородие, по своему понятию, что есть люди без всякой утайки и хитрости. Есть, хоть и редки. И как их обозначить, не умею. А только с ими жить лестнее… И – вот поди ж! – встрел ежели такого человека, еще не обознал его, а уж тебе стало веселей, и самый такой человек приворожил. Значит, сразу обозначил открытую свою душу… Вот, мол, она, братцы, глядите, какая приветливая, безобманная… И я так полагаю, что из этого самого и выходит приверженность к человеку.
– А разве твой Зяблик был такой?
– Такой и был, вашескородие. И с первого же разу Зяблик полюбился команде… вот этим самым, что какой-то особенный был… Главная причина, что глаз у его… и веселый и ласковый. И был он невысокенький, щупленький, чернявый матросик и такой обходительный, и простой, и ласково так улыбается, быдто радуется жизни и нет у его никакого зла на людей… И как мы увидели Зяблика, словно, мол, его-то самого, веселого матросика, не хватало на «Вихре»… В тот же вечер уж он на баке развеселил команду – услыхали, как Зяблик рассказывал… И так это ловко и затейно, так все одно к одному, что на баке заслушались… Откуда только берется?.. И как представил опосля, как старший офицер на «Голубчике» зудит, а боцман ругается, ребята покатились со смеху… Быдто живые перед нами… и смешные… Но только Зяблик пересмеивал без всякой злобы, вашескородие… Простодушный сам. Да и на «Голубчике» хорошо было служить… Добрые попались начальники… И боцман на «Голубчике» больше пугал словами, а дрался не очень, да и с большим рассудком… Видно, Зяблику от бога было дадено, чтобы умел матросскую тоску разгонять смехом и обнадежить обескураженного флотского человека… А сам вовсе не был обескуражен, хотя у нас на «Вихре» и тиранствовал боцман, и от хорошего житья на «Голубчике» пришлось матросику попробовать наших вроде арестантских рот на конверте…
– А Зяблику попадало? – спросил я.
– То-то попадало, вашескородие.
– За язык?
– Никак нет, вашескородие. Боцман придирки не оказывал за то, что Зяблик мастер был на смешливые слова… Даже сам, случалось, тихо подойдет и прислушивает, когда на ночных вахтах Зяблик сказки сказывал или от себя что-нибудь выдумывал, вроде быдто смешную сказку… Ребята всегда просили Зяблика… И уж так рассказывал, что, бывало, заслушаешься… До самого сердца захватывала какая-нибудь чувствительная сказка, вашескородие… А Зяблик всякие знал… И опять же: голос его был такой, что просился в душу… Попадало Зяблику за службу. Он хоть и старался, а по флотской части не входил в понятие… Форменным матросом не вышел… Ну, Шитиков и взыскивал… Боем донимал за всякую неисправку… И безо всякой поблажки… И Зяблик часто таки то с расшибленным носом, то зубы в крови… И даже боцмана удивлял, вашескородие, Зяблик и даже пронял…
– Чем?
– А тем, что сносил бой покорно, но только безо всякой серьезности… Получит да еще улыбается; зубы в крови, а скалит их. Быдто ему в шутку… и быдто за зверство над боцманом же смеется… Вот это самое и озадачивало Шитикова, – много в ем было амбиции. Бой Зяблик терпит: принял, отошел и улыбается. Ребята, бывало, жалели его, а он… смеется… «Не убьет, говорит, боцман… Злость его, братцы, поддерживает, а то бы вроде шкелета стал…» И раз после отчистки боцмана пришел наш Зяблик на бак. Губы подобрал, щеки втянул и стал цедить как Шитиков: «Я, мол, все могу, я, мол, хочу, чтобы меня пужались… И тем живу… А как ежели вы, такие-сякие, не будете бояться за бой, то мне беда… Хучь в лазарет… Ой, ой, ой… Помогите, братцы… Бойтесь меня, что я живодер… Дохтур… пожалуйте! Я бедный… меня матросик обижает. Не боится, а смеется». И точно боцман как живой… И такой, я вам доложу, смешной… И голос, и походку… все Зяблик перенял… И на баке так и раскатились смехом, – даром что все мы в скуке были, потому штормовали в Тихом океане… Конверт под штормовыми парусами так и валяло во все стороны… И волны так и захлестывали… Обдавало водой здорово… И смутные мысли приходили в голову. А Зяблик всю скуку разогнал… Гогочем… И вот – извольте понять, вашескородие, – боцман уже не так страшен быдто стал, а над им смеемся… Ишь ведь какой оборот дал Зяблик смехом… И хучь у его здорово подбит глаз, а он смеется и говорит: «Бедного прикормил… а то без меня не было бы, братцы, ему скусной пищи… Бедный и есть!» И опять смеемся… И перекрестили мы живодера в бедного… Услыхал это «бедный». И не раз слыхал, как Зяблик его передразнивал… И матросы, как вспомнят Зяблика, глядючи на боцмана, тоже тишком улыбаются… Дошло и до офицеров… Мичман один видел, как Зяблик представлял боцмана, и очень смеялся… И, видим, еще свирепей стал с виду боцман… Ходит это по баку на вахте и все, верно, входит в понятие насчет смеха Зяблика… И так, вашескородие, по-прежнему чекрыжит морды… И Зяблику попадало, как свиноватит по службе… Матросика вовсе во весь бой жарил, видно полагал довести до страха, а матросик, как был, примет бой и улыбнется… И так это раз улыбнулся, вашескородие, прискорбно и вроде быдто с жалостью поглядел на Шитикова, что боцман со всей силы вдарил в грудь Зяблика, и он упал… И грудью заболел… В лазарете лежал… Дохтур, однако, вылечил нашего Зяблика… И обспрашивал насчет причины. Однако Зяблик на боцмана не доложил… Так начальство и не узнало… А Шитиков, видно, рассчитывал, что Зяблик объяснит, – не понимал, значит, боцман человека, вашескородие… И, видно, понял наконец.
Вот в это время и вышла самая загвоздка… Вышел Зяблик из лазарета… Утром снасти уложил не в порядке, как велел боцман, и боцман вместо того чтобы его избить, только обругал… И никого в этот день не избивал… Только еще быдто угрюмистей стал. Мы в ошалении… Чудеса, мол, с живодером… Проходит неделя… Тиранства нет… Когда съездит, но с рассудком… И пороть сам не вызывался… Одно слово: повернул на другой галц, вашескородие! – заключил Нилыч.
И после паузы прибавил:
– То-то оно и есть… Какие загвоздки бывают, вашескородие… Из-за смеха на старости лет боцман вошел в другое понятие… Только очень редки такие загвоздки бывают. Я так полагаю, вашескородие.
О чем мечтал мичман *
I
Эта ночь в Атлантическом океане, под северными тропиками, градусах в пяти от экватора, была волшебная, чарующая ночь.
Небо сверкало звездами, точно брильянтами на темном бархате. Лениво, словно бы нехотя плывущая полная луна глядела сверху задумчиво-томной красавицей и лила свой серебристо-бледный свет, побеждая мрак тропической ночи и придавая ей еще большую прелесть. Океан притих, точно дремал, нежась под лунным сиянием, и волны тихо и ласково шептались одна с другою. И от них и от мягкого пассатного ветра веяло нежной прохладой, столь желанной после палящих лучей тропического солнца. Одетый сверху донизу своих трех высоких мачт парусами, имея их и между мачтами и впереди у бугшприта, военный клипер «Русалка» легко и грациозно скользит по сонным, тихо переливающимся, но все-таки могучим волнам среди волшебного полусвета, весь залитый лучами месяца, направляясь к югу.
С плеском, похожим на ласковый шепот, волны нежно лижут со всех сторон покачивающийся клипер «Русалку», загораясь от прикосновения к ней ослепительным фосфорическим блеском и рассыпая алмазную пыль своих гребешков.
И кажется, будто «Русалка» плывет в каком-то волшебном водяном царстве, полном чудес, в кайме растопленного серебра, оставляя за кормой блестящий след в виде широкой серебристой ленты, исчезающей вдали.
Все спят, кроме вахтенного офицера и вахтенного отделения матросов.
На «Русалке» и вокруг тишина.
Слышатся только словно бы вздохи океана да однообразно тихий гул воды, рассекаемой клипером, напоминающий лепет морского прибоя во время штиля, да по временам пониженные до шепота голоса вахтенных матросов, разгоняющих сказкой или бывальщиной незаметно подкрадывающуюся дрему.
II
Юный мичман Лютиков, худощавый и стройный блондин с большими ласковыми глазами, едва пробивавшейся бородкой и маленькими усиками, казавшийся при лунном освещении еще пригожее, чем был в действительности, только что вступил на вахту с полуночи до четырех.
Он поверил часовых, осмотрел огни, убедился, что паруса стоят хорошо и все шкоты дотянуты до места, поднялся на мостик и, оглядываясь вокруг, замер от восторга, немеющий и умиленный волшебной красотой ночи.
Охваченный ее властными чарами, он очень скоро охотно и неосмотрительно отдается во власть воспоминаний о чарах, которые еще так недавно сводили его с ума. Основательно ими отравленный, он все еще не может от них избавиться, несмотря на свои двадцать два года, изрядное легкомыслие, насмешки сослуживцев, укорительные письма матери и несмотря даже на то, что съезжал на берег и в Копенгагене и в Лондоне и ездил из Шербурга * на три дня в Париж.
Это был совсем «диковинный» мичман, как выражался молодой судовой врач Василий Парфенович, любивший объяснять все явления анатомически, физиологически и химически и возлагавший большие надежды на съезды на берег.
– Господи! Что за дивная ночь! – взволнованно шепчет мичман.
Он шепчет, готовый заплакать, полный тоскливого томления и жажды какого-то необыкновенного, захватывающего счастья, о каком можно мечтать только в чине мичмана, да еще в такую волшебную ночь и на такой покойной вахте, когда вахтенному начальнику почти что нечего делать.
И он ходит по мостику в приподнятом и нервном настроении, жадно вдыхая ночную прохладу, мечтательно взглядывает и на мигающие звезды, и на самодовольно-красивую луну, и на сонный океан и прислушивается к его тихим, словно бы жалостным вздохам.
Но на что ни глядит теперь мичман, он все-таки видит неотступно перед собой гибкую, как ива, стройную, как пальма, по его мнению, обворожительную черноглазую женщину, краше, милей и привлекательней которой не было, нет, да, разумеется, и не будет на свете, что там ни говори доктор и «испанский гранд» (как звали смугло-желтого брюнета и большого лодыря, лейтенанта Анчарова) насчет его ослепления Ниной Васильевной, женой чрезмерно тучного и потому не особенно счастливого в семейной жизни капитана первого ранга Ползикова.
«Идиоты! Если бы они знали!»
Положительно Лютиков был самый диковинный и нелепый мичман среди всех мичманов балтийского и черноморского флотов и недаром ставил в тупик судового врача, не оправдывая его физиологических объяснений.
Казалось бы, громадность расстояния между тропиками и Кронштадтом способна отрезвить самое пылкое воображение. Казалось бы, кое-что значило и то обстоятельство, что в Порто-Гранде * – последней стоянке клипера – не было нетерпеливо ожидаемого письма за № 20 в ответ на его обширное послание за № 52 (это в два-то месяца) в прозе, а частью и в стихах, обращенных однако не к «Нине», а к какой-то королеве неизвестного государства – Стелле * , единственным и действительно настоящим верноподданным которой был обезумевший мичман. Наконец и фотография «королевы», снятая перед уходом «Русалки» в плавание и хранившаяся в шифоньерке мичмана, была такая скверная и так мало похожа на «обворожительную», что не могла вызывать милого образа. Что же касается до прядки черных волос, свернутых колечком, и хранившейся под стеклом в медальоне, висевшем на часовой цепочке, то и эта «память» едва ли могла приводить в состояние невменяемости человека, понимающего разницу между стеклом и женскими губами.
А между тем «властительницею дум» и настроения мичмана теперь снова была та самая чаровница лет тридцати (а, быть может, и с хвостиком), которую мичман, влюбленный, как воробей, ревнивый, как старый муж молодой жены, и бешеный, как тетерев по весне, чуть ли не ежедневно в течение шестимесячного знакомства то возвеличивал, то низвергал. Он считал госпожу Ползикову то мадонной, на которую готов был молиться, то такой лживой, бездушной, легкомысленной и коварной женщиной, какой не существовало еще в подлунной, – хотя и были Лукреция Борджиа * и Мессалина * , – и которую следует убить и затем застрелиться самому, предварительно однако отравившись ее горячими поцелуями, чтобы провести последние минуты жизни счастливо.
И если Нина Васильевна и мичман до сих пор были живы, то единственно потому, что госпожа Ползикова в моменты такой кровожадности мичмана умела внезапно превращаться в мадонну.
Так мичман и ушел в кругосветное плавание, не уяснив себе окончательно, мадонна ли Нина или коварная дама, но все-таки влюбленный до безумия в обе разновидности одного и того же лица.
III
Ночь так обаятельна, ночь так опьянительна, что мичман, сперва было великодушно пожелавший Нине всех благ и радостей без собственного в них участия, внезапно, при одной мысли, что Нину может целовать какой-нибудь другой мичман, меняет свое самоотверженное решение. Он озарен счастливой идеей о том, что высшее на земле счастье, по крайней мере для него, мичмана Лютикова, в гербе которого недаром же два лютика, соединенных в клюве аиста, олицетворявшего постоянство, не командовать клипером, не сделаться адмиралом, не искать славы, почестей и богатства, – все это ерунда, – а очутиться сейчас же, сию минуту, не дожидаясь смены с вахты, на каком-нибудь малообитаемом, а то и на необитаемом, но во всяком случае никому не известном острове. Разумеется, очутиться вместе с Ниной Васильевной, среди такого же чудного океана и в такую же волшебную ночь, чтобы взять ее обе маленькие, душистые руки с длинными, тонкими пальцами в свои, заглянуть поглубже в ее большие лучистые глаза и высказать ей все, решительно все, что не успел он высказать в течение шести месяцев, хотя и бывал у Нины чуть ли не ежедневно, болтая сперва как сорока, пока вдруг не смолк и только вздыхал, и наконец снова не заговорил счастливыми восторженными восклицаниями после безмолвных и долгих поцелуев.
И после того, как он все ей выскажет, она убедится в беспредельности и силе его любви, – убедится, что так «свято» ее никто не любил и не будет любить, и не станет его мучить, как мучила, меняя по нескольку раз в час свое настроение и делая его то бесконечно счастливым (когда бывала мадонна), то бесконечно несчастным (когда говорила, чтобы он уходил навсегда). Она поймет странность своего отношения, не станет больше приводить его в ужас своими резкими переходами от ласки к выражению презрения и не будет питать его ревности на необитаемом острове, кокетничая, за неимением мичманов, с чайками.
О, она раскается за то, что терзала так бедного мичмана, и, вся просветленная, после объяснения скажет:
– Никс! Я люблю тебя одного. Я твоя, и только твоя и никуда не хочу с необитаемого острова. Даже Гостиный двор * позабуду ради твоего счастия!
Разумеется, не предполагалось, чтобы на необитаемый остров мог прибыть капитан первого ранга Ползиков или – что было бы еще ужаснее – несколько поклонников-мичманов, присутствие которых, особенно поодиночке, около кокетливой Нины вызывало в Лютикове бешеное желание отправить всех этих господ на тот свет или, по меньшей мере, сделать из них более или менее обворожительных, хотя, разумеется, и «подлых» лиц нечто, похожее на рубленые котлеты.
Вот почему, мечтая теперь о Нине, мичман забыл, как она его изводила, с веселой жестокостью играя его настроениями. Напротив, он благодарно вспоминал о том, как она его целовала, и, считая теперь Нину только мадонной, еще сильнее рвался на необитаемый остров.
Затем мечты его вдруг прервались воспоминаниями.
Начал мичман их в хронологическом порядке, то есть с маленьких рук, на которых не было, казалось, ни одной точки, пропущенной губами пылкого мичмана… Затем вспомнил шею, лицо, глаза, маленькие ноги в красных туфельках.
И из груди мичмана вдруг вырвался такой громкий вздох, что стоявший вблизи и клевавший носом молодой сигнальщик Ефремов мгновенно встрепенулся и, думая, что мичман его кличет, поспешил крикнуть:
– Есть, ваше благородие!
Несмотря на тоскливо-нервное свое настроение, Лютиков невольно улыбнулся и, приблизившись к сигнальщику, с обычным своим добродушием спросил:
– Верно, вздремнул, брат?
– Никак нет, ваше благородие. Маленько задумался.
– Задумался?
– Точно так, ваше благородие. В задумчивость вошел. Ночь такая.
– Это правда! Чудная ночь.
– Ахтительная, ваше благородие. В Рассее таких нет.
– О чем же ты задумался, Ефремов?
– Так, обо всякой, значит, всячине, ваше благородие.
– Так, может, ты думал…
Мичман запнулся и неожиданно спросил:
– Ты любишь какую-нибудь женщину, Ефремов?
Сигнальщик на минуту опешил. Но вслед затем усмехнулся несколько самодовольной улыбкой и ответил:
– Без эстаго никак нельзя, ваше благородие. Какая баба подвернется, тую и любишь. Известно, матросское звание: на брасах не зевай!








