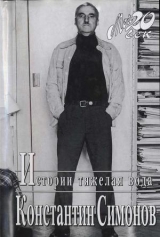
Текст книги "Истории тяжелая вода"
Автор книги: Константин Симонов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 40 страниц)
– На третий день нашего августовского наступления, когда японцы зацепились на северном фланге за высоту Палец и дело затормозилось, у меня состоялся разговор с Г. М. Штерном. Штерн находился там, и по приказанию свыше его роль заключалась в том, чтобы в качестве командующего Забайкальским фронтом обеспечивать наш тыл, обеспечивать группу войск, которой я командовал, всем необходимым. В том случае, если бы военные действия перебросились и на другие участки, перерастая в войну, предусматривалось, что наша армейская группа войдет в прямое подчинение фронта. Но только в этом случае. А пока что мы действовали самостоятельно и были непосредственно подчинены Москве.
Штерн приехал ко мне и стал говорить, что он рекомендует не зарываться, а остановиться, нарастить за два – три дня силы для последующих ударов и только после этого продолжать окружение японцев. Он объяснил свой совет тем, что операция замедлилась и мы несем, особенно на севере, крупные потери. Я сказал ему в ответ на это, что война есть война и на ней не может не быть потерь и что эти потери могут быть и крупными, особенно когда мы имеем дело с таким серьезным и ожесточенным врагом, как японцы. Но если мы сейчас из‑за этих потерь и из‑за сложностей, возникших в обстановке, отложим на два – три дня выполнение своего первоначального плана, то одно из двух: или мы не выполним этот план вообще, или выполним его с громадным промедлением и с громадными потерями, которые из‑за нашей нерешительности в конечном итоге в десять раз превысят те потери, которые мы несем сейчас, действуя решительным образом. Приняв его рекомендации, мы удесятерим свои потери.
Затем я спросил его: приказывает ли он мне или советует? Если приказывает, пусть напишет письменный приказ. Но я предупреждаю его, что опротестую этот письменный приказ в Москве, потому что не согласен с ним. Он ответил, что не приказывает, а рекомендует и письменного приказа писать мне не будет. Я сказал: «Раз так, то я отвергаю ваше предложение. Войска доверены мне, и командую ими здесь я. А вам поручено поддерживать меня и обеспечивать мой тыл. И я прошу вас не выходить из рамок того, что вам поручено». Был жесткий, нервный, не очень‑то приятный разговор. Штерн ушел. Потом, через два или три часа, вернулся, видимо, с кем‑то посоветовался за это время и сказал мне: «Ну что же, пожалуй, ты прав. Я снимаю свои рекомендации».
Некоторых трудностей, возникших в ходе боевых действий на Халхин – Голе и обусловивших на первых порах ряд наших неудач, Жуков коснулся в другой беседе, говоря о причинах драмы, разыгравшейся в июне 1941 года.
– В нашей неподготовленности к войне с немцами в числе других причин сыграла роль и территориальная система подготовки войск, с которой мы практически распрощались только в 39–м году. Наши территориальные дивизии были подготовлены из рук вон плохо. Людской материал, на котором они развертывались до полного состава, был плохо обучен, не имел ни представления о современном бое, ни опыта взаимодействия с артиллерией и танками. По уровню подготовки наши территориальные части не шли ни в какое сравнение с кадровыми. С одной из таких территориальных дивизий, 82–й, мне пришлось иметь дело на Халхин – Голе. Она побежала от нескольких артиллерийских залпов японцев. Пришлось ее останавливать всеми подручными средствами, пришлось с командного пункта с Хамардабы послать командиров и цепью расставить их по степи. Еле остановили. Командира дивизии пришлось снять, а дивизию постепенно в течение полутора месяцев приучали к военным действиям. Потихоньку пускали людей в разведки, в небольшие бои, приучали их к воздействию артиллерии, к бомбовым ударам; учили взаимодействовать с танками. Впоследствии, подучившись, приобретя первый боевой опыт, дивизия в конце августа, в последних боях, действовала уже неплохо. А в июле она бежала. И японцам, видившим, как она бежит от нескольких артиллерийских залпов, ничего не оставалось, как наступать вслед за ней. И их удалось тогда остановить, только сосредоточив по ним огонь всей наличной артиллерии со всех точек фронта. Вот что такое территориальная дивизия, не прошедшая никакой боевой школы. Я это пережил там, на Халхин – Голе…
Жуков вернулся к Халхин – Голу и еще в одной беседе. В ней он уже не столько вспоминал о событиях того времени, сколько определял место, которое занял Халхин – Гол в его жизни, в военной биографии.
– Первое тяжелое переживание в моей жизни было связано с 37–м и 38–м годами. На меня готовились соответствующие документы, видимо, их было уже достаточно, уже кто‑то где‑то бегал с портфелем, в котором они лежали. В общем, дело шло к тому, что я мог кончить тем же, чем тогда кончали многие другие. И вот после всего этого – вдруг вызов и приказание ехать на Халхин – Гол. Я поехал туда с радостью. А после завершения операции испытал большое удовлетворение. Не только потому, что была удачно проведена операция, которую я до сих пор люблю, но и потому, что я своими действиями там как бы оправдался, как бы отбросил от себя все те наветы и обвинения, которые скапливались против меня в предыдущие годы и о которых я частично знал, а частично догадывался. Я был рад всему: нашему успеху, новому воинскому званию, получению звания Героя Советского Союза. Все это подтверждало, что я сделал то, чего от меня ожидали, а то, в чем меня раньше пытались обвинить, стало наглядной неправдой.
Конечно, на фоне последующих событий Великой Отечественной войны масштабы военных операций на Халхин – Голе кажутся небольшими. Они разворачивались на ограниченном участке в 40–50 километров, численность всей 6–й армейской группы японцев не достигала ста тысяч человек, не достигала этой цифры и численность участвовавших в боях наших и монгольских войск.
Правда, в районе конфликта с обеих сторон действовали крупные по тем временам силы авиации, такие, что однажды в разговоре с Жуковым я с некоторым смущением сказал, что потом, во время Великой Отечественной войны, мне не приходилось видеть воздушных боев, в которых бы одновременно с обеих сторон дралось в воздухе такое число истребителей, как в Монголии. И он, усмехнувшись, ответил мне: «А вы думаете, я видел? И я не видел». Но даже учитывая это, следует сказать, что события на Халхин – Голе все же остались крупным военным конфликтом, не переросшим в большую войну.
Однако значение этих военных действий в истории оказалось гораздо большим, чем их непосредственный масштаб. Жестокий урок, полученный японским военным командованием на Халхин– Голе, имел далеко идущие последствия. В первые, самые тяжкие для нас месяцы войны с немцами еще не выветрившаяся память о Халхин – Голе заставила японские военные круги проявить осторожность и связать проблему своего вступления в войну с Советским Союзом со взятием немцами Москвы. Значение этого для нас трудно переоценить.
Трудно переоценить и другое: на Халхин – Голе мы показали, что у нас слова не расходятся с делом и наш договор о взаимопомощи с Монголией – это не клочок бумаги, а реальная готовность защищать ее границы как свои собственные.
Халхин – Гол был началом полководческой биографии Жукова. Впоследствии ему пришлось принять участие в событиях неизмеримо большего масштаба, но это начало там, в далеких монгольских степях, было многообещающим.
В войну с немцами Жуков вступил как военачальник, уже имевший за плечами решительную победу в условиях военных действий, носивших современный характер и развернувшихся с применением механизированных войск и авиации. Это не только создавало Жукову авторитет в войсках, но и, думается, имело важное значение для него самого. Первые шаги, сделанные в науке побеждать, – это не только военный опыт, это одновременно и нравственный фактор, одинаково важный и для солдата, и для полководца, для его образа мыслей и образа действий.
Слова Жукова о Халхин – Голе «Я до сих пор люблю эту операцию» в устах человека, закончившего войну в Берлине, многозначительны. К началу Халхин – Гола за плечами у Жукова было уже четверть века военной службы, мировая и Гражданская войны, путь от солдата до командира корпуса. Но как для военачальника руководство Халхин – гольской операцией было для него пробным камнем. И поэтому он и любил ее.
Армейская молва говорит, что, когда в 1939 году Жукову позвонили из Москвы в Белоруссию и, ничего не объясняя, приказали срочно прибыть в Москву, он спросил по телефону только одно: «Шашку брать?» Не знаю, так ли было или не так, но мне кажется, что в этом устном рассказе, пусть даже легенде, было выражено верное понимание характера этого человека.
2
Как я уже сказал, после Халхин – Гола мне ни разу не довелось увидеть Жукова вплоть до дня капитуляции германской армии, но облик его продолжал складываться в моем сознании, как и в сознании всех участников войны.
Жуков был для меня человеком, которого Сталин отправил спасать положение в Ленинграде в самые критические сентябрьские дни 1941 года, а потом отозвал его оттуда под Москву в самое критическое для нее время – в начале октября.
Думаю, не ошибусь, сказав, что в глазах участников войны наша победа под Москвой была связана прежде всего с двумя именами: с именем Сталина, оставшегося в Москве и произнесшего 7 ноября 1941 года всем нам памятную речь на Красной площади, и с именем Жукова, принявшего командование Западным фронтом в самый катастрофический момент, когда судьба Москвы, казалось, висит на волоске.
Разумеется, и то, что Ленинград не пал, а выстоял в блокаде, и то, что немцев повернули вспять под Москвой, – историческая заслуга не двух и не двадцати человек, а многих миллионов военных и невоенных людей, результат огромных всенародных усилий. Это тем более очевидно сейчас, с дистанции времени.
Однако если говорить о роли личности в истории и в применении к Жукову, то имя его связано в народной памяти и со спасением Ленинграда, и со спасением Москвы. И истоки этой памяти уходят в саму войну, в 1941 год, в живое, тогдашнее сознание современников. Этим и объясняется непоколебимость их памяти перед лицом разных событий последующего времени.
Последующий ход войны сделал особенно любимыми в народе несколько имен наиболее выдающихся военачальников. Но среди них Жуков все равно остался первой любовью, завоеванной в самые трагические часы нашей судьбы, и потому – сильнейшей.
И когда в конце войны он был назначен командовать фронтом, двигавшимся прямо на Берлин, это казалось естественным – человек, отстоявший Москву, будет брать Берлин.
Понимаю, что на это можно многое возразить. Можно напомнить, что Рокоссовский, командовавший до Жукова нацеленным прямо на Берлин 1–м Белорусским фронтом, был вправе считать несправедливым свое перемещение на соседний – 2–й Белорусский фронт; можно с достаточными основаниями сказать, что шедший левее Жукова 1–й Украинский фронт под командованием Конева сделал для успеха Берлинской операции не меньше, чем войска, которыми командовал Жуков; наконец, можно по – разному смотреть на причины, по которым Сталин именно на этот раз в конце войны, под Берлином, координацию действий всех трех фронтов оставил за собою, а Жукова направил командовать одним из них.
Все это так. И, однако, повторяю, что, когда при участии других фронтов именно фронт Жукова взял большую часть Берлина, имперскую канцелярию и рейхстаг и именно Жукову было поручено принять безоговорочную капитуляцию германской армии, это было воспринято в народе как нечто вполне справедливое, люди считали, что так оно и должно было быть.
Церемония подписания безоговорочной капитуляции германской армии описана уже много раз – и в корреспонденциях журналистов, и в воспоминаниях присутствовавших там военных. Писал об этом и я. Не буду повторять ни других, ни себя в описании подробностей. Но некоторые свои ощущения того дня, связанные с Жуковым, хочу вспомнить.
Очевидно, можно без преувеличения сказать, что среди присутствовавших там представителей союзного командования именно за его плечами был самый большой и трудный опыт войны. Однако капитуляцию неприятельской армии ему приходилось принимать впервые, и процедура эта была для него новой и непривычной. Если бы он сам воспринимал эту процедуру как дипломатическую, наверное, он бы чувствовал себя менее уверенно.
Секрет той спокойной уверенности, с какой он руководил этой процедурой, на мой взгляд, состоял как раз в том, что он не воспринимал ее как дипломатическую. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германской армии было для него прямым продолжением работы, которой он занимался всю войну: ему было поручено поставить на ней точку именно как военному человеку, и он поставил ее с тою же уверенностью и твердостью, которая отличала его на войне.
Трудно даже мысленно проникнуть в душу другого человека, но надо думать, что Жуков ощущал себя в эти часы не только командующим фронтом, взявшим Берлин, или заместителем Верховного Главнокомандующего, но человеком, представлявшим в этом зале ту армию и тот народ, которые сделали больше всех других. И как представитель этой армии и этого народа он лучше других знал и масштабы совершившегося, и меру понесенных трудов. В его поведении не было ни высокомерия, ни снисходительности. Именно для его народа только что закончившаяся война была борьбой не на жизнь, а на смерть, и он вел себя с той жесткой простотой, которая пристала в подобных обстоятельствах победителю. Хотя впоследствии и среди побежденных немецких генералов, и среди разделивших с нами победу союзников нашлись люди, задним числом оспаривавшие масштабы нашего вклада в эту победу, тогда, в мае 1945 года, на этот счет не существовало двух мнений.
В этом не оставляло сомнений даже поведение подписывавшего капитуляцию фельдмаршала Кейтеля. Надо отдать ему должное: он вел себя с подобающим достоинством. Но наряду с этим было в его поведении и нечто другое, неожиданное. Казалось бы, ни его политические взгляды, ни его мысли о собственном будущем не должны были заставить его относиться к Жукову с большим вниманием, чем к другим сидевшим в этом зале представителям союзного командования. Скорее, следовало ожидать обратного. Однако логика проигранной войны, помимо воли Кейтеля, оказалась сильнее всего остального.
Наблюдая за ним во время процедуры капитуляции, я несколько раз видел, с каким пристальным вниманием он следит за Жуковым, именно и только за ним. Это было горькое, трагическое любопытство побежденного к той силе, которую олицетворял здесь Жуков, как к силе наиболее ненавидимой и в наибольшей степени решившей исход войны.
С тех пор, когда я читаю статьи и книги, задним числом ставящие под сомнение меру нашего вклада в победу над фашистской Германией, я почти всегда вспоминаю Карлсхорст, капитуляцию и лицо фельдмаршала Кейтеля, с каким‑то почти жутким любопытством глядящего на Жукова.
После подписания акта капитуляции происходил затянувшийся далеко за полночь ужин, который давало наше командование в честь союзников. Во время ужина было много не удержавшихся в моей памяти речей, но одно место в речи Жукова я запомнил. Американское и английское командование было представлено высшими авиационными начальниками – генералом Спаатсом и маршалом авиации Теддером. Уже не помню, за здоровье кого из этих двоих авиаторов произносил тост Жуков, но сказал он примерно следующее: «Пью за ваше здоровье от имени наших солдат, которым для того, чтобы увидеть результаты вашей работы, пришлось дойти до Берлина своими ногами».
Я сказал «примерно» из осторожности. Но, по – моему, сказаны были именно эти слова. И запомнились они потому, что за ними стояло то самое, что называется решающим вкладом в победу, стояла формула нашего участия в этой так дорого стоившей нам войне.
з
После войны мне довелось видеть Жукова в разные годы: в 1950 и в 1952 году, в бытность его командующим Одесским и Уральским военными округами, в 1955–1957 годах, когда он занимал пост заместителя министра и министра обороны, и в последние годы, когда он ушел в отставку.
Я коснусь этих встреч с той стороны, с какой они представляют интерес для моих заметок. Но сначала одно общее, относящееся ко всем ним, наблюдение. Они происходили в разные для Жукова времена, и это делало тем более очевидной одну из главных черт его натуры. Характер этого человека всегда оставался неподатливым перед внешними обстоятельствами. Обстоятельства менялись, а человек оставался самим собой. И эта неизменяемость характера была не только свидетельством нравственной силы, но и ее источником. Сознание своей способности не поддаваться обстоятельствам в свою очередь усиливало эту неподатливость.
Во время первой встречи в 1950 году я заметил в глазах присутствовавших при этом близких Жукову людей тревогу. Ее легко было понять. Выведенный из состава ЦК и снятый с высших военных должностей, Жуков командовал второстепенным военным округом, в сущности, находился не у дел и вдобавок под дамокловым мечом, потому что время было крутое. Тревожные глаза близких призывали его к еще большей мере сдержанности, чем та, которую он сам для себя определил в этом разговоре. Однако, наверняка сознательно ограничивая себя в рассказе и обходя некоторые темы, Жуков в то же время не считал для себя возможным, говоря об истории войны, стесывать в ней острые углы там, где они неотвратимо возникали по ходу рассказа. Очевидно, он достаточно хорошо сознавал, какой вес имеют в его устах те или иные излагаемые им исторические факты, и не желал считаться с привходящими обстоятельствами.
Я уже приводил то, что он говорил тогда о Халхин – Голе. Говоря о своем вступлении в должность командующего Ленинградским фронтом, он тоже не счел нужным смягчать драматизм ситуации, в которой это произошло.
Приведу соответствующее место записи нашего разговора в 1950 году.
«Прилетев в Ленинград, я сразу попал на заседание Военного совета. Моряки обсуждали вопрос, в каком порядке им рвать корабли, чтобы они не достались немцам. Я сказал командующему флотом Трибуцу: «Вот мой мандат» – и протянул ему записку, написанную товарищем Сталиным, где были определены мои полномочия. «Как командующий фронтом, запрещаю вам это. Во – первых, извольте разминировать корабли, чтобы они сами не взорвались, а во – вторых, подведите их ближе к городу, чтобы они могли стрелять всей своей артиллерией». Они, видите ли, обсуждали вопрос о минировании кораблей, а на них, на этих кораблях, было сорок боекомплектов. Я сказал им: «Как вообще можно минировать корабли? Да, возможно, они погибнут. Но если так, они должны погибнуть только в бою, стреляя». И когда потом немцы пошли в наступление на Приморском участке фронта, моряки так дали по ним со своих кораблей, что они просто – напросто бежали. Еще бы! Шестнадцатидюймовые орудия! Представляете себе, какая это силища?»
В этой же беседе Жуков в кратких словах обрисовал положение под Москвой в ноябре 1941 года. Он не высказывал общепринятых в то время суждений, что немцы ни при каких обстоятельствах вообще не могли взять Москвы. Он говорил о реальных фактах: почему немцы не взяли Москвы и чего им для этого не хватало.
«Последнее немецкое наступление началось 15–16 ноября. К началу этого наступления на главном направлении Волоколамск – Нара на своем левом фланге они имели 25–27 дивизий, из них примерно 18 танковых и моторизованных. Но в ходе боев их силы оказались на пределе. И когда они уже подошли к каналу, к Крюкову, стало ясно, что они не рассчитали. Они шли на последнем дыхании. Подошли, а в резерве ни одной дивизии. К 3–4 декабря у них в дивизиях оставалось примерно по 30–35 танков из 300, то есть одна десятая часть. Для того чтобы выиграть сражение, им нужно было еще иметь там, на направлении главного удара, во втором эшелоне дивизий 10–12, то есть нужно было иметь там с самого начала не 27, а 40 дивизий. Вот тогда они могли бы прорваться к Москве. Но у них этого не было. Они уже истратили все, что у них было, потому что не рассчитали силу нашего сопротивления».
Сейчас в истории Великой Отечественной войны давно общеизвестен тот факт, что к началу нашего контрудара под Москвой немецкие войска уже получили приказ на отступление. В то время, в 1950 году, говорить об этом было не принято. Хотя, казалось бы, то обстоятельство, что немцы еще до наших контрударов были поставлены упорством нашей обороны в критическое положение, вынуждавшее их к отходу, ничуть не преуменьшало заслуг нашей армии, скорее наоборот. Но, видимо, такое изложение подлинных исторических событий казалось тогда менее героичным, и было принято говорить, что мы нанесли свой контрудар по немцам, еще продолжавшим рваться к Москве. Но Жуков еще тогда, в 1950 году, не постеснялся опровергнуть эту общепринятую в то время формулировку.
«Как выяснилось потом из документов, – сказал он, – в ту ночь, когда мы начали свое наступление, Браухич уже отдал приказ об отступлении за реку Нара, то есть он уже понимал, что им придется отступить, что у них нет другого выхода».
Говоря о том, что снятый с высших военных должностей Жуков, командуя второстепенным округом, в сущности, оказался не удел, я, пожалуй, не совсем точно определил ситуацию, в которой мы встретились с Жуковым в 1950 году. Точнее было бы сказать: ожидалось, что он окажется не у дел. Ожидалось, но не получилось. Вот как говорил мне об этом сам Жуков много позже, уже в 1965 году:
«В 1947 году, когда Сталин снял меня с должности заместителя министра и назначил на Одесский округ, я, приехав в Одессу, твердо решил ни на йоту не снизить требований к своим подчиненным, к войскам, к их боевой подготовке. Я твердо решил оставаться самим собой. Я понимал: от меня ждут, что я стану другим, что махну рукой и буду командовать округом через пень колоду. Но я не позволил себе этого. Конечно, слава есть слава. Но в то же время она палка о двух концах и иногда больно бьет по тебе. После этого удара я сделал все, чтобы остаться таким, каким был. В этом я видел свое внутреннее спасение. В выдержке, в работе, в том, чтобы не потерять силы характера и в этих тяжело сложившихся для меня обстоятельствах».
Когда я услышал это много лет спустя из уст Жукова, я заново вспомнил нашу встречу с ним в 1950 году, вспомнил его сдержанность, твердость, нежелание обходить острые углы. Он не только хотел остаться, но и остался самим собой.
В следующий раз я встретил Жукова два года спустя, в декабре 1952 года, при обстоятельствах, изменившихся для него в лучшую сторону. Выведенный в 1947 году из состава ЦК, Жуков на XIX съезде партии был избран кандидатом в члены ЦК. Не приходилось сомневаться, что это произошло по инициативе Сталина, никаких иных объяснений в то время быть не могло. Многих это обрадовало и в то же время удивило. Меня удивило, может быть, меньше, чем некоторых других, по причинам, которые заставляют немножко отклониться в сторону. Впрочем, думаю, в данном случае это оправданно.
Примерно за год до этого на заседании, где обсуждался вопрос о Сталинских премиях, и в частности о присуждении премии Эммануилу Казакевичу за его роман «Весна на Одере», Сталин, одобрительно отозвавшись о романе, вдруг сказал, что в нем есть недостаток, который, если не поздно, хорошо бы исправить.
«Там у товарища Казакевича, – сказал Сталин, – выведен в романе член Военного совета Сизокрылов. Но в его романе Сизокрылов выведен в такой роли, как будто он не член Военного совета, а командующий фронтом. Если прочитать те места, где участвует этот Сизокрылов, то создается именно такое впечатление, что он командующий фронтом, хотя он называется членом Военного совета. Но мы знаем, кто командовал этим фронтом. Им командовал не какой‑то Сизокрылов, а Жуков. У Жукова есть свои недостатки, мы его за них критиковали. Но Жуков командовал под Берлином хорошо, во всяком случае неплохо. Почему же в романе товарища Казакевича выведен какой‑то Сизокрылов, а не Жуков? Это не соответствует действительности». И, обратившись к присутствующим на этой встрече писателям, Сталин добавил: «Скажите товарищу Казакевичу, чтобы он, если не поздно, подумал над этим вопросом».
Говорить об этом Казакевичу выпало на мою долю. Выслушав мой рассказ, Казакевич только скрипнул зубами. Оказалось, Сталин угадал совершенно точно. В романе Казакевича первоначально был выведен не член Военного совета, а командующий фронтом. Но в обстановке, которая сложилась в то время вокруг Жукова, опубликовать эту линию романа в первоначально задуманном виде Казакевичу так и не удалось. В конце концов он вынужден был отступить и назвать Сизокрылова членом Военного совета, хотя за сохранившимися в романе поступками и разговорами Сизокрылова продолжала оставаться фигура командующего фронтом. «Если бы раньше!» – только и мог с горечью сказать в ответ Казакевич. Роман уже вышел несколькими изданиями, и что‑нибудь менять в нем было теперь поздно.
Обо всем этом я вспомнил, когда после XIX съезда вдруг оказался рядом с Жуковым за столом во время ужина, который ЦК давал присутствовавшим на съезде иностранным делегациям. И не только вспомнил, но и счел себя вправе рассказать Жукову. Я почувствовал сквозь не изменившую ему сдержанность, что он в тот вечер был в очень хорошем настроении. Думаю, что избрание в ЦК было для него неожиданностью, тем сильней, наверное, было впечатление, которое это произвело на него. Однако чувство собственного достоинства не позволило ему ни разу ни словом коснуться этой, несомненно, больше всего волновавшей его темы за те несколько часов, что мы просидели рядом.
Разговор шел о разных других вещах, в том числе и о моей тогда только что вышедшей и, как я теперь понимаю, не слишком удавшейся мне с художественной стороны книге «Товарищи по оружию». Но как раз этой художественной стороны Жуков в разговоре со мной не касался. Появление «Товарищей по оружию», как я понял из разговора, обрадовало его тем, что в литературе появилась первая книга, рассказывающая о дорогих его сердцу военного человека халхин – гольских событиях.
Сказав мне, что фактическая сторона дела изложена мной довольно точно, Жуков сделал мне несколько замечаний, касавшихся главным образом тех или иных не нашедших себе места в романе событий. Помню, он при этом посетовал, что, когда мы встречались с ним в 1950 году, в начале моей работы, все обошлось двумя разговорами.
– К сожалению, многое так и не успел вам рассказать, – заметил он, адресуя упрек скорей себе, чем мне, с деликатностью, которая уживалась в нем с прямотой суждений.
Более деликатных вопросов он вообще не коснулся. Дело в том, что в романе, хотя и без фамилии, был выведен командующий нашей группой войск на Халхин – Голе, за фигурой которого проглядывала личность Жукова – прототип этой фигуры.
Публикуя роман, я встретился с колебаниями в печатавшей его редакции. Некоторым из моих работавших там коллег, без труда угадавшим, кто стоит за этой фигурой, казалось, что при общей положительной характеристике мне следовало наделить ее и некоторыми отрицательными чертами. На них повлияло критическое отношение, сложившееся в те годы к Жукову, и они опасались, как пройдет соответствующее место романа через цензуру. Опасения, впрочем, оказались напрасными. Роман благополучно прошел цензуру. Мое положение оказалось много легче, чем положение Казакевича. Халхин – Гол был далеко, а взятие Берлина – у всех на памяти, не говоря уже о разнице в масштабах этих событий.
Еще давно, сразу после войны, задумывая свой роман, я с самого начала не собирался выводить в нем под собственными именами ни Жукова, ни других исторических лиц, исходя из принципиального взгляда, что, когда речь идет о живых людях, этого вообще не следует делать в художественном повествовании; тем оно и отличается от документального. Однако, признаться, в тот вечер меня по – человечески беспокоило, как отнесется Жуков к отсутствию в романе его имени, не сочтет ли он это в сложившихся вокруг него обстоятельствах признаком моей робости или результатом привходящих соображений. И я был рад, что, не касаясь этой щепетильной темы, он говорил о романе с сочувствием, видимо, правильно поняв меня.
В 1955 году я дважды был у Жукова в Министерстве обороны. Первый раз, когда он был еще заместителем министра, а во второй – когда его уже назначили министром.
Первая встреча была связана с судьбой одного армейского политработника, которого и Жуков, и я хорошо знали еще по Халхин– Голу. Достойно пройдя через всю Великую Отечественную войну, он в 1950 году вопреки своему желанию продолжать службу в армии был демобилизован якобы по болезни, а на самом деле по обстоятельствам, далеким от элементарной справедливости. Вопрос был непростой и вдобавок находился вне прямой компетенции Жукова. Сразу же без обиняков объяснив мне это, Жуков сказал, что все зависящее от него сделает, хотя поручиться за удачу не может.
Вспомнив в связи с этим разговором Халхин – Гол, он, усмехнувшись, сказал мне, что все же я, пожалуй, переборщил в своей книге, заменив в ней вымышленными не только имена живых, но и мертвых.
«Живые – ладно, так и быть, это уже дело ваше, – сказал он, – но мертвые‑то? С ними‑то уж, кажется, все ясно! Почему не назвали своим именем хотя бы такого героя Баин – Цагана, как комбриг Яковлев, и заменили его каким‑то Сарычевым, или почему не вывели покойного Ремизова? Это же были действительно герои! Почему у вас нет хотя бы этих имен?»
Главным в его словах и в чувстве, стоявшем за ними, была забота о своих погибших соратниках по Халхин – Голу. Но в той иронии, с которой он в этот раз заговорил со мной, я почувствовал и другое: где‑то в глубине души ему все же хотелось, чтобы в книге были прямо названы и имена живых. Несколько лет назад он не думал об этом, а сейчас, как мне показалось, подумал, хотя и не сказал мне прямо.
Вторая встреча в том же году была связана с начатой мною подготовительной работой к роману «Живые и мертвые». Я попросил у Жукова, чтобы мне помогли познакомиться с некоторыми материалами начального периода войны. Он сказал, что помощь будет оказана, и адресовал меня в Военно – научное управление Генерального штаба. Потом, помолчав, добавил, что, наверное, мне было бы полезно посмотреть на начало войны не только нашими глазами, но и глазами противника – это всегда полезно для выяснения истины.
Вызвав адъютанта и коротко приказав ему: «Принесите Гальдера», он объяснил мне, что хочет дать мне прочесть обширный служебный дневник, который вел в 1941–1942 годах тогдашний начальник германского Генерального штаба генерал – полковник Гальдер.








