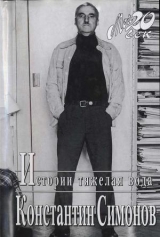
Текст книги "Истории тяжелая вода"
Автор книги: Константин Симонов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 40 страниц)
Далеко на востоке. Халхин – гольские записи
От автора
Неужели минуло уже почти тридцать лет после тех событий в Монголии, на реке Халхин – Гол, о которых идет речь в этих записях? Я задавал себе этот вопрос, перечитывая их и думая о том, через сколько пластов времени прошло мое, перешагнувшее за свой пятый десяток, поколение.
Время боев на Халхин – Голе – время моей юности, предгрозья перед трагическими и великими событиями, началом которых стал Брест, а концом – Берлин.
Позади была Испания, первая война с фашизмом, на которую готовы были пойти все, но попали добровольцами лишь немногие.
Впереди была Великая Отечественная война, на которой каждый совершил то, что положено.
Халхин – Гол был посредине. Там, в далекой пустыне, бок о бок с монголами сражаясь против вторгшихся в Народную Монголию японцев, армия первой в мире страны социализма с оружием в руках выполнила свой интернациональный долг. И, думается, именно поэтому события на Халхин – Голе не из тех, которые забываются, хотя, конечно, по своим масштабам они не идут в сравнение со многим из того, что нам пришлось пережить потом.
Мои записи о том лете и осени на Халхин – Голе не история событий, а лишь свидетельство одного из очевидцев о виденном своими глазами.
Остается объяснить, почему эти записи датированы 1948–1968 годами.
Вышло так, что, только приведя в порядок все свои материалы, связанные с Великой Отечественной войной, я сумел вернуться к началу – к Халхин – Голу и записать все, что сохранилось к тому времени в памяти.
А приготовить эти записи к печати руки дошли только теперь.
Константин Симонов 1968
Халхин – гольские записи
В июне 1939 года к тогдашнему начальнику ПУРа Мехлису пригласили группу, как тогда нас называли, «оборонных» писателей, и он предложил нам поехать в течение лета и осени в командировки в разные части Красной Армии. Все хотели ехать на Халхин – Гол, но послали туда только Славина, Лапина и Хацревина, видимо как людей, уже знавших Монголию. Они поехали вслед ранее уехавшему туда Ставскому. Мне предстояла осенью поездка на Камчатку, в находящуюся там воинскую часть. Вместо этого во второй половине августа меня вдруг вызвали в ПУР к Кузнецову (Мехлис, которого он заменял, в это время был на Халхин – Голе) и спросили, готов ли я ехать в Монголию. Я сказал, что готов.
Как сейчас помню, Кузнецов спросил меня:
– Как, ничего не жмет?
Я сказал, что не жмет.
Как выяснилось впоследствии, вызов объяснялся тем, что Ортенберг, редактор газеты армейской группы, действовавшей на Халхин – Голе, телеграфно запросил «одного поэта».
Когда я сказал, что готов ехать, то выяснилось, что ехать нужно сегодня же, с пятичасовым экспрессом. Происходило все это в час дня. Кое‑как успели выписать мне литер и выдать деньги. Обмундирование выдать не успели, сказали, что выдадут на месте.
На пятые сутки я был в Чите, а через сутки уже летел на пассажирском самолете с окошечками в Тамцаг – Булак – тыловой городок, где стоял второй эшелон нашей действовавшей в районе Халхин – Гола армейской группы.
Когда мы летели, летчик вышел из кабины и, обращаясь к нам, сказал, чтобы мы смотрели за воздухом. Я долго смотрел «за воздухом», не обнаружил в нем ничего особенного, но с удивлением увидел, что все остальные тоже внимательно смотрят «за воздухом», в котором, видимо, и они ничего такого не замечали. Только впоследствии я выяснил, что фраза «смотреть за воздухом» предполагала наблюдение за тем, не появятся ли японские истребители. Тогда я был далек от такой мысли.
В Тамцаг – Булак прилетели с сумерками, летели туда часа три или четыре над сплошной желто – зеленой степью бреющим полетом; буквально из‑под самолета выскакивали стада коз и напуганные шумом гуси и утки.
Тамцаг – Булак оказался городом довольно странного с непривычки вида: в нем было три или четыре глинобитных дома, скорее похожих на сараи, и сотни три малых, больших и средних юрт.
Ночью мне выдали обмундирование, почему‑то танкистское, серое, – другого, кажется, на мой рост не было. Дали сапоги, пилотку, ремень и пустую кобуру: оружия тоже не было.
Утром кто‑то, ехавший в штаб армейской группы на Хамардабу, которая была от города километрах в ста с чем‑то, обещал завезти меня по дороге в Баин – Бурт – место, где стояла редакция. Утром Тамцаг – Булак выглядел еще непригляднее, чем вечером: кругом была выжженная, желто – зеленая степь без конца и края.
Мы ехали, и я впервые видел знакомые только по картинкам миражи: леса и озера передвигались то слева, то справа от нас.
Дороги, собственно, никакой не было: это была простая колея, накатанная по степи, правда, почти на всем протяжении абсолютно гладкая и ровная, только кое – где попадалось полкилометра или километр невыносимой тряски, там, где дорога пересекала полосы солончаков.
А над нашими головами проходили стайками самолеты к фронту.
Часа через два мы добрались до Баин – Бурта. Собственно, нельзя сказать, чтобы это был какой‑нибудь пункт на карте. Просто здесь до конфликта находился пограничный пост (в шестидесяти километрах от границы), состоявший из нескольких юрт. Теперь пограничного поста не было, но стояла громадная, длинная палатка, в которой размещалась типография, и три или четыре юрты, в которых жили люди. Поодаль, в километре, виднелись юрты и палатки полевого госпиталя.
Мой попутчик ссадил меня перед юртой, сказал: «Приехали», повернул машину и уехал.
Я приоткрыл полог и вошел в юрту. В юрте посредине был стол, а по окружности стояли четыре койки. На одной из коек сидел Ставский, на другой – редактор армейской газеты полковой комиссар Ортенберг – человек, с которым мне потом пришлось не один год вместе работать и дружить и который в первую минуту мне очень не понравился: показался сухим и желчным. Он быстро и отрывисто со мной поздоровался.
– Приехали? Очень хорошо. Будете спать в соседней юрте, вместе с писателями. А теперь надо ехать на фронт. Володя, ты возьмешь его на фронт?
Ставский сказал, что возьмет.
– Ну вот и поедете на фронт сейчас. Пойдите поставьте свой чемодан.
Я, несколько огорошенный, пошел в соседнюю юрту. Там меня дружески встретили Славин, Лапин и Хацревин. Как выяснилось, именно они посоветовали редактору попросить прислать сюда поэта. Посоветовали не столько из любви к поэзии, сколько из чувства самосохранения, ибо въедливый Ортенберг, узнав, что они в молодости писали стихи, уже несколько раз покушался заставить их заняться этим в газете. Они знали, что какой‑то поэт едет, но какой, не знали.
А через пятнадцать минут я сел в «эмочку» рядом со Ставским, который сам вел ее; шофер примостился на заднем сиденье, и мы поехали на фронт.
Несколько слов о Ставском, с которым я провел первые в своей жизни три дня на фронте и который был для меня в этом смысле своего рода «крестным отцом».
О нем как о человеке, сколько я помню, разные люди были всегда очень разных мнений. Одни не любили его. Другие – среди них особенно много военных – преданно любили и уважали. Третьи, вспоминая его, говорили о нем то хорошо, то плохо, и в каждом случае вполне искренне.
Мне думается, что правы были именно эти последние, и я сам принадлежу к их числу. Это был удивительно яркий пример человека, которого облагораживали война, опасность и товарищество среди опасности и который от этого до такой степени менялся, что был совсем другим человеком, чем в обычной, мирной, а для него всегда несколько начальственной, украшенной подчеркнуто важными знакомствами обстановке.
Мне пришлось с ним впервые столкнуться, когда я учился в Литературном институте. Он произвел на меня впечатление человека грубого, несправедливого и одновременно претендующего на картинную душевность и безапелляционную «партейную» непогрешимость. Сочетание этого создавало впечатление чего‑то неуловимо ханжеского. Я не видел в нем ничего хорошего и имел реальные основания считать, что и он сам ко мне плохо относится. И вдруг на Халхин – Голе, взявши сразу другой, ворчливо – покровительственный тон, он в течение нескольких дней стал для меня и старшим другом, и дядькой – человеком, искренне беспокоившимся о моей безопасности больше, чем о своей. В нем были истинное дружелюбие, простое, непоказное товарищество и добрая забота.
А потом, после Халхин – Гола и Финляндии, я встретил его опять в Москве. Это был совсем другой человек. По – моему, он был несколько озлоблен тем, что ни его положение, ни знакомства, ни заслуги, ни авторитет как писателя – фронтовика не могли сломить какого‑то едва заметного, но все же уловимого сквозь комплименты холодка, когда речь о нем заходила просто как о писателе.
Но это всего лишь деталь, связанная с его тогдашним настроением, а главное, передо мной вновь был человек грубый и самодовольный, с напыщенной прямотой и нетерпимостью говоривший о других людях.
А потом были 1942–1943 годы. Я неоднократно встречал на фронте людей литературных, а чаще – нелитературных, командиров дивизий, полков, которые говорили, что вот тогда‑то или тогда‑то у них был Ставский, и говорили о нем хорошо, с теплотой, с уважением к его храбрости и простоте. А надо ведь сказать, что к нашему брату писателю при всем армейском гостеприимстве потом, в воспоминаниях, относились сурово: и косточки перемывали, и не дай бог какая‑нибудь червоточинка! Ее сразу замечали и долго о ней вспоминали. Значит, он там, на передовой, в самом деле был опять простым человеком и хорошим товарищем.
Он погиб в 1943 году. И когда мы в своей среде разговаривали о нем, я вспоминал сразу двух человек: одного – грубого, недружелюбного, напыщенного; другого – заботливого, простого, сердечного. Вспоминал и обоих сразу, и порознь.
Что же было? Непосредственная ли опасность украшала душу человека и он отбрасывал в себе все мелкое и злое, даже очень привычное и въевшееся? Или просто обстановка: окопы, поле, по которому надо было переползать, блиндаж, плащ – палатка, на которой стояла вскрытая ножом консервная банка и лежали два куска хлеба, твой и мой? Может быть, это не давало вспухать в горле пышным и ханжеским словам, останавливая их, и он говорил с тобой просто как товарищ, а не как «большое лицо»? Трудно ответить на этот вопрос, но, во всяком случае, все это было точно так, как я сейчас вспоминаю.
Уже не могу вспомнить сейчас во всех подробностях, как проходили те первые для меня дни на Халхин – Голе. Помню, что была жаркая громадная степь, по которой Ставский с удивительным чутьем ехал, переезжая с колеи на колею, а их было бесконечное количество, ибо степь была ровной, как стол.
Успех наступления уже определился. Бои со дня перехода наших войск в наступление шли седьмой день, а на десятый все уже было кончено. Наши в районе сопки Номун – Хан – Бурт – Обо сомкнули кольцо и сейчас брали сопки Зеленую, Песчаную и Ремизовскую – последние опорные пункты японцев.
Сначала мы поехали в штаб армейской группы на Хамардабу. Это была не слишком выдававшаяся над степью возвышенность с довольно крутыми скатами и извилистыми, расходившимися в разные стороны оврагами, вроде балок на верхнем Дону, только совершенно безлесными. В скаты были врыты многочисленные блиндажи, а кое – где стояли юрты, сверху прикрытые от авиации натянутыми сетками с травой.
Ставский пошел по начальству узнавать, что происходит и куда ехать, а я довольно долго – должно быть с час – сидел около какой‑то юрты, кажется отдела по работе среди войск противника, в которую за этот час несколько раз приходили люди с разными трофеями: японскими записными книжечками, связками бумаг и фотокарточек – и оставляли все это в юрте.
Там сидел какой‑то равнодушный лейтенант и разбирал все это, откладывая нужное на стол и бросая ненужное на пол. Пол юрты был завален фотографиями. Японцы, как я убедился в этом впоследствии, очень любят сниматься, и почти в каждой солдатской сумке были десятки фотографий: фотографии мужские, женские, фотографии стариков – видимо родителей, фотографии японских домиков, улиц, открытки с Фудзиямой, открытки с цветущей вишней – все это целым слоем лежало на полу, и проходившие к столу, за которым сидел лейтенант, шагали по всему этому туда и обратно, не обращая никакого внимания на то, что у них под ногами.
Это было мое первое и очень сильное впечатление войны. Впечатление большой машины, большого и безжалостного хода событий, в котором вдруг, подумав уже не о других, а о самом себе, чувствуешь, как обрывается сердце, как на минуту жаль себя, своего тела, которое могут вот так просто уничтожить, своего дома, своих близких, которые связаны именно с тобой и для которых ты что‑то чрезвычайно большое, заполняющее огромное пространство в мире, а от тебя может остаться просто растоптанный чужими ногами бумажник с фотографиями.
Тогда, на Халхин – Голе, у меня не было с собой ничьих фотографий, но в 1941 году, когда я взял на фронт фотографию близкой мне женщины, я так и не смог избавиться от этого халхин – гольского воспоминания о юрте с фотографиями на полу и от ощущения жгучей опасности не по отношению к себе самому, а именно по отношению к этой фотографии, лежащей в кармане гимнастерки как частица всего, что осталось дома и что может быть взято и растоптано чужим каблуком.
Через час Ставский пришел, и мы поехали. Он сказал, что поедем на северную переправу, а оттуда – к Песчаной высоте, которую как раз сейчас берут.
По узкому мостику мы переправились через реку Халхин– Гол – ту самую спорную реку, до которой японцы числили свою границу и через которую они переходили еще в июле с намерением окружить всю нашу группу.
Сейчас бои шли довольно далеко за рекой, километрах в восьми. Оттуда слышалась густая артиллерийская канонада.
У переправы, на том берегу, было несколько землянок. Мы зашли в них, не помню зачем, и в это время невдалеке от нас японцы стали бомбить переправу.
Я впервые видел бомбежку. Это показалось мне больше всего похожим на внезапно возникшие на горизонте черные рощи. Потом мы поехали. Японцы опять бомбили, на этот раз близко от нас. Мы остановили машину и полезли в щель. Помню, я испугался, заметался, попал не в щель, а в какую‑то воронку, которая, впрочем, показалась мне глубокой и поэтому безопасной. Когда мы вылезли, то Ставский сердился, что я отстал от него, и сказал, чтобы я держался возле него, а потом высмеял меня за то, как я оправдывался: что воронка была ближе и что она была глубокая. Высмеяв мое представление о безопасности, он стал терпеливо объяснять мне, что такое щель, почему ее роют под углом, почему ее роют узкую и почему она безопаснее, чем воронка.
Потом мы опять поехали дальше по степи. Сначала добрались до позиций артиллерийского дивизиона, где орудия стояли под сетками и вели беспрерывный огонь по гребню желтой высоты, видневшемуся невдалеке, километрах в трех. Это и была сопка Песчаная.
Но вел огонь не только этот дивизион – вели огонь еще несколько дивизионов, и гребень сопки, немножко впалый, как кратер вулкана, все время вспыхивал разрывами и дымился. Это было похоже на извержение, особенно если смотреть в бинокль. Хотя я знал еще со школьной скамьи разницу между скоростью света и звука, но несоответствие между появлением вспышек на гребне сопки и звуками разрывов бессознательно продолжало удивлять меня весь этот первый день.
От артиллеристов мы перебрались к пехотинцам; это был полк Федюнинского, впоследствии, в Отечественную войну, командовавшего армией, а тогда командира полка. Он был накануне ранен, причем, кажется, в неподходящее место – пониже спины. Во всяком случае, по этому поводу шутили и передавали его собственные ругательные остроты.
Командовал полком маленького роста майор. Помню его каску и очень грязную шинель, нескладно подпоясанную ремнем и горбившуюся на плечах. У него отросла семидневная щетина, очевидно, он не брился с начала наступления. Он был похудевший, усталый, со впалыми глазами. Кажется, фамилия его была Беляков, впрочем, не помню, может быть, я ошибаюсь. Он был заместителем командира полка по строевой части и принял на себя командование после ранения полковника. Его полк наступал на Песчаную сопку прямо в лоб. Сейчас он немного продвинулся и перенес командный пункт.
Мы оставили машину, потому что ехать дальше было нельзя: местность простреливалась, – и пошли вперед вместе с майором на новый командный пункт. Изредка чиркали пули. Тогда мне показалось, что это где‑то далеко, и я даже удивился, когда одна шлепнулась близко и я увидел, как фонтанчиком встал песок. Мы прошли открытое место, потом закрытое, потом еще раз открытое, но по нас больше не стреляли, и мы выбрались на гребень низкого, но длинного холма, где был только что отбит японский блиндаж. Вокруг этого блиндажа, за гребнем высотки, разместился командный пункт полка, а командный пункт батальона, который был здесь до этого, ушел еще на сто метров вперед.
Сопка была отсюда хорошо видна. Она оказалась двойной: одна сопка немножко подальше и побольше, а другая – поменьше и поближе, метрах в трехстах от нас, может быть в четырехстах.
Уже начало смеркаться. Проходили раненые. Прошел маленький старшина, потный, обросший и с рукой на перевязи.
– И тебя ранило? – спросил майор.
Тот кивнул и выругался по адресу японцев и, ни на кого не обращая внимания, пошел дальше.
– Был командиром роты, – сказал майор. – Всех командиров в роте убило.
Как‑то не сразу я заметил убитых японцев. Их было много: несколько лежало в круглых окопах в стороне, несколько – прямо на высотке, довольно много трупов лежало внизу, под холмом, – видимо, их уже свалили туда, вытащив из окопов.
Потом я заметил и наших. Лица их и головы были закрыты шинелями. Их лежало пять или шесть человек на горушке. Я думал сначала, что они отдыхают. Меня удивило только, какие у них длинные ноги. Оказалось, что это лежали мертвые. Потом подошел танк и привез еще одного убитого – командира роты. Его завезли на командный пункт полка, – сняли с брони, положили на землю, а танкисты быстро уехали заправляться.
Не помню точно всего, что было в этот день, и боюсь спутать, что было в этот, и что в следующий, и еще через день. Все эти три дня у меня как‑то сошлись в один.
Ставский постоянно сам интересовался происходящим и в то же время не уставал мне объяснять, что, где, как и почему, причем ни чуточки не иронизировал над моей неопытностью, а все объяснял всерьез и досконально.
Надвигалась ночь. Примостились спать в мелких кустиках возле окопов. Я сдуру поехал без шинели. Ставский отдал мне свою плащ – палатку и при этом как‑то особенно заботливо укрыл меня. Спал я крепко, но недолго, наверное часа два. Проснулся до рассвета и увидел, что устроился неудачно: то, что я принял за кочку, были ноги полузасыпанного землей японского солдата; от трупа шел запах; может быть, от него я и проснулся. Я перелег, но заснуть уже не мог.
Чуть рассвело, началось наступление. Мы перебрались на командный пункт батальона. Это был тоже маленький холмик с японскими окопами. Было тесно, потому что было много народу. Сюда же пришел комиссар дивизии – худощавый, южного тина человек, отчаянно мучившийся приступом язвы. Он был совершенно белый. Видно было, как ему плохо. Он все время интересовался боем и даже отдавал приказания, но у меня было такое чувство, что ему не до этого, не до боя и не до опасности, что боль, которая его мучает, сильнее.
Отсюда до ближайшей сопочки было метров двести. По ней вели огонь наши пушки. Сопочка эта мешала подходу к высоте. Ожидали, когда ее займут, чтобы начать штурм большой высоты.
Мы все время следили за этой сопочкой, а японцы оттуда все время обстреливали командный пункт нашего батальона. Пули проходили над козырьком окопа, а иногда закапывались в землю. Кто‑то, слишком далеко высунувшийся, был убит наповал. Его отнесли назад и, как и у тех, раньше убитых, шинелью накрыли ему голову.
Я от времени до времени немножко высовывался, стараясь как можно глубже надвинуть на лоб каску и таким образом до минимума сокращая незащищенное расстояние между краем каски и глазами. Мне казалось, что так все‑таки менее страшно, а смотреть постоянно хотелось.
Вдруг Ставский закричал:
– Смотри, смотри!
Я высунулся: из окопов, на вершине маленькой сопочки, один за другим выскакивали – их было довольно много – японцы и бежали через гребень сопки назад, к седловине, к большой сопке. Видимо, они выскочили, не выдержав огня, а может быть, получив приказ отступить на главную сопку. Во всяком случае, они один за другим выскакивали и бежали назад.
Комиссар дивизии не своим голосом закричал что‑то, и две пушки, стоявшие сзади нас, перекатились на бугор рядом с нами, и артиллеристы очень быстро стали стрелять прямой наводкой по бежавшим в двухстах пятидесяти метрах от нас и очень хорошо видимым на гребне холма японцам. Снаряды один за другим попадали в самую гущу их. Кто‑то еще бежал вперед, падал, опять бежал, наконец все упали.
Может быть, мне показалось это, но у меня до сих пор сохранилось ощущение, что я видел, как снаряд угодил прямым попаданием в одного из японцев. Может быть, на самом деле снаряд разорвался у него под ногами, но я видел, как человек, который только что был, вдруг на моих глазах исчез.
Через полчаса мы уже были на той сопочке, по которой стреляли наши пушки. Пушки катились дальше, пехота шла дальше, и к вечеру вся Песчаная высота была занята. Мы ночевали на ней среди многочисленных еще не убранных трупов, среди остатков чужой рухляди – вееров, бумаг, котелков, крошечных мешочков с маленькими японскими галетами, связок тоже крошечной сушеной рыбы – и среди того странного, как говорили тогда, «японского» запаха, который на самом деле был запахом креозота: японцы дезинфицировали им свои окопы.
На следующее утро мы на танке (иначе проехать было нельзя) перебрались на другой участок, где брали последнюю сопку. Перебирались мы по открытому месту, ибо между полком, где мы были, и полком, в который мы ехали, была сопка с японцами, все кругом простреливалось, и, если не ехать прямо, нужно было обходить где‑то очень далеко, по большому кольцу наших войск, замыкавшему окруженных японцев.
Никакого ощущения от пребывания в танке, кроме ощущения грохота и многочисленных ушибов, я не испытал. Я был куда‑то запихнут, и кто‑то полусидел на мне, и я ничего никоим образом не мог видеть. В однообразный рев и грохот танка врывались еще какие‑то грохоты. Когда мы приехали, выяснилось, что нас по дороге обстреливала артиллерия, но все сошло благополучно.
У этой последней сопки мы провели почти весь следующий день. Наконец она была взята. Мы пошли по окопам, буквально забитым телами убитых японцев. Я никогда потом не видел такого количества трупов в окопах. Видимо, сюда сползлось все, что могло сползтись. Это была самая последняя точка организованного сопротивления. Очень много было исколотых штыками. Было очень много ходов сообщения, окопов, блиндажей. Вся сопка была изрезана ими вдоль и поперек.
Кое – где еще раздавались выстрелы. Это доколачивали последних отстреливавшихся в блиндажах японцев. Потом при нас из песчаной норы вдруг вылез японец с поднятыми руками, с окровавленными и кое‑как обмотанными бинтами лицом и шеей. Какой‑то боец скинул с плеча винтовку и бросился на японца со штыком. Его остановили.
– Они только пять минут назад нашего командира роты убили – вот так, с поднятыми руками вышли! – кричал боец и рвался к японцу.
Его все‑таки удержали, а кто‑то сказал, что действительно здесь вот пять минут назад убили командира роты – так же вот вышли с поднятыми руками и убили!
Мы продолжали ходить по окопам, и я нервничал оттого, что так и не получил нагана и у меня не было никакого оружия. Тут, наверное, было все, вместе взятое: и страх, что вдруг откуда‑то выскочит на меня японец, а я ничего не смогу сделать, и просто мальчишеское желание идти с наганом в руке, как ходили другие.
Бой угасал. На горизонте начинало зеленеть и краснеть. По– прежнему пахло креозотом. Вдалеке в двух или трех местах слышались пулеметные и винтовочные выстрелы. Где‑то на маленьких сопочках и пригорках и просто в поле бродили последние группы японцев. Их добивали в мелких стычках, по – моему, еще дня три. Но война уже заканчивалась, это чувствовалось.
Ставский сказал, что ничего интересного больше не предвидится и что мы можем ехать к себе в Баин – Бурт: надо давать материал.
– Ты что будешь давать? – спросил он.
Я сказал, что попробую написать несколько рассказов в стихах о героях боев.
Мы пошли обратно. Оказалось, что Ставский уже распорядился, чтобы шофер пригнал «эмку» куда‑то неподалеку. Нам предстояло пройти только небольшую ложбинку – там на холмике за кустами стояла наша «эмочка». Мы пошли через эту ложбинку метров двести длиной. Впереди шел Ставский, я за ним, больше никого не было.
И вдруг я услышал легкий свист и шлепок пули. Я вздрогнул, пригнулся, собирался лечь, но Ставский продолжал идти, не оборачиваясь. Я пошел тоже. Еще свист и шлепок. Потом длинная пауза. Ставский все не убыстрял шага. Прошли еще сто метров. Вот мы уже почти у холмика, сейчас мы зайдем за него. Еще свист и шлепок, еще свист и шлепок и еще один. Ставский идет все так же последние десять метров, и мы наконец за холмом. Только здесь Ставский оборачивается ко мне и говорит:
– Кое – где одиночки все‑таки остались, еще несколько дней будут за нашими охотиться.
Машина действительно стояла там, где он сказал. Мы поехали обратно. Начинало все сильнее темнеть. То там, то здесь на скатах сопок и холмиков чернели остовы наших сгоревших танков и бронемашин. Около одной из них мы почему‑то остановились. Ставский полез посмотреть. Это был легонький связной броневичок, зарывшийся передними колесами в японский окоп и уткнувшийся пулеметным стволом в землю. Рядом с ним прямо из земли торчали сапоги. Видимо, здесь же рядом, кое‑как засыпанный песком, лежал погибший экипаж.
– Добрался, маленький, – сказал Ставский.
Как сейчас помню, это выражение, адресованное маленькому связному броневичку, показалось мне трогательным. В самом деле, к этому броневику была какая‑то нежность: вот такой маленький, а дошел, врезался в окоп и здесь в последнюю минуту погиб.
Когда сели в машину, мне пришла в голову мысль, которую я сейчас же высказал Ставскому, – что хорошо бы, когда кончится конфликт, вместо всяких обычных памятников поставить в степи на высоком месте один из погибших здесь танков, избитый осколками снарядов, развороченный, но победивший.
Ставский резко заспорил со мной, говоря, что зачем же как монумент победы ставить ржавое, разбитое, то есть потерпевшее поражение, железо! Раз танк был так или иначе разбит или поврежден, он не годится для монумента победы.
Мы довольно долго спорили, но так и не сошлись во взглядах. Потом, когда я написал и напечатал стихотворение «Танк», в котором говорилось об этом, мы со Ставским случайно встретились в Москве и опять поспорили. Он снова говорил, что я не прав.
Но дело было, конечно, не в его или моей правоте, а в том, что эта же идея постепенно рождалась у самых разных людей: на нее наталкивала сама война. И сколько их, таких памятников, сейчас стоит, после войны, в разных местах! Кстати, как мне говорили, на Халхин – Голе теперь тоже стоит именно такой памятник – танк…
Совершенно неисповедимыми путями, по кромешной тьме Ставский, не вылезая из‑за руля, за три часа довел машину до Баин – Бурта, сделав на обратном пути по непроглядной степи около ста километров.
Мы остановились у юрты Ортенберга. Я пошел туда переполненный впечатлениями, усталый, взволнованный и счастливый в этот момент тем, что война уже кончилась и опасности позади. Я чувствовал себя если не совсем, то почти причастным ко всему, что произошло.
В юрте было жарко. Топилась стоявшая посредине и уходившая трубой в потолок железная печка, а Ортенберг сидел на койке в полном обмундировании и спал, навалившись лицом и руками на стол, на котором лежала свежая полоса газеты «Героическая красноармейская». Он каждый день с рассвета уезжал в войска, возвращался к ночи и, выпустив газету, снова уезжал. Когда мы вошли, он поднял голову, посмотрел на нас сонными глазами, потом посмотрел на полосу, лежавшую перед ним, и красным карандашом – он, заснув, продолжал держать карандаш в руке – размашисто вычеркнул несколько абзацев, потом подумал, посмотрел на меня и вычеркнул целую колонку. Потом сказал:
– Надо написать стихи в номер. Сколько вам нужно строк? Шестьдесят хватит?
Я не нашел даже, что сказать.
– Шестьдесят, – сказал он. – Я снял тут одну колонку. Идите пишите.
Ночью я написал свое первое стихотворение для нашей армейской газеты. Это был мой первый опыт писания фронтовых рассказов в стихах, посвященных конкретным людям с подлинными фамилиями. Таких вещей я на Халхин – Голе написал десять или двенадцать. В начале Великой Отечественной войны по настоянию Ортенберга я, работая уже в «Красной звезде», написал еще два таких стихотворения, а потом бросил это и перешел на военные корреспонденции.
Я написал стихи, лежа на койке в юрте, и отнес их Ортенбергу. Он сидел над новой полосой, опять положив руки и голову на газетный лист, и опять спал. Когда я вошел, он встряхнулся, молча взял стихотворение и прочел его.
– Хорошо.
Потом спросил:
– А тут все фактически верно?
Я подтвердил.
– А то, может быть, не стоит настоящую фамилию? – еще раз спросил он.
Я еще раз сказал, что нет, что все фактически верно и можно ставить настоящую фамилию.
– Ну, хорошо. Идите спать.
Я пошел спать и долго не мог заснуть. Моих соседей по юрте – Льва Исаевича Славина, Захара Хацревина и Бориса Лапина – не было: они уехали утром и еще не вернулись.
Шел мелкий и сильный дождь. Подхваченный ветром, он летел даже не вкось, а почти параллельно земле. Слышно было, как шумит под дождем войлок.
А кругом была черная степь, абсолютно черная, без единого огонька, без единого пятна; даже соседних юрт не было видно: к ним надо было добираться на ощупь и угадывать, где они. Когда я приоткрывал войлок, завешивавший вход в юрту, то мне казалось, что я стою посредине большой черной комнаты без окон.
На следующий день я опять поехал на фронт и в ближайшие дни ездил туда как на дежурство. Рано утром выезжал, поздно ночью возвращался. Писал стихи, спал два – три часа, а если не успевал, то прямо садился в машину и опять ехал на фронт. Спал главным образом в дороге на заднем сиденье; за долгий путь сильно затекали ноги.
Боев, в сущности, уже не было. Наши и монголы вышли на границу с Маньчжурией, воткнули флаги и начали строить полевые укрепления, устанавливать колючую проволоку, класть малозаметные препятствия, состоявшие из тонкой, невидимой в траве, свитой спиралью проволоки. Достаточно было попасть в нее одной ногой, а потом другой, чтобы запутаться, не говоря уже о машине, которая мгновенно накручивала эту проволоку на оси и останавливалась. Рыли окопы, строили блиндажи. Кое – где вдоль границы происходили перестрелки с японцами. То там, то тут все еще добивали маленькие очажки японцев у нас в тылу и ловили одиночек. По ночам японцы стреляли, пробираясь к себе. На местах недавних боев наспех закапывали трупы. Там, где полевые дороги шли в теснинах между сопок, стоял тяжелый запах гниения.








