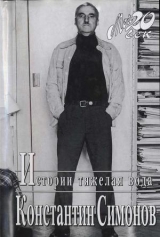
Текст книги "Истории тяжелая вода"
Автор книги: Константин Симонов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 40 страниц)
Истории тяжелая вода
Возвращаясь к пережитому. О мемуарной прозе Константина Симонова
Первые стихи Константина Симонова были напечатаны во второй половине тридцатых годов, сейчас уже приходится добавлять – прошлого века. На молодого поэта сразу же обратили внимание, тем более что пора в литературе была тогда не очень урожайная. В нем увидели одну из самых ярких фигур нового, еще неведомого литературе поколения. Как заметил тогда Константин Паустовский, Симонов был «одним из первых талантливых поэтов – ровесников Октября, представлявших в литературе “молодых людей социалистического времени”». И едва ли не как о главной черте молодого поэта говорили о присущем ему остром чувстве современности. То, что две самые крупные работы Симонова тех лет – поэмы «Ледовое побоище» (1938) и «Суворов» (1939) – и некоторые стихотворения («Поручик», «Английское военное кладбище в Севастополе») посвящены истории, в расчет не принималось, вернее, истолковывалось в том же духе – как своеобразное преломление неотступных тревожных раздумий о том, что нас не сегодня завтра ожидает. Впрочем, он и сам так считал. На обсуждении «Ледового побоища» в 1938 году Симонов говорил: «Желание написать эту поэму у меня явилось в связи с ощущением приближающейся войны. Я хотел, чтоб прочитавшие поэму почувствовали близость войны и что за нашими плечами, за плечами русского народа, стоит многовековая борьба за свою независимость». Позднее он снова повторил это: «Думая о предстоящей вооруженной схватке с фашизмом, некоторые из нас обращали взгляды в русскую историю, и прежде всего в военную историю нашего отечества. Размышлениям на эту тему были посвящены в предвоенные годы мои поэмы „Ледовое побоище“ и „Суворов“… Работа над ними была тогда существенной частью моей нравственной жизни». В общем, нет ничего удивительного, что в его сознании и в сознании тех, кто писал тогда о его исторических поэмах, история воспринималась лишь как своеобразный, но вполне закономерный повод высказаться о современности, которая становилась все более тревожной и грозной…
Я же вспомнил об этих ранних опытах обращения Симонова к материалу истории для того, чтобы сказать, что они были для него первой, но все‑таки существенной школой историзма, без которого в его трилогии «Живые и мертвые» было невозможно правдивое освещение событий великой войны, участником которой он был.
И не менее важен был историзм для его мемуарной прозы. И тогда, когда его целью, как в книге «Далеко на Востоке», было повествование о «малой войне», первой, в которой довелось ему участвовать (о военном конфликте с Японией на Халхин – Голе в 1939 году). И тогда, когда во фронтовых дневниках он писал о войне великой – с гитлеровской Германией (дневники увидели свет в двух томах под названием «Разные дни войны»). И тогда, когда рассказывал о пятимесячной командировке в только что проигравшую войну Японию («Япония. 46»).
По жанру все названные произведения – «путевые заметки». И в этом качестве они близки тем первоначальным – по ходу событий – записям писателя, которые были их основой. Думаю, что это был сознательный выбор Симонова, стремившегося сохранить и передать читателям живую плоть своих непосредственных впечатлений и оговаривавшего, что комментарии и попутные замечания, если они у него возникали, рождены другим, более поздним временем, другим опытом.
По – иному написаны «Глазами человека моего поколения», иную задачу ставил перед собой автор, но об этом речь впереди…
В 1971 году, когда он уже почти совсем забросил стихи, Симонов написал стихотворение, последняя строка которого не случайно дала название этой его книге воспоминаний. Мысль, выраженная в нем, была для него очень важна, не давала тогда ему покоя, потому стихотворение вдруг и написалось. Оно о том, что не надо принимать тонкий лед, едва – едва покрывающий реку, за ее глубинное течение: надо помнить о текущей подо льдом «тяжелой воде истории». Она, эта «тяжелая вода», определяет главное в жизни общества и судьбе людей.
Именно тут ключ к воспоминаниям Симонова – вне зависимости от того, пишет ли он о событиях, очевидцем которых был, или о людях, с которыми его сводила судьба…
И вот что еще непременно следует иметь в виду. Время, когда создавались мемуарные очерки Симонова, было трудное, порой уродливое, оно не давало автору возможности рассказать обо всем, что он знает и думает, на пути стояла бдительная цензура – главлит, главпур, ЦК на Старой площади, – решительно пресекавшая попытки как‑то выйти за пределы дозволенного. Конечно, у тех читателей, которые – кто по молодости лет, кто из‑за ослабевшей памяти – имеют весьма смутное, а то и превратное представление о былых временах и государственных нравах, эта мысль может вызвать недоумение: неужели и Симонову доставалось от цензуры? Баловень судьбы, обладатель одного из самых громких литературных имен, многажды лауреат, в тридцать лет один из руководителей Союза писателей и депутат Верховного Совета СССР – неужели и ему цензура чинила препятствия? Вот что нужно заметить по этому поводу. Популярность Симонова – фронтового корреспондента, драматурга и особенно поэта – была в годы войны невиданной. Последовавшее за этим официальное признание шло вслед за читательским успехом – славу Симонову сделали не власти, он завоевал ее своими произведениями, власти же решили, выдвигая и награждая его, ее присвоить, поставить себе на службу. Но благосклонность властей враз кончалась, едва писатель, каким бы высоким ни было отведенное ему до этого место в официальной иерархии признанных и удостоенных, касался в своих произведениях той правды, которая по каким‑то причинам расценивалась власть имущими как нежелательная или зловредная. Писателя ставили на место, воспитывали, наказывали. Все это полной мерой отведал и Симонов.
Со всей остротой конфликт с цензурой, с властями, все разраставшийся и преследовавший писателя до самой его кончины, возник, когда на смену Хрущеву пришел Брежнев и в стране началась «ресталинизация». А Симонов чем дальше, тем решительнее отвергал пронизывавшую всю нашу жизнь сталинщину, ее порядки и нравы, особенно безобразно сказывавшиеся и особенно ощутимо задевавшие его в истолковании горьких событий Великой Отечественной войны. Тут надо сказать, что о чем бы и о ком бы ни писал Симонов (в том числе и в своих мемуарных очерках), главным предметом его размышлений и воспоминаний, основополагающей их исходной точкой неизменно была война. Не случайно в одном из вьетнамских своих стихотворений он написал: «Всё рифмы какие‑то слышатся / Оттуда, из нашей войны». О войне он вспоминал, рассказывая о своих встречах с Буниным в Париже: «…я понаслышке уже знал про абсолютно безукоризненное поведение Бунина в годы немецкой оккупации, слышал, что он категорически отказался хотя бы палец о палец ударить для немцев. Для меня, только что пережившего войну, это было главным оселком в моем отношении к людям». Вспоминая о встречах с Хикметом, Симонов, конечно же, упомянет, что в годы мировой войны турецким поэтом была создана «удивительная поэма «Зоя», написанная в турецкой тюрьме, о русской девушке, повешенной среди подмосковных снегов немецкими фашистами». Война оказалась в его жизни ни с чем не сравнимым потрясением, не зря он как‑то заметил, что «человек, всерьез заслуживающий этого названия, живет после войны с ощущением, что перенес операцию на сердце». Именно с таким чувством он и жил…
Продолжу, однако, разговор о «любезностях» цензуры, с которыми сталкивался Симонов. Не стану здесь подробно рассказывать о многолетней борьбе за издание дневников «Разные дни войны» – очень уж длинная, многоступенчатая и мучительная это была история. Первая часть дневников сорок первого года – «Сто суток войны» – должна была появиться в трех номерах «Нового мира» за 1967 год. Однако, набранная и сверстанная, света она так и не увидела. Обращение Симонова «на самый верх» успехом не увенчалось, поддержки он не получил, его даже не удостоили ответом. Мало того, само название этой вещи было занесено в черный, проскрипционный список главлита – любое упоминание о нем в печати было запрещено.
Еще пример – «Заметки к биографии Г. К. Жукова». Симонов начал писать их по просьбе своего друга, в войну редактора «Красной звезды» генерала Ортенберга, для сборника, который генерал составлял. Но после запрета «Ста суток войны» Симонов написал Ортенбергу: «До получения твоего письма я колебался только в одном: продолжать ли мне эту работу именно сейчас или отложить ее на некоторое время в связи с тем, что, очевидно, она – при нынешнем отношении к истории – скорей всего, все равно будет лежать в ящике письменного стола… Не надо тешить себя иллюзиями. Такого рода работа – а никакую другую мне делать неинтересно, да я и просто не смогу – при нынешнем, подчеркиваю, отношении к истории света не увидит. Поэтому я и сигнализировал тебе, что для проходимого через нынешнюю обезумевшую цензуру очерка надо срочно искать другого автора… Если бы вдруг случилось чудо и цензура наша образумилась, то тогда другое дело – такая вещь, конечно, могла бы быть напечатана. Но надежд на такое изменение нравов у меня что– то мало». Симонов все‑таки дописал заметки о маршале Жукове, но мрачное предчувствие не обмануло его – свет они увидели, когда в живых уже не было ни Жукова, ни Симонова. Кстати, замечу попутно, что некоторые переклички в заметках о Жукове и в «Далеко на Востоке» возникли потому, что эти вещи писались отдельно, самостоятельно, независимо друг от друга.
Еще примеры на ту же тему… Последний абзац воспоминаний Симонова о Бунине, напечатанных в «Литературной России» 1 июля 1961 года, при последующих публикациях этого очерка цензурой категорически снимался. Именно по этой причине Симонов был вынужден их переименовать – «Из записей об И. А. Бунине», чтобы дать понять читателям: очерк печатается не полностью. В настоящей публикации этот текст, набранный для ясности курсивом, восстанавливается, как восстанавливается и первоначальное название очерка.
Таким же образом в мемуарном очерке Симонова об Эренбурге восстанавливается еще одна цензурная купюра (на нее указал исследователь творчества Эренбурга Б. Фрезинский).
Уход из жизни Александра Твардовского, у которого перед этим, после долгой травли, отобрали «Новый мир», Симонов, не раз выступавший в защиту журнала и его главного редактора (разумеется, эти выступления не печатались), воспринял как большую общественную и личную беду. Симонов высоко ценил стихи Твардовского, возглавил комиссию по литературному наследию после его кончины и много сделал для издания его произведений, преодолевая сопротивление властей предержащих. Этими горькими чувствами пронизаны воспоминания Симонова о Твардовском, которые он отдал в свое время в журнал «Вопросы литературы». И он, и редакция полагали, что в предназначенном для специалистов журнале они «пройдут» (характерное слово, обыденное в литературной жизни той поры) через цензурные рогатки. Но не тут‑то было. Воспоминания были задержаны главлитом, оттуда переправлены в ЦК. Рукопись буквально исполосовали, в ней оказалось большое количество зияний и шрамов от пристального цензорского внимания – надзирающие за литературой в оба глаза следили за тем, что писали о Твардовском: «чуяла кошка, чье сало съела», боялись, что приоткроется, как они травили «Новый мир» и сживали Твардовского со свету. И Симонову, как и в случае с очерком о Бунине, пришлось, предупреждая читателей о сокращениях и потерях, также переименовать этот очерк – «Несколько глав из записей об А. Т. Твардовском». Для настоящего издания мы, благодаря любезности наследников Симонова, получили хранящийся в их архиве первоначальный экземпляр очерка – тот, который он представил в «Вопросы литературы», его мы и печатаем. Как и в воспоминаниях о Бунине и Эренбурге, здесь тоже курсивом восстанавливается все, запрещенное цензурой. Восстановлено и название очерка – «Таким я его помню…».
В общем, цензурные бесчинства той поры похожи одно на другое: все делалось по давно и хорошо отработанной исполнителями «указаний» колодке. За всем этим и стоял страх властей перед «истории тяжелой водой»…
Стоит сказать о том, что Симонов планировал выпустить сборник своих воспоминаний, подобный тому, который читатель держит сейчас в руках, дополнив его новыми мемуарами. В одном из последних интервью он рассказывал: «Сейчас занялся своим литературным архивом. Хочу написать и, очевидно, напишу в дополнение к тому, что у меня уже написано, книгу воспоминаний. Причем особенность этой книги будет заключаться в том, что в большинстве случаев – не всегда – она будет опираться на переписку с литераторами, о которых я буду писать… Я даже когда‑то первоначально для такой книги придумал название – «Пачка писем». А потом мне почудилось, что в этом немножко что‑то дамское есть, и отказался. Но названия другого, кроме «Книга воспоминаний», пока не придумал».
Но этот замысел он отложил до другого, более позднего времени, которое, увы, не было ему отпущено. Он уже очень плохо себя чувствовал и взялся за другую работу, которая казалась ему более важной, отвечающей его стремлению той поры привести в порядок то, что болело, то, что он хотел объяснить людям, но прежде всего сам хотел в этом разобраться, это было жгучей душевной потребностью. Весной 1979 года, за несколько месяцев до смерти, Симонов продиктовал свою последнюю работу – «Глазами человека моего поколения». У нее есть еще один заголовок – «Размышления о И. В. Сталине» (на эту тему он собрал очень важный материал – записал полные ценных исторических свидетельств беседы с маршалами Василевским и Коневым, адмиралом Исаковым). Впрочем, я не уверен, что он этот замысел осуществил бы, не уверен, потому что то, что написано, – это рассказ о своей жизни, Сталин возникает там в нескольких эпизодах встреч с писателями как оказавшийся в поле зрения автора исторический деятель, но увиден он автором с беспощадной ясностью на этом – раз в год устраиваемом вождем – показательном «театре одного актера», где, как во всей его зловещей деятельности, тоже проявлялись его иезуитство, жестокость, садизм: в назидание присутствующим одних он наказывал, других миловал, поощрял… Но пишет в записках Симонов о себе. Конечно, и прежде он тоже присутствовал в воспоминаниях, но как «боковая», «служебная» фигура; в этих же заметках он в центре повествования, главный их персонаж.
Так уж сложилось, что из‑за болезни Симонов не успел вычитать и выправить рукопись «Глазами человека моего поколения»; публиковать ее пришлось мне. Разбирая в архиве Симонова оставшиеся после него рукописи, я наткнулся на заметки к задуманной им пьесе «Вечер воспоминаний». Очевидно, писались они незадолго до мемуаров «Глазами человека моего поколения» – автору и в том, и в другом случае не давали покоя одни и те же мысли и чувства. Мне они помогли яснее понять суть размышлений писателя о времени и о себе (точнее было бы говорить не о размышлениях, а о суде над самим собой).
В задуманной Симоновым пьесе врач назначает герою опасную, рискованную операцию, до нее остается какое‑то время, и герою приходится решать, на что он должен использовать это уходящее, ограниченное, ставшее вдруг драгоценным время: «Что успеть? Состояние духа не такое, чтобы начинать что‑то новое. А вот биография, с которой ко мне приставали, действительно не написана. Вот ее и надо, наверное, сделать. Пусть останется хотя бы черновик – в случае чего».
Со странным чувством читал я все это, словно бы Симонов угадал свой приближающийся конец – как все будет, перед каким выбором поставит его жизнь, что заставит решать, когда сил останется совсем мало. Так оно и случилось: когда болезнь заставила его выбирать, выбор этот пал на работу, представляющую расчет с собственным прошлым.
Сразу же надо сказать, что, приступая к запискам «Глазами человека моего поколения», Симонов не собирался предлагать их для печати, как говорили тогда, «писал в стол», потому что на собственном горьком опыте убедился: в обозримом будущем эту вещь напечатать не удастся. Это определило степень серьезности поставленных в ней проблем и предельный уровень откровенности автора.
Еще один отрывок из его заметок о задуманной пьесе «Вечер воспоминаний»: «В ней, – писал Симонов, – должно быть сразу четыре моих «я». Нынешний «я» и еще трое. Тот, каким я был в пятьдесят шестом году, тот, которым я был в сорок шестом году, вскоре после войны, и тот, которым я был до войны, в то время, когда я только – только успел узнать, что началась гражданская война в Испании, – в тридцать шестом году. Вот эти четыре моих «я» и будут разговаривать между собой… Сейчас при воспоминаниях о прошлом мы никак не можем удержаться от соблазна представить себе, что ты тогда, в тридцатых или сороковых годах, то, что ты тогда не знал, и то, что тогда не чувствовал, приписывать себе тогдашнему сегодняшние твои мысли и чувства. Вот с таким соблазном я вполне сознательно хочу бороться, во всяком случае, попробовать бороться с этим соблазном, который часто сильнее нас».
Сформулированный таким образом принцип историзма стал призмой, через которую рассмотрены в «Глазами человека моего поколения» события и люди и прежде всего прожитая самим автором жизнь. Симонов хотел выяснить, докопаться, почему до войны и в послевоенную пору он поступал так, а не иначе, почему так думал, к чему тогда стремился, что и как менялось затем в его взглядах и чувствах. Не для того, чтобы подивиться неожиданным капризам памяти, ее небескорыстному отбору – приятное, возвышающее нас в собственных глазах она хранит цепко и охотно, к тому, чего мы сегодня стыдимся, что не соответствует нашим нынешним представлениям, старается не возвращаться, и нужны немалые душевные усилия, чтобы вспомнить и то, что вспоминать не хочется. Оглядываясь на прожитые нелегкие годы, Симонов старается быть справедливым и нелицеприятным и к самому себе: что было, то было, за прошлое – ошибки, заблуждения, малодушие – надо рассчитываться. Симонов судит себя строго. Чтобы показать это, приведу один характерный отрывок из его заметок о пьесе «Вечер воспоминаний», где он пишет о том, к чему прикасаться было особенно больно, что свидетельствует о том, что и ты разделял представления, которых нынче стыдишься. Они были тогда общеприняты, за ними стояло государственное одобрение. Ты в них непосредственно не участвовал, но принимал их, считал тогда само собой разумеющимися. В этом отрывке есть, несомненно, и определенный автобиографический момент – иначе он не жег бы так автора…
«Нынешнему кажется, – писал Симонов, – что он всегда считал преступлением то, что было сделано в сорок четвертом году с балкарцами, или калмыками, или чеченцами. Ему многое надо проверить в себе, чтобы вспомнить, что тогда, в сорок четвертом, или сорок пятом, или даже в сорок шестом, он думал, что так оно и должно было быть. Что раз он слышал от многих, что там, на Кавказе или в Калмыкии, многие изменили и помогали немцам, то так и надо было сделать. Выселить – и всё! Ему не хочется вообще вспоминать сейчас о своих тогдашних мыслях на этот счет, да он и мало тогда думал об этом, по правде говоря. Даже странно подумать, что он мог тогда так мало думать об этом.
А тогда, в сорок шестом году, именно так и думал, не очень вникая в этот вопрос, считая, что все правильно. И только когда он сам сталкивался – а у него был такой случай – с этой трагедией на примере человека, который всю войну провоевал на фронте, а после этого, высланный куда‑то в Казахстан или Киргизию, продолжал писать стихи на родном языке, но не мог их печатать, потому что считалось, что этого языка больше не существует, – только в этом случае поднималось в душе какое‑то неосознанное чувство протеста».
Не секрет, конечно, что Симонов в данном случае имеет в виду Кайсына Кулиева. И стоит справедливости ради сказать, как в ту тяжкую пору Симонов выглядел в глазах Кулиева. Через много лет после этого, когда минули трагические, черные времена для Кулиева и его народа, он писал Симонову: «Помню, как приходил к Вам снежным февральским днем 1944 года в «Красную звезду». На стене у Вас висел автомат. Это были самые трагические для меня дни. Вы это, конечно, помните. Вы отнеслись ко мне тогда сердечно, благородно, как полагается не только поэту, но и мужественному человеку. Я помню это. О таких вещах не забывают».
Я привел это письмо Кулиева не только потому, что, когда речь идет об автобиографических мотивах, справедливость требует щепетильной точности. Главное – в другом. Мнение Кулиева помогает понять степень беспощадности отношения Симонова к прошлому, даже в тех случаях, когда его личной вины в происходившем не было. Не участвовал, но без снисхождения осуждает себя за то, что когда‑то, не задумываясь, принимал на веру, соглашался, а это было ложью. Не так часто встречаются люди, способные допрашивать свое прошлое с подобной беспощадностью.
Не надо думать, что в «Глазами человека моего поколения» это одномоментная вспышка чувств – вдруг осенило, вдруг открылись глаза. Нет. Он давно к этому шел, давно не давало ему покоя желание проверить былое – и то, что было вокруг всех нас, и то, что тяготило его собственную душу.
В день своего пятидесятилетия, выслушав множество юбилейных речей, в которых его, естественно, всячески превозносили, он вдруг сказал в конце праздничного вечера: «Я хочу просто, чтобы присутствующие здесь мои товарищи знали, что не все мне в моей жизни нравится, не все я делал хорошо, – я это понимаю, – не всегда был на высоте. На высоте гражданственности, на высоте человеческой. Бывали в жизни вещи, о которых я вспоминаю с неудовольствием, случаи в жизни, когда я не проявлял ни достаточной воли, ни достаточного мужества. И я это помню». Я хорошо запомнил, как была встречена эта столь неожиданная для чествуемого и возносимого юбиляра речь. Но Симонов не только откровенно сказал тогда о том, что бывал не на высоте, о том, что его тяготит, но и сделал потом из этого для себя самые серьезные выводы, извлек уроки и старался, что мог, исправить. Один из этих трудных уроков для себя – «Глазами человека моего поколения». Читая их, стоит помнить о том, как нелегко и непросто человеку себя судить, кажется, нет более трудной, более мучительной душевной работы. Далеко не каждый за нее берется, редко кому она под силу. И надо уважать мужество тех, кто, как Симонов, отважился на такой суд, без которого невозможно очищение нравственной атмосферы в обществе.
Большая часть мемуарных очерков Симонова была написана в серые, мрачные «застойные» годы, когда торжествовала официозная «мифология», когда не верилось, что этому наступит когда‑нибудь конец: казалось, задушат правду – и даже потомки наши не узнают, что же было на самом деле. В эту пору Симонов получил печально тревожное письмо, автор которого был в полном унынии от распространяющейся фанфарной лжи о нашей истории, прежде всего истории войны.
Отвечая на это откровенное, печальное письмо, Симонов писал: «Я менее пессимистически настроен, чем Вы, в отношении будущего. Думаю, что правду не спрячешь и история останется подлинной историей, несмотря на различные попытки фальсифицировать ее – главным образом при помощи умолчаний… Хотелось бы добавить: поживем – увидим, но поскольку речь идет об отдаленных временах, то мы уже не увидим. Однако думаю, что будут верить как раз тому, что ближе к истине. Человечество никогда не было лишено здравого смысла. Не лишится его и впредь».
Надежды свои на то, что история все‑таки станет подлинной историей, Симонов связывал с отдаленным будущим. Мы же, перечитывая сегодня его воспоминания, можем без всяких преувеличений сказать, что они несут в себе те точные свидетельства, которые помогают понять, как текла нашей «истории тяжелая вода».
Л. Лазарев








