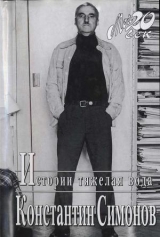
Текст книги "Истории тяжелая вода"
Автор книги: Константин Симонов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 40 страниц)
Бунин был в добром настроении. Пожалуй, все это его немножко тронуло и показалось забавным. А кроме того, его просто радовало присутствие на столе черного хлеба, калачей, селедки, любительской и копченой колбасы – всей этой полузабытой, особенно за годы войны, русской еды. Помню, как он ел эту любительскую колбасу и, смеясь, приговаривал: «Да, хороша большевистская колбаска!..»
В тот вечер у Бунина в гостях были поэт и критик Георгий Адамович, один из самых умных литературных людей эмиграции, и Тэффи. Все немножко выпили московской водки, и она пела под гитару очень хорошо, чуть надтреснутым, но обаятельным голосом. Ее голос был старше ее, она выглядела моложе. А в голосе чувствовалась старческая трещинка. Она пела какие‑то полуцыганские романсы на слова Полонского, на неизвестную мне музыку. Да и этих стихов Полонского я то ли раньше не знал, то ли не помнил.
Бунин попросил меня почитать стихи. Читал я довольно много и под конец прочел из еще не напечатанной тогда поэмы «Несколько дней» главу, связанную с моей недавней поездкой в Японию: «Я в эмигрантский дом попал, в сочельник, в рождество». В этой главе шла речь о ночи под рождество в эмигрантской семье, получившей советские паспорта. Главное место занимали мои собственные мысли о родине, но вначале были, пожалуй, все‑таки рискованные для чтения в данных обстоятельствах строки о русской эмиграции. Когда я прочел главу из поэмы, Бунин попросил меня прочесть еще что‑нибудь, я прочел одно или два стихотворения, и он только здесь, вдруг вернувшись к поэме, сказал:
– Однако вы рискнули это читать мне!
– Да, Иван Алексеевич, рискнул.
– Рискованно, рискованно, нашего брата вы там не больно‑то пощадили.
Очевидно, чтение этой главы все‑таки зацепило его, хотя и не вывело из того состояния добродушия и некоторой умиленности, которое было у него в тот вечер.
Это была моя последняя длительная встреча с ним. После того мы виделись и разговаривали еще раз, если не ошибаюсь, в книжной лавке. Я уезжал в Москву, и он по – дружески простился со мной, напомнив о моем обещании выяснить в Москве некоторые волновавшие его недоразумения с Гослитиздатом.
В связи с Буниным стоит упомянуть о двух моих разговорах с Адамовичем. Первый раз я разговаривал с ним после ужина у Бунина. В тот вечер он пошел проводить меня до гостиницы. А потом я был на юге Франции и, узнав, что мы с ним соседи, зашел к нему повидаться, и мы проговорили несколько часов. Адамович был близким другом Бунина и его жены. Кружок Бунина – Тэффи, при тогдашней расстановке сил в старой эмиграции, оказался на ее правом фланге, но при этом занимал непримиримые антинемецкие позиции. К этому кружку до войны примыкал Алданов, сейчас собиравшийся вернуться из Америки. Для него вопрос о сотрудничестве или несотрудничестве с немцами никогда практически не стоял, он эмигрировал в Америку и всю войну был там. Адамович подтвердил мне то, что я уже слышал: что Алданов имел и имеет огромное влияние на Бунина. Мне показалось, что Адамович в душе недолюбливал Алданова, но в то же время отдавал ему должное и говорил, что это человек большой моральной силы.
Как я понял из этого разговора, Бунин, решая вопрос о том, ехать или не ехать ему домой, и даже о том, брать или не брать ему советский паспорт, оглядывался на Алданова, боясь его суждений, и уж во всяком случае считался с ними, с тревогой думая о том, как Алданов отнесется ко всему этому. А Алданов – это можно было заранее сказать – отнесется к идее возвращения Бунина на родину резко отрицательно.
Что остается добавить?
Я уехал из Парижа, когда вопрос о том, захочет ли Бунин получить советский паспорт и поедет ли домой, находился в нерешенном положении. Мысль о поездке его и пугала, и соблазняла. Он думал о своем собрании сочинений в Москве; мы много говорили с ним об этом. Он волновался, что у него вышла какая‑то неудачная переписка с Гослитиздатом, что Гослитиздат не так его понял, как он хотел, а он, видимо, не так понял Гослитиздат. Возникли взаимные обиды, которые я обещал ему выяснить. Бунин огорчался, что его не так поняли, и очень хотел, чтобы его издали… Говорил:
– Я, может быть, и поехал бы, повидал, да ведь не пустят так вот, чтобы поехать просто… Коли поехать, так надо уж и жизнь доживать. А я уж как‑то привык к мысли, что буду здесь доживать. Если бы просто поехать…
Словом, он был еще в нерешительности. У меня создалось ощущение, что холодный разум подсказывает ему: не надо ехать, а чувства нет – нет и дают о себе знать и требуют этой поездки, зовут к более решительному сближению с родиной.
Как раз в это время появился доклад АЛ. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград», о Зощенко и Ахматовой… Когда я это прочел, я понял, что с Буниным дело кончено, что теперь он не поедет. Может быть, Бунина не столь уж взволнует то, что сказано о Зощенко – о писателе, чуждом и далеком для него, – но все, что произошло с Ахматовой, будет им воспринято лично – возвращаться нельзя! Он воспримет удар по Ахматовой как удар по себе. Если об наотрез отказавшейся уехать в эмиграцию Ахматовой говорят и пишут такое, то что же будут говорить о нем, проведшем столько лет в эмиграции… Словом, я понял, на всех наших мыслях о возвращении Бунина надо ставить крест. Так оно и оказалось.
Я вернулся в Москву и предпринял в Гослитиздате некоторые шаги – там действительно собирались издать его большой однотомник…
Долгие годы я считал утраченным письмо Бунина ко мне, свидетельствовавшее и о его настроениях того времени, и о его желании увидеть себя изданным на родине.
И вдруг, к своей радости, совсем недавно нашел исчезнувшее письмо, которое, наверно, уместно привести в моих записях об И. А. Бунине.
Вот оно:
«27. VII.1946
Дорогой собрат Константин Михайлович, вы изъявили доброе желание принять некоторое участие в деле издания Государственным издательством моих избранных сочинений: позволяю себе поэтому вкратце осведомить вас насчет этого дела. Началось с того, что мне позвонила Эльза Триоле, извещая меня, что она получила от г. Аплетина телеграмму: «Вышлите немедля последний сборник рассказов Бунина». Я после того отправился к Б. Д. Михайлову (73, Champs Elys6es Paris) и попросил запросить Москву, зачем именно нужен там мой сборник. Дней через десять пришел ответ: «для издания» – и просьба выслать для (того же) переиздания еще некоторые мои последние книги. Я послал через г. Михайлова рукопись моего последнего сборника («Темные аллеи»), «Жизнь Арсеньева», «Лику» и «Освобождение Толстого» (жизнь и учение Толстого), но дошло ли все это, не знаю и по сию пору. Затем я получил открытку от НД. Телешова, в которой он между прочим сообщил мне, что Государственное издательство выпускает «изборник» моих произведений в размере листов 25–ти. Очень взволнованный этим, я тотчас написал приблизительно одно и то же и Телешову, и Государственному издательству – свое крайнее огорчение, что меня издают без моего ведома, главное – не спросив меня, что именно я хотел бы дать для этого издания, видеть в этом издании и в каких текстах (указав, что есть собрание моих сочинений, изданное в 1934 г. в Берлине «Петрополисом», – единственное, которым следует пользоваться). Было это еще в январе, но ответ я получил от г. Аплетина только в марте: он телеграфировал уже лично мне: «Selon votre desir Editions Litteraires Etat ont suspendu pr6paration recueil vos oeuvres». (Подпись и адрес: 12, Kouznetsky Most, Moscou.) Я письмом поблагодарил г. Аплетина за ответ и попросил его сообщить мне, навсегда ли или только до выслушивания моих пожеланий отложено издание моих произведений, но сообщения этого так и не получил – чем и кончилась вся история издания меня Государственным издательством.
Пишу вам все это, Константин Михайлович, просто на всякий случай – ничего не домогаясь от Государственного издательства и не имея ни малейшего намерения побуждать вас к беспокойству по этому делу, если, возвратясь в Москву, вы не вспомните о нем. А если вспомните и замолвите за меня словечко в Государственном издательстве, буду очень благодарен вам…
Ив. Бунин».
Вскоре после этого датированного июлем письма, осенью того же, 1946 года Бунин выступил в Париже с заявлением достаточно враждебного нам характера. Эту позицию он продолжал занимать и позже, она усугублялась, и мне кажется, что в некоторых наших статьях и предисловиях напрасно замалчивают эту сторону дела. Последняя книга воспоминаний Бунина, изданная в 1950 году, по– моему, очень дурна. Наряду с несколькими блестящими вещами в ней много дешевой и злобной антисоветчины, которую он мстительно отобрал из написанного в разные годы и по разным поводам. Это был последний предсмертный удар, который он нам нанес в меру своих старческих сил.
Думается, что всего этого из «песни о Бунине» тоже не надо выкидывать. Нельзя изображать дело так, что якобы он на склоне жизни вернулся к нам. Мне кажется, что я видел Бунина именно в тот недолгий период его жизни, когда он был наиболее близок к нам, но и меру этой наибольшей близости тоже нельзя преувеличивать.
Рискуя повториться, хочу попробовать вспомнить еще некоторые подробности.
Во время войны и сразу после нее Бунин бедствовал. В 1946 году, когда я его видел, он помощи ниоткуда не получал, да и не собирался получать. И свое отношение к писателям, живущим у кого‑то на прокормлении, очень ясно выразил мне в своем презрительном рассказе о Гиппиус и Мережковском. Квартира у него была большая, обветшалая, запущенная – квартира обнищавших петербургских интеллигентов.
Ну, а как жил он в довоенные годы? Видимо, тоже в стесненных обстоятельствах. Он рассказывал мне о том, как получил Нобелевскую премию и как все это было неожиданно для него. О поездке в Швецию и самом акте получения премии он рассказывал серьезно, с оттенком гордости, а о том, как потом тратил деньги, – с большим юмором; деньги летели, было неисчислимое количество просьб о помощи со стороны эмигрантов, которые все разом на него навалились. Кое – кому пришлось помочь, но, если бы помогать всем, кто просил, не хватило бы и десяти Нобелевских премий. По его словам, после получения премии он вдруг стал фигурой, которую, по мнению всех других, оставшихся ни при чем, можно и нужно было доить. И этим дружно занялись весьма многие, в том числе и совершенно неизвестные ему лица.
Как выглядел Бунин летом 1946 года? Я уже говорил о его облике. Мне трудно сейчас вспомнить, как он бывал одет, но на нем все хорошо сидело и выглядело хорошим. Уже суховатая старческая шея, сухощавое лицо. Видимо, оттого, что он похудел не за последние годы военной голодовки, а всегда был худощав, это помешало образоваться на его лице и шее мешкам и складкам.
В нем уживалось как бы два юмора. Один юмор добродушный, а другой – желчный. И он вперемежку пользовался и тем и другим, как будто у него в запасе всегда есть два пистолета двух разных калибров и он может, в зависимости от обстоятельств, вынимать то один, то другой.
Он был еще крепок, гулял хорошей быстрой походкой и любил пройтись, никогда ни всерьез, ни в шутку не жалуясь на здоровье.
Что он говорил о литературе? О нашей и французской? Я мало что запомнил из этого. Пожалуй, даже осталось ощущение, что он вообще не склонен был говорить о литературе. Больше говорил о России, о Франции, о войне, о политике, о немцах. И даже когда вспоминал Алексея Толстого, то опять‑таки не как писателя, а как друга и человека с иной судьбой, чем у него самого…
1961–1973
Самый разный Горбатов
Знакомы с Борисом Леонтьевичем Горбатовым мы были на протяжении пятнадцати лет, с тридцать девятого года до последнего года его жизни – 1954–го. Когда мы впервые встретились, ему было тридцать один, а когда он умер – всего – навсего сорок шесть. Но если говорить о той степени близости, которая позволяет мне писать эти воспоминания, то подружились мы лишь где‑то посередине нашего знакомства, в сорок шестом году, во время поездки в Японию. И все, о чем пойдет речь, за одним исключением, относится к последним восьми годам жизни Горбатова.
В данном случае мои воспоминания опираются только на память. Удержать в ней все подробности дружеских разговоров многолетней давности, разумеется, невозможно, однако думаю, что и общий смысл их, и тон близки к истине.
Горбатов и в самом деле был очень разный, хотя и цельный. Благородство, непримиримость к фальши, нелюбовь к позе, строгость к себе, недовольство написанным, способность радоваться за другого, нерасчетливость, горячность, щедрость, неистребимый юмор – все эти качества, вместе взятые, образовывали натуру внутренне цельную. Но внешние проявления этой цельности в зависимости от обстоятельств, места действия, собеседников были такими разными, что порой казалось: в этом кругло – квадратном, мощно скроенном, наголо бритом человеке, которого зовут Борис Горбатов, сидит сразу несколько Горбатовых и на поверхность выскакивает то один, то другой из них, заранее неизвестно – какой.
Москва. Сорок четвертый год. Мы оба одним самолетом вернулись с фронта из Польши, оба были в Майданеке и оба пишем о том, что увидели там, в лагере смерти. Каждый по – своему: я, сдерживая себя, – сухо, протокольно; Горбатов – гневно, возмущенно, приподнято. О том, как будем писать об этом, спорили еще там, в Люблине, и каждый остался при своем.
– Не ожидал от тебя такой подлости, – говорит Горбатов при встрече. Говорит так сердито, что даже ноздри у него подрагивают.
– Чего ты от меня не ожидал?
– Того, что ты напечатаешь два куска, пока я напечатаю один. Договорились же, что будем писать одновременно.
– Договорились, что начнем писать одновременно, – уточняю я.
– Ну конечно! Тебе только – начать да кончить! Тебе жаль времени даже на то, чтобы хоть немножко притормозить и вспомнить, что ты писатель. Я встаю, думаю, пью чай, снова думаю, раскладываю пасьянс, еще раз думаю и только после этого пишу. А ты вообще никакой не писатель, а обормот! Едва продрав глаза, сразу же садишься и строчишь свои четырехколонники, как ни странно, вполне удовлетворительные. Нет, так дальше у нас с тобой дело не пойдет. Если опять окажемся где‑то вместе, сразу же договоримся, что ты начинаешь писать на неделю позже меня!
Горбатов смеется так, что у него прыгают очки, и рассказывает мне в лицах, как сегодня утром редактор «Правды» Петр Николаевич Поспелов, увидев в «Красной звезде» мой второй четырехколонник, свирепо укорял его в неоперативности.
Токио. От международного корреспондентского клуба, куда мы заезжали с Горбатовым за какой‑то нужной нам информацией, до нашего местожительства в кое‑как отремонтированном нами домике бывшего торгпредства километров двенадцать через развалины Токио. Мы едем на своем «виллисе» и спорим с Горбатовым. Я упрекаю его за то, что одна из наших трех машин, старый японский «фордик», так и не вышла из гаража по его вине: он не достал бензина, – а по распределению наших обязанностей – бензин должен доставать он.
– Я вчера поздно вернулся и сегодня проспал, – сердито бурчал Горбатов.
– Не проспал, а провалялся, – уточняю я.
– Да, я лежал и думал. Понимаешь, думал, то есть занимался тем, о чем ты не имеешь ни малейшего представления.
– Вот и надумал бы, где бы достать бензину, – гну я свое. – Когда распределяли обязанности, ты же сам предложил, что будешь заниматься машинами и горючим.
– Я считал, что это легче всего, потому и взялся, а ты знал, как это трудно, и все‑таки всучил мне, хотя тебе прекрасно известно, как я не люблю работать!
Я говорю Горбатову, чтобы он не валял дурака, он же сам предложил, чтобы я стал руководителем нашей группы.
– Да, предложил, потому что еще не раскусил тебя, но теперь я организую общественность, и мы тебя снимем в ближайшую же неделю, не позже!
– Хорошо, но, пока я еще у власти, тебе придется добывать бензин на все три наши машины.
– И не подумаю! – говорит Горбатов. – Сколько достану, столько и достану. Если достану на две, и то поклонитесь мне в ножки!
– Если достанешь на две, – озлившись, говорю я, – то мы, все остальные, будем ездить на этих двух, а ты на той – третьей, на которую не достанешь.
Мы начали спорить, едва отъехав от корреспондентского клуба, и теперь, к разгару спора, доехали до середины дороги. До нашего дома еще километров шесть.
– Останови машину, – вдруг говорит Горбатов.
– Зачем?
– Останови машину.
«Виллис» останавливается, и Горбатов, легко перебросив через борт свое грузное, но сильное тело, оказывается на мостовой.
– Что это значит?
– Это значит, что я не желаю дальше ехать в одной машине с таким отвратительным буквоедом и вообще гнусным типом, как ты.
– Да ладно тебе, садись, – пробую я выпустить из него пар.
– Не поеду.
– Садись.
– Не поеду. – Он рывком надвигает на лоб шляпу, закладывает руки в карманы и быстро идет в сторону от машины своими мелкими, семенящими, чуть – чуть смешными шажками.
– Смотри не заблудись.
– Не твое дело.
Он идет. Я уезжаю.
Приехав домой, я сразу же посылаю «виллис» с шофером навстречу Горбатову, авось, не пожелав ехать со мной, он соблаговолит поехать без меня. Но «виллис» через час возвращается, так и не обнаружив Горбатова.
Мы – Агапов, Кудреватых, я и поехавшая в Японию вместе с нами моя стенографистка Муза Николаевна, добрейшая душа во всей нашей группе, – садимся, расстроенные, за стол и, уже сев, решаем не притрагиваться к еде, пока не появится Горбатов.
– Он так не любит ходить пешком, говорит Кудреватых, – может быть, чтобы смягчить его душу, поставим на этот раз бутылку водки из нашего НЗ?
Я не возражаю. Мне, наверное, больше всех хочется смягчить душу оставленного мною посреди Токио Горбатова, и, достав хранящиеся у меня в кармане ключи от сейфа, я вынимаю оттуда бутылку водки, приношу и ставлю на стол.
Сидим еще тягостных полчаса.
Вдруг с треском открывается наружная дверь, и еще из коридора доносится веселый, громкий голос Горбатова:
– Ну конечно, наверное, всё уже сожрали, пользуясь моим отсутствием. Оставили мне одни объедки.
Он входит в комнату веселый, улыбающийся, продрогший и порозовевший от непривычной для него долгой ходьбы.
– Имей в виду, – говорит он, обращаясь ко мне, – что я по дороге раздумал снимать тебя с руководства, потому что лучший способ расплаты за то, что ты оставил меня, так ненавидящего ходить пешком, одного посредине Токио, это заставить тебя и дальше руководить нами. Ты еще нахлебаешься горя с каждым из нас, особенно со мной. Даю тебе честное пионерское!
Снова Токио. Горбатов, в начале нашей поездки добродушно насмешливый, после нескольких месяцев пребывания в Японии заметно изменился. Все чаще и чаще в те вечера, когда мы после работы собираемся в своем жидком домике, изрядно промерзшем за эту небывало холодную токийскую зиму, Горбатов появляется или чем‑то раздраженный, или угрюмый до нелюдимости. Он бегает своими быстрыми шажками из угла в угол по комнате, сердито пожимая плечами, и ни с кем из нас не заговаривает, видимо, предпочитая этому молчаливый разговор с самим собою.
Именно так, особенно долго, он бегает по комнате в тот вечер, о котором я сейчас вспоминаю, и вдруг, остановившись напротив меня, спрашивает:
– Ну, что смотришь?
Пожав плечами, я отвечаю, что видеть его в таком настроении никому из нас не доставляет удовольствия.
– Удовольствие? – Он морщится от этого не понравившегося ему слова и, еще с минуту побегав взад – вперед, резко останавливается напротив меня и, ткнув себя пальцем в грудь, говорит с усмешкой, которая нисколько не смягчает серьезности сказанного: – Не в состоянии дальше пребывать в условиях капитализма! Понятно тебе?
Я молчу.
– Сегодня в шахту спускался. Ох! – Он мотает головой с таким страдальческим выражением лица, что к его словам нечего прибавлять. – Был бы я японским писателем, я бы написал им такой роман о японском рабочем классе… К черту! – Подняв кулак, он потрясает им в воздухе и наконец садится на стул и говорит тихо и горько, словно удивляясь чьей‑то непонятливости или недогадливости: – Интересно, когда вообще кончится вся эта нелепость, которая называется капитализмом?
Москва. С Александром Александровичем Фадеевым у Горбатова отношения товарищеские, но не столь простые, какими могут показаться на первый взгляд. Корни этого уходят в двадцатые годы. Совсем еще юный тогда, Горбатов был одним из секретарей ВАППа. И хотя, разочаровавшись в прелестях руководящей деятельности, он поспешил расстаться с ней, однако Фадеев, вспоминая то время, при случае замечает, что Горбатов уже с пеленок был леваком. Обычно эти иронические замечания совпадают с каким– нибудь возникающим между ними спором.
Расставшись с работой в ВАППе, Горбатов вошел в сложившуюся вокруг журнала «Октябрь» литературную группу, во главе которой стояли Серафимович и Панферов. В силу групповых пристрастий и отталкиваний той поры Панферов какое‑то время был ближе Горбатову, чем Фадеев. И об этом они, по – моему, оба помнят – и Горбатов, и Фадеев, который вообще все помнит.
В дальнейшем Горбатова захватывает журналистика, «правдистская» работа, дальние и трудные поездки, потом начинается война, и литературные разногласия двадцатых – начала тридцатых годов вроде бы уходят в прошлое.
Однако в сорок шестом году, когда в новом составе секретариата правления Союза писателей Фадеев по предложению Сталина становится генеральным секретарем, а Горбатов, тоже по предложению Сталина, секретарем партийной группы правления, Фадееву, насколько я понимаю, это не очень нравится. Для него как для руководителя Союза писателей казалось бы естественным одновременно руководить и работой партгруппы. Однако секретарь партгруппы не он, а Горбатов, и в этом есть непривычный для Фадеева оттенок комиссарства. Конфликтов на этой почве внешне не возникает, но некая сложность их взаимного положения, быть может нарочито созданная, незримо присутствует в их отношениях.
Однажды в первый год нашей работы в Союзе Горбатов в разговоре со мной вдруг горько срывается:
– Ты напрасно думаешь, что Саша любит меня. Не любит и никогда не любил. И все его шутки, что я левак и загибщик, – шутки только наполовину. Ничего не попишешь, с таким перекосом я уж засел в его памяти с тех лет! – Горбатов усмехается. – Конечно, я и сейчас в чем‑то все такой же, каким был тогда, в двадцатые годы, но я ведь, согласись, немножко и другой и, наверное, пишу немножко иначе и лучше, чем тогда. Но Саша упрям, и я для него один из тех людей, о которых он не любит менять свои прежние мнения.
В словах Горбатова горечь, тем большая, что сам он любит Фадеева и высоко ценит его книги, все – и «Разгром», и «Удэге», и «Молодую гвардию».
Осенью сорок седьмого года, когда «Молодая гвардия» имеет уже огромный и, казалось бы, неоспоримый успех, посмотрев сделанный по роману фильм Сергея Герасимова, Сталин вдруг заново мысленно возвращается к книге Фадеева и обнаруживает не только в фильме, но и в ней ряд несовершенств.
Мы с Горбатовым оба читаем внезапно появившуюся в «Культуре и жизни» статью на эту тему и съезжаемся в Союзе писателей. Фадеева в этот день нет в Москве, он в отъезде, кажется в Риге. Мы пробуем дозвониться до Фадеева и думаем о тяжести удара, который ему предстоит испытать.
Для меня в тот же день в том же номере «Культуры и жизни» своя неожиданность – статья «Жизни вопреки», не оставляющая камня на камне от моей повести «Дым отечества». И размышления о сложности собственного положения несколько отвлекают меня от мыслей о беде, происшедшей с Фадеевым.
Зато Горбатов хотя по – дружески и сочувствует мне, но думает прежде всего о Фадееве. «Бедный Саша, как он будет теперь, как ему будет трудно!» – несколько раз повторяет Горбатов. Он настолько угнетен происшедшим, что меня это сначала даже поражает.
И только потом я до конца понимаю, в чем дело. В статье, критикующей «Молодую гвардию», вспоминают и хвалят «Непокоренных» Горбатова, сличают одно с другим в положительном для Горбатова и отрицательном для Фадеева смысле.
– Ты знаешь, как я писал «Непокоренных» и что они для меня такое! – наконец не выдерживает и сам заговаривает об этом Горбатов. – Но как только я подумаю, что кому‑то приходит в голову столкнуть одно с другим, мне делается стыдно перед Сашей! Мои «Непокоренные» со всем хорошим, что в них нашли, и его «Молодая гвардия» со всем плохим, что о ней написали, все равно для меня‑то самого это несравнимо! Я‑то это понимаю, но как сделать, чтобы это понял он? Как ему это сказать? Он же не даст мне это сказать!
И Фадеев действительно не дает ему этого сказать. Ни ему, ни другим.
Вернувшись в Москву, Фадеев сразу же с присущей ему в такие моменты холодной взвинченностью напрочь отсекает всякие попытки сочувствовать ему. И в этом цельность фадеевского характера. Но и в том, с каким самоотречением и с какой силой сочувствия к Фадееву накануне его приезда говорит мне о себе и о нем Горбатов, тоже цельность характера или, пожалуй точнее, цельность души.
Москва. У Горбатова отпуск для работы над романом. Неделю назад мы сговорились с ним, что сегодня вместе пообедаем, а до этого не будем ни встречаться, ни перезваниваться по телефону. Он собирается уехать работать в Донбасс, но до этого решил засесть и написать еще здесь, в Москве, очередную главу романа «Жили два товарища», которая, по его словам, уже придумана им от первой и до последней строчки. Мы и обедать‑то сговорились по случаю окончания этой главы.
Приезжаю. Горбатов открывает мне дверь только после нескольких звонков и, буркнув «Здравствуй!», шлепает обратно босыми ногами к себе в кабинет.
Когда я вхожу, он уже снова лежит на диване в своей привычной позе – кулак под голову, – и валяется так, кажется, с утра. Под подушку запихнута какая‑то толстая книга: ни на стуле у дивана, ни на столе ни единого листка с записями, ни малейших следов работы.
– Садись, – говорит он, не вынимая кулака из‑под головы и мрачно глядя на меня. – Куда мы поедем обедать и что будем есть?
– Что будем, то и будем, – говорю я.
– Ах да, я же забыл, что ты великий организатор. – По – прежнему не улыбаясь, он мрачно смотрит на меня.
Я спрашиваю: кончил ли он главу?
– Нет. Если точней, и не начинал.
– Почему?
– Потому что я не писатель.
– Ты все перепутал, – говорю я, стараясь перевести разговор в шутку. – Не писатель – это я. А ты как раз писатель.
– Я тоже не писатель, – говорит Горбатов.
– Когда ты это выяснил?
– В прошлый понедельник. Начал читать «Сагу о Форсайтах», никогда раньше по своей темноте не читал, начал сразу со второго тома, чтобы быстрее кончить, и, пока читал второй том, иногда еще казалось, что я все‑таки писатель. Но как только взялся за первый, окончательно понял – нет! Писать не умею. Он умеет, а я не умею.
– Дочитал?
– Дочитал.
– А когда все‑таки начнешь писать главу?
– Через неделю. Перед тем как начать, надо заново приучить себя к мысли, что придется учиться писать.
Он наконец садится на диване, надевает носки и, кряхтя, зашнуровывает туфли. Подходит к гардеробу и, надев поверх майки, в которой валялся, новенькую, довольно‑таки щегольскую рубашку, начинает выбирать галстук. Глаза у него становятся веселыми.
– Насколько серьезно услышанное мною? – спрашиваю я.
– Настолько серьезно, что за неделю не написал ни строчки. Не мог. Но сейчас так хочется есть и так живо представляю себе все, что буду есть, и могу так точно заранее описать все еще не съеденное, что подозреваю, я все‑таки писатель. Хотя бы натуралист!
Он надевает пальто, шляпу, берет в руку свою, привезенную им из Японии, толстую бамбуковую палку и, весело поблескивая очками, смеясь чему‑то, чего я еще не знаю, вдруг спрашивает меня:
– Ну, как ты думаешь, каким я представлял себе классического буржуа на заре своей юности? Толстый, лысый, в очках, в шляпе, с палкой и ездит в машине! Я!
Донбасс. Горбатов – один из тех, о ком мещане говорят: «Он не умеет устраиваться». Он и в самом деле человек не очень уютной жизни, и происходит это не от многолетней привычки к перемене мест, а от природного насмешливого нежелания думать на несущественные для него бытовые темы.
В 1950 году летом я приезжаю к нему в Донбасс, где он ежегодно по нескольку месяцев живет на окраине Донецка в маленьком сборном домике. И вдруг понимаю до конца то, о чем раньше лишь догадывался: настоящий дом Горбатова – здесь, в Донбассе. Он и сам здесь выглядит как‑то по – другому и, кажется, куда больше чувствует себя хозяином, чем в своей московской квартире.
Работая здесь над романом о своих земляках, Горбатов, немножко хитря, проверяя на слушателях будущие подробности еще не написанных глав, любит рассказывать, в особенности приезжим, вроде меня, людям о разных донбасских событиях и случаях, о разных шахтерских профессиях, и существующих, и уходящих, и уже ушедших из шахтерского быта; о коногонах и лампоносах, о стволовых и откачниках, о крепильщиках и запальщиках, о шахтных пожарах, о горноспасательной службе и тысяче других вещей. Шахтерский труд остается в его рассказах тяжелым и опасным, но всегда поэтичным. И любая шахтерская профессия несет у него свою собственную поэзию – иногда на глазах рождающуюся, как поэзия машиниста угольного комбайна, иногда на глазах умирающую, как поэзия коногона.
Идя рядом с тобой своей быстрой, немножко семенящей походкой по самой обыкновенной, ничем не примечательной бурой донецкой земле с выгоревшей, пожелтелой травой, Горбатов может вдруг резко остановиться, показать пальцем на эту землю и за какие‑нибудь пять минут дать почувствовать всю мощь и всю поэзию происходящего сейчас там, внизу, под землей, под тем самым местом, где он остановил тебя. Так, словно он видит сквозь землю, он может долго рассказывать со всеми подробностями, как разветвляются штреки, где пролегают лавы; может, показав на дом вдалеке, вскользь заметить, что под ним недавно начали новую проходку, а примерно под той вон трамвайной будкой тянутся уже выработанные до конца и заброшенные горизонты. Он умеет дать почувствовать, что там, внизу, под этой молчаливой, даже не вздрагивающей землей, всюду идет работа, всюду люди, всюду тот подземный, главный и самый поэтичный для него Донбасс.
Этим летом Горбатов не только сидит здесь над романом. Здесь еще и снимается по его сценарию фильм «Донецкие шахтеры», и в домике, где живет Горбатов, обычно после съемок собирается добрая половина съемочной группы. Сегодня до вечера еще далеко, но съемка почему‑то не состоялась, и несколько человек из киногруппы уже давно пришли и нетерпеливо ждут Горбатова, который с утра уехал в обком: в громоздкой махине киноэкспедиции в очередной раз что‑то заело, понадобилась срочная помощь, и он в очередной раз отправился за этой помощью.








