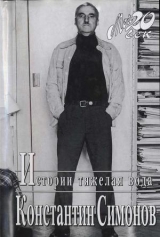
Текст книги "Истории тяжелая вода"
Автор книги: Константин Симонов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 40 страниц)
Я поблагодарил за беседу, ушел, так ничего нового для себя и не вынеся из нее, так и не поняв, что в ней не так и что мне с ней надо делать.
Еще какое‑то время я думал над переработкой повести, над тем, что же поправить в ней, сформулировал даже на случай разных, несомненно, предстоявших объяснений на этот счет какую‑то более или менее связную, во всяком случае более связную, чем в статье, цепь критических замечаний, над которыми мне предстоит думать, но на самом деле думать больше над этим не мог. Твердо для себя решив и дав себе слово по крайней мере пять лет не заглядывать в повесть, не мучиться этим, написал в издательство, где она должна была выходить, что прошу расторгнуть со мной договор, так как печатать «Дым отечества» не буду.
Через некоторое время после беседы со Ждановым меня пригласил к себе его помощник Кузнецов и спросил меня, как у меня обстоят дела с тою пьесою, с материалами для которой он меня ознакомил весной после нашей встречи с товарищем Сталиным. Нуждаюсь ли я еще в какой‑нибудь помощи, кроме той, которая мне была уже предоставлена, когда меня познакомили с материалами.
До этого я был так оглушен всем, происшедшим с «Дымом отечества» и фадеевской «Молодой гвардией» – это тоже было тогда немалое потрясение, – что мне не приходило в голову ставить в связь напечатанный мною «Дым отечества» с не написанной мною пьесой. Только тут, сидя у Кузнецова, я понял, что, наверное, такая связь существует, что, помимо всего прочего, от меня вовсе не ждали этой повести, а ждали той пьесы, написание которой числилось как бы за мною с того самого дня, когда мы были у Сталина. Настроение после «Дыма отечества» у меня было отвратительное, тяжелое – хуже не бывает, а в таких случаях – я это уже знал за собой – меня привести в равновесие и поставить на ноги могло только одно – работа, чем немедленней, тем лучше. И я вдруг, ни минуты не размышляя, сказал Кузнецову, что пьесу я писать буду, что сажусь за нее в ближайшие дни и что помощь мне нужна, нужен серьезный консультант, крупный ученый, который мог бы ввести меня в курс некоторых микробиологических проблем, с которыми связано будет действие пьесы.
Короче говоря, на следующий день я был у министра здравоохранения Ефима Ивановича Смирнова, еще через два дня встретился с академиком Здродовским, который и стал моим консультантом при работе над пьесою «Чужая тень».
Академик медицинских наук, профессор Павел Феликсович Здродовский был одним из крупнейших наших микробиологов старшего поколения. Среди его заслуг перед наукой и людьми была выработка вакцины против брюшного тифа, применение которой сыграло большую роль в годы Великой Отечественной войны, да и после нее. Здродовский, разумеется, не несет ни малейшей ответственности за сочиненную мною пьесу, за ее всецело авторскую, не имеющую к нему отношения концепцию. Предмет, по которому я с ним консультировался, был совершенно иного рода. По замыслу, возникшему у меня, как только я стал думать о пьесе, главный герой ее, человек субъективно абсолютно честный, но при этом честолюбивый и склонный придавать немалое значение паблисити своих научных достижений за границей, работает над микробиологической проблемой, которая как палка о двух концах: с одной стороны, должна привести к гуманнейшим результатам, которые он и имеет в виду, а с другой стороны, может быть использована в опасных и человеконенавистнических целях. И именно этого, давая данные о своем открытии за границу, он и не учитывает. Это ему просто не приходит в голову – возможность такого использования его открытия.
Идея эта была целиком умозрительная, и родилась она не от знания или понимания каких‑либо проблем микробиологии, а просто от того, что я хотел написать пьесу не о негодяе или о предателе, а о субъективно честном человеке, который под влиянием всего того, что мы вкупе называли тогда низкопоклонством перед заграницей, неожиданно ставит себя в положение потенциального предателя интересов своей страны. Так выглядела умозрительная концепция. Изложив ее Здродовскому, я стал допытываться у него, может ли в микробиологической науке, в какой‑то ее отрасли, практически сложиться такой ход исследования проблемы, при котором она в разных аспектах решения может приносить и обнадеживающие человечество результаты, и результаты угрожающие.
После нескольких дней размышлений и двух или трех разговоров Здродовский подсказал мне с чисто научной точки зрения ту реально возможную основу, на которой я в принципе мог строить пьесу. Речь шла о двух этапах исследовательской работы над надежной вакциной для таких почти неизлечимых болезней, как, скажем, чума. На первом этапе исследования – выработка такой силы препарата, который концентрировал бы в себе всю мощь этой болезни, был бы, так сказать, производным ее в геометрической прогрессии. И только на следующем, втором этапе – на основе этого убийственной силы препарата его обратное ослабление, тоже в геометрической прогрессии, в итоге доводимое до производства вакцины, предохраняющей от заболевания, скажем, чумою. Если отделить первую часть исследования от второй, методику создания пика воздействия препарата от методики ее последующего ослабления и множественного превращения в запасы вакцины, то данные, полученные в результате этого первого этапа работы, в принципе могли быть использованы людьми, заботящимися не о создании вакцины, а о создании оружия бактериологической войны. Вот, собственно, и вся та теоретическая подоснова конфликта, который мог возникнуть в пьесе и который меня интересовал.
Выяснив для себя эту чисто теоретическую сторону дела, я спустя еще несколько дней поехал в Саратов, в микробиологический институт, уже давно занимавшийся работой над созданием и совершенствованием вакцин против туляремии и чумы. Поехал уже не для того, чтобы обсуждать там проблемы, которые я собирался поставить в пьесе, а для того, чтобы хоть немножко представить себе тот мир людей, ту институтскую научную обстановку, в которой должно было происходить действие туманной мною пьесы. Учитывая ее тему, разумеется, я и не помышлял искать тут каких‑нибудь прототипов или запасаться наблюдениями непосредственно для пьесы. Я просто хотел почувствовать атмосферу примерно такого научного учреждения, о котором должна была идти речь в пьесе.
Поездка оказалась интересной, я встретился там, в институте, с несколькими превосходными людьми, подлинные рассказы которых о своей, порой носившей и опасные, и драматические черты, работе могли бы стать основой для реальной пьесы о реальных людях нашей науки, а не для того дурного и печально для меня памятного сочинения, которым в итоге оказалась написанная мною в начале сорок восьмого года драма «Чужая тень».
Писал я ее без дурных намерений, писал мучительно, насильственно, заставляя себя верить в необходимость того, что я делаю. А особенно мучился потому, что зерно правды, которое воистину присутствовало в словах Сталина о необходимости уничтожить в себе дух самоуничижения, уже в полной мере присутствовало в написанной вольно, от души, может быть, в чем‑то неумело, но с абсолютной искренностью и раскованностью повести «Дым отечества». В «Чужую тень» это зерно правды было притащено мною искусственно, окружено искусственно созданными обстоятельствами и в итоге забито такими сорняками, что я сейчас только с большим насилием над собою заставил себя перечесть эту стыдную для меня как для писателя конъюнктурную пьесу, которую я не должен был тогда, несмотря ни на что, писать, что бы ни было, не должен был. И в конце концов мог не написать, могло хватить характера воспротивиться этому самоизнасилованию. Сейчас, через тридцать с лишним лет, стыдно, что не хватило. За то, что в сорок первом году написал стихи «Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?», нисколько не стыдно, потому что это был крик души, пусть крик души человека, в чем‑то тогда зрячего, а в чем‑то слепого, если говорить об адресате стихотворения, но все‑таки крик души. А за «Чужую тень» стыдно. И нисколько не жаль себя за свои тогдашние самомучения, связанные с нею. Так мне и надо было.
Чтоб уже не возвращаться к этой невеселой для меня теме «Чужой тени», несколько забегая вперед, скажу тут о ее последующей трагикомической истории.
Написав эту пьесу весной сорок восьмого года, я сделал то, что не делал никогда ни до, ни после этого. Не отдавая ее ни в печать, ни в театры, послал экземпляр пьесы Жданову и написал короткую записку помощнику Сталина Поскребышеву, что я закончил пьесу, о возможности написания которой шла речь в мае прошлого года во время встречи писателей с товарищем Сталиным, и экземпляр ее направил Жданову.
Поступил я именно так, вопреки своему обыкновению никуда ничего не посылать, потому что после своего разговора с Кузнецовым знал, что написание мною этой пьесы воспринимается как выполнение взятого на себя поручения или задания – не знаю уж, как лучше сказать, что будет ближе к тогдашней моей мысленной терминологии, – и, стало быть, то, что я сделал, следует представить на прочтение туда, где мне поручили это сделать. Такова была логика этого поступка, расходившаяся с моей обычной логикой: написал – неси в редакцию. Куда же еще?
Пьеса была послана Жданову не то в апреле, не то в мае сорок восьмого года. Месяцев восемь о ней не было ни слуху ни духу.
Я не напоминал о ней, не хотел, да и не считал возможным. Жданов заболел, потом умер. Я бросил думать о пьесе, обрубил все связанное с нею в памяти еще раньше, еще летом. Все время, остававшееся у меня свободным от работы в Союзе писателей и в «Новом мире», занимался новой книгой стихов «Друзья и враги», которую писал с таким же или почти с таким же увлечением, как «Дым отечества». Чем дальше, тем сильнее было ощущение, что я как бы перешагнул через эту пьесу. Шагнул прямо из «Дыма отечества» в книгу стихов, и бог с ней, с этой «Чужой тенью».
Но в один из январских дней сорок девятого года, когда я вечером сидел и работал в «Новом мире», неожиданно вошел помощник редактора «Известий» – «Новый мир» тогда помещался во флигеле, примыкавшем к редакции «Известий», – и сказал, что к ним в редакцию звонил Поскребышев и передал, чтоб я сейчас же позвонил товарищу Сталину. Вот номер, по которому я должен позвонить. Я было взялся за телефон, но, сообразив, что это номер «вертушки», которой у меня в «Новом мире» не было, пошел в «Известия». Редактора «Известий» то ли не было в кабинете, то ли из деликатности он вышел – я оказался один на один с «вертушкой». Я снял трубку и набрал номер – не помню уже сейчас, что сказал Сталин: «Сталин слушает» или «Слушаю», что‑то одно из двух. Я поздоровался и сказал, что это звонит Симонов.
Дальнейший разговор с одним пропуском, который я дополню, я записал, вернувшись в редакцию «Нового мира». Записал, думаю, абсолютно точно. Вернее, это был не разговор, а просто то, что считал нужным сообщить мне Сталин, прочитавший «Чужую тень». Вот она, эта запись:
«Я прочел вашу пьесу «Чужая тень». По моему мнению, пьеса хорошая, но есть один вопрос, который освещен неправильно и который надо решить и исправить. Трубников считает, что лаборатория – это его личная собственность. Это неверная точка зрения. Работники лаборатории считают, что по праву вложенного ими труда лаборатория является их собственностью. Это тоже неверная точка зрения. Лаборатория является собственностью народа и правительства. А у вас правительство не принимает в пьесе никакого участия, действуют только научные работники. А ведь вопрос идет о секрете большой государственной важности. Я думаю, что после того, как Макеев едет в Москву, после того, как карьерист Окунев кончает самоубийством, правительство не может не вмешаться в этот вопрос, а оно у вас не вмешивается. Это неправильно. По – моему, в конце надо сделать так, чтобы Макеев, приехав из Москвы в лабораторию и разговаривая в присутствии всех с Трубниковым, сказал, что был у министра здравоохранения, что министр докладывал вопрос правительству и правительство обязало его, несмотря на все ошибки Трубникова, сохранить Трубникова в лаборатории и обязало передать Трубникову, что правительство, несмотря на все совершенное им, не сомневается в его порядочности и не сомневается в способности его довести до конца начатое им дело. Так, я думаю, вам нужно это исправить. Как это практически сделать, вы знаете сами. Когда исправите, то пьесу надо будет пустить».
После этого, помнится, было не записанное мною «До свидания», и разговор на этом кончился.
Пропуск в начале этой записи сделан был мною тогда из соображений такта. С записью разговора все могло случиться, вдруг мне придется ее кому‑то показать, хотя в принципе я этого не собирался делать, но все‑таки могло случиться. А Сталин в начале разговора, сказав, что он прочел мою пьесу, довольно раздраженно добавил:
– Только вчера получил и прочел, полгода не сообщали, что она там у них лежит, и вообще… – тут он остановился, видимо, решив не продолжать эту тему, вернувшись к разговору о самой пьесе, записанному мною.
Я подумал тогда и думаю так и сейчас, что Жданов или по каким‑то причинам, ему ведомым, или по не ведомым мне сложившимся обстоятельствам – а обстоятельства в последние месяцы жизни у него, кажется, были сложные – не говорил или не имел случая сказать Сталину о том, что получил на прочтение мою пьесу, или не считал нужным это делать. Надо полагать, что пьеса попала к Сталину после того, как ему доложили об оставшемся после смерти Жданова архиве и представили опись этого архива. И в тех словах, которые я слышал по телефону, присутствовало раздражение – не знаю, на покойного ли Жданова, может, и на Поскребышева, который знал о моей пьесе, но тоже не счел нужным сказать о том, что она была мною послана.
Я привел эту незаписанную часть разговора, потому что в ней присутствуют тоже некоторые черточки для характеристики Сталина – и в его раздражении на то, что ему сразу не доложили о чем‑то, к чему он когда‑то имел прямое касательство, и в его словах: «Вчера получил и прочел». Записав сразу содержание разговора и перечитав его два или три раза, я понял, что, во – первых, в нем изложено не просто мнение о пьесе, а почти текстуальная программа переделки ее финала и, во – вторых, именно это, не откладывая в долгий ящик, мне предстоит сделать.
Надо сказать, что при той жесткости постановки вопроса о низкопоклонстве и преклонении перед заграницей, которая тогда существовала, я сам бы не решился закончить пьесу тем, что предложил Сталин. Кончалась она у меня по – другому, гораздо хуже для героя пьесы профессора Трубникова, который, по своему честолюбию, соединенному с доверчивостью, чуть было не сделал достоянием тех, кому это вовсе не следовало знать, научный секрет государственной важности. Над ним в конце пьесы висел дамоклов меч, и оставалось неизвестным, чем все это для него кончится. Предложение Сталина, видимо, отражало какие‑то складывавшиеся у него в тот момент настроения; говоря «правительство», он в третьем лице разумел себя и таким образом выносил по отношению к Трубникову то мягкое и полное доверия решение, которого, казалось бы, трудно было ожидать от Сталина, тем более в связи с этой проблемой.
Откровенно говоря, такой поворот в финале пьесы был мне по душе. Раз сам Сталин прощал Трубникова в пьесе за то, о чем он говорил, когда дело касалось реальной жизни, с такой нетерпимостью, я тем более готов был изменить к лучшему судьбу своего героя. Мне даже почудилось за этим предложением Сталина, за этим разговором с ним какое‑то предстоящее смягчение крайностей в том вопросе, который рассматривался в пьесе. Крайностей, которые чем дальше, тем больше беспокоили совесть многих людей нашего поколения, в том числе и мою совесть.
Увы, почти в те же самые дни мы получили наглядное подтверждение, что это не так. Но обо всем этом я расскажу позже, а сейчас о том трагикомическом аккорде, которым закончилась история с моей пьесой «Чужая тень».
Я сделал в финале пьесы исходившие от Сталина поправки, которые, повторяю, были мне по душе, сделал их буквально за один день, пьесу успели напечатать в первом, январском номере журнала «Знамя», после чего она была вместе с другими пьесами выдвинута, уже не помню кем – комиссией по драматургии или журналом, – на Сталинскую премию. Этого, будучи в отлучке, я не знал и попал прямо на секретариат Союза писателей, на котором предварительно, до начала заседания Комитета по Сталинским премиям, обсуждались произведения, выдвинутые теми или другими литературными организациями на Сталинскую премию.
Среди других выдвинутых вещей я увидел и название своей пьесы. Не мое дело было что бы то ни было говорить на эту тему.
В дальнейшем я иногда набирался решимости и писал, как это было, скажем, с романом «Товарищи по оружию», что прошу снять роман с обсуждения. Но в данном случае при сложившихся обстоятельствах я не мог говорить ни за свою пьесу, ни против нее, мне оставалось только молчать. А между тем некоторые из присутствовавших на секретариате моих коллег стали довольно резко выступать не столько против пьесы в целом, сколько против ее неправильного, слишком мягкого, слишком либерального, по чьему‑то выражению, даже чуть ли не капитулянтского конца. Одни говорили, что Трубников непременно должен быть наказан на глазах у зрителя; другие предлагали сделать так, как у меня и было вначале, – чтобы над ним в финале продолжал висеть дамоклов меч будущего возмездия. Но с тем, чтоб правительство его простило, выступавшие были решительно не согласны и считали, что такой конец пьесы никак не позволяет выдвигать ее на Сталинскую премию. Я сидел и молчал, чувствуя всю глупость и собственного, и чужого положения. О своем разговоре по телефону со Сталиным по поводу пьесы я никому до тех пор не говорил, считал для себя неловким ссылаться на это и даже не видел за собой такого права. В журнале и в театре, куда я передал пьесу для постановки, я сказал только, что если возникнут какие‑либо препятствия, то пусть обратятся по этому вопросу в ЦК и поступят соответственно тому, что там будет сказано. Но препятствий не возникло, и в ЦК никому обращаться не пришлось. Затруднительное положение возникло лишь в этот момент на секретариате. Затруднительное и даже, называя вещи своими именами, довольно глупое. Я сидел и молча слушал, как мои коллеги бичевали либерализм Сталина, проявившийся в финале моей пьесы. Очевидно, ждали моих возражений, но их не последовало. Удивленный моим молчанием, Фадеев даже спросил меня: «Ну, а что ты скажешь?» Я сказал, что, поскольку речь идет о моей пьесе, мне, наверное, ничего говорить не следует и я ничего говорить не буду.
Тем дело и закончилось. На том этапе, который представлял собой секретариат Союза писателей, пьеса была отведена с обсуждения. Но впереди были другие этапы, и Фадееву предстояло этим заниматься еще и как председателю Комитета по Сталинским премиям. Было бы неправильным и некрасивым с моей стороны не рассказать доверительно хотя бы ему одному, с глазу на глаз, о парадоксальности сложившейся ситуации. В тот же день, через несколько часов, поймав его одного, я это и сделал. Первой реакцией Фадеева был безудержный хохот, он долго и заливисто хохотал и сразу после этого, без малейшей паузы, стал совершенно серьезен.
– Почему ты заранее не сказал, почему поставил нас всех в такое глупое положение?
Я довольно резонно ответил на это, что, во – первых, Сталин не поручал мне рассказывать об этом телефонном разговоре и о том, что финал пьесы переделан именно так, как он предложил, в нескольких репликах даже текстуально точно; во – вторых, распространяться об этом и даже намекать на это мне казалось некрасивым с моей стороны и даже не очень приличным; а в – третьих, откуда я мог заранее знать, что на секретариате в несколько голосов сразу так кинутся на этот финал. Я никак не ожидал этого, наоборот, он нравился мне самому, и мне казалось, что он понравится и другим.
– Да, посадил ты нас в лужу, – снова заливисто расхохотался Фадеев и снова, сразу став серьезным, сказал: – Другой раз ты должен хотя бы мне сразу говорить о таких вещах. А я, в свою очередь, – тебе.
На этом и кончился наш тогдашний разговор с то хохотавшим, то злившимся на меня Фадеевым.
В Москве «Чужую тень» поставил МХАТ, в Ленинграде – Большой драматический. Несмотря на все отрицательные стороны пьесы – ее грубую прямолинейность, ложную патетику, фальшивые ноты в рассуждениях о науке и низкопоклонстве в одних местах, ряд психологических натяжек в других, Ливанов и Болдуман силой своих незаурядных актерских дарований как‑то вытащили свои роли, сыграли их, совершив почти невозможное. То же самое можно сказать и о Полицеймако в Большом драматическом театре.
Пьесу и спектакли густо хвалили в печати, ей была присуждена Сталинская премия, но все это среди многих происходивших в том сорок девятом году тяжелых событий было уже для меня как‑то безрадостно или почти безрадостно.
А теперь, закончив эту историю, вернусь примерно на год назад, к 31 марта 1948 года, когда происходила вторая, хотя и не полно, с пропусками, но все‑таки записанная мною встреча со Сталиным. Но прежде чем привести свои записи, несколько слов еще об одном заседании, на котором я присутствовал. Было это заседание в июне сорок седьмого года, недели через две после того, как Сталин принимал нас по литературным вопросам. Записи об этом заседании у меня не осталось, очевидно потому, что оно происходило вскоре после разговора Сталина с нами и ничего существенного к этому разговору не добавило. Как я сейчас вспоминаю, о литературе на этом заседании почти не говорилось, во всяком случае, ничего из говорившегося не запомнилось. Заседание было более официальное, более многолюдное, пожалуй, более короткое, чем все другое, на которых я присутствовал. На этом заседании одновременно обсуждались и премии по науке и технике, и премии по литературе и искусству. Впоследствии они всегда обсуждались отдельно. Докладчиком от ЦК по литературе и искусству был Жданов, по науке и технике – Вознесенский.
Одно из воспоминаний, связанных у меня с этим заседанием, как раз о Вознесенском. Это было бы неправдой, если б я сказал, что этот человек, которого я видел впервые, мне понравился, как говорится, лег на душу. Было другое: он запомнился мне не потому, что понравился, а потому, что чем‑то удивил меня, видимо тем, как резковато и вольно он говорил, с какой твердостью объяснял, отвечая на вопросы Сталина, разные изменения, по тем или иным причинам внесенные в первоначальные решения Комитета по премиям в области науки и техники, как несколько раз настаивал на своей точке зрения – решительно и резковато. Словом, в том, как он себя вел там, был некий диссонанс с тональностями того, что произносилось другими, – и это мне запомнилось.
Что же до литературы и искусства, то запомнилась история, внешне вполне юмористическая, но, если можно так выразиться, обоюдно, с двух сторон оперенная некоторой циничностью. Обсуждался фильм «Адмирал Нахимов». Когда Жданов как председатель комиссии доложил о присуждении этому фильму первой премии и перечислил всех, кому предполагалось дать премию за фильм, Сталин спросил его, всё ли по этому фильму. Допускаю, что спросил, уже заранее зная, что нет, не всё, и заранее забавляясь тем, чему предстояло произойти.
– Нет, не всё, – сказал Жданов.
– Что?
– Вот есть письмо, товарищ Сталин.
– От кого?
Жданов назвал имя очень известного и очень хорошего актера.
– Что он пишет?
Он пишет, сказал Жданов, что будет политически не совсем правильно, если его не включат в число актеров, премированных по этому фильму, поскольку он играет роль турецкого паши, нашего главного противника, и если ему не дадут премии, то это может выглядеть как неправильная оценка роли нашего противника в фильме, искажение соотношения сил.
Не поручусь за точность слов, но примерно так изложил это письмо Жданов.
Сталин усмехнулся и, продолжая усмехаться, спросил:
– Хочет получить премию, товарищ Жданов?
– Хочет, товарищ Сталин.
– Очень хочет?
– Очень хочет.
– Очень просит?
– Очень просит.
– Ну раз так хочет, так просит, надо дать человеку премию, – все еще продолжая усмехаться, сказал Сталин. И, став вдруг серьезным, добавил: – А вот тот актер, который играет матроса Кошку, не просил премии?
– Не просил, товарищ Сталин.
– Но он тоже хорошо играет, только не просит. Ну человек не просит, а мы дадим и ему, как вы думаете?
За исключением изложения той просьбы, которую пересказал Жданов, в дальнейшем помню все слово в слово и готов поручиться за точность сказанного, но комментировать это охоты нет.
Пожалуй, следует, поскольку я упомянул здесь Вознесенского, как известно, погибшего два с лишним года спустя – ни за что ни про что по так называемому «Ленинградскому делу», привести здесь одно связанное с Вознесенским воспоминание – не мое.
Тридцатью годами позже того заседания, на котором поведение Вознесенского привлекло мое внимание, один из тогдашних министров – Иван Владимирович Ковалев, с которым мы оказались в одной больнице между чахлыми, недавно посаженными деревцами, вспомнил, как, в качестве министра железнодорожного транспорта сопровождая Сталина в одну из его первых послевоенных поездок, по времени относившуюся примерно к тем же годам, о которых у меня шла речь, услышал от Сталина одобрительные слова о Вознесенском:
– Вот Вознесенский, чем он отличается в положительную сторону от других заведующих, – как объяснил мне Ковалев, Сталин иногда так иронически «заведующими» называл членов Политбюро, курировавших деятельность нескольких подведомственных им министерств. – Другие заведующие, если у них есть между собой разногласия, стараются сначала согласовать между собой разногласия, а потом уже в согласованном виде довести до моего сведения. Даже если остаются несогласными друг с другом, все равно согласовывают на бумаге и приносят согласованное. А Вознесенский, если не согласен, не соглашается согласовывать на бумаге. Входит ко мне с возражениями, с разногласиями. Они понимают, что я не могу все знать, и хотят сделать из меня факсимиле. Я не могу все знать. Я обращаю внимание на разногласия, на возражения, разбираюсь, почему они возникли, в чем дело. А они прячут это от меня. Проголосуют и спрячут, чтоб я поставил факсимиле. Хотят сделать из меня факсимиле. Вот почему я предпочитаю их согласованиям возражения Вознесенского.
Так, по воспоминаниям Ковалева, говорил тогда, где‑то за год или за два до того, как уничтожить его, Сталин о Вознесенском и о стиле работы Вознесенского, который ему, Сталину, тогда нравился.
Слушать это спустя тридцать лет было страшновато.
А сейчас о той встрече, которая записана первого апреля сорок восьмого года, на следующий день после того, как она произошла. Вот эта запись с некоторыми сделанными мною тогда же комментариями, а все дополнения, которые сейчас мне кажутся необходимыми, я сделаю после того, как приведу всю тогдашнюю запись со всеми тогдашними комментариями.
Вот она, эта запись:
«Хочу по горячим следам записать основное, что говорилось по вопросам литературы в связи со вчерашним, 31 марта 1948 года, обсуждением Сталинских премий.
К Сталину на этот раз был вызван Фадеев и редакторы толстых журналов – Панферов, Вишневский, я и Друзин. В ходе обсуждения выдвинутых на премии вещей Сталин заговорил о том, что количество премий – элемент формальный и если появилось достойных премии произведений больше, чем установлено премий, то можно число премий и увеличить. Это и было тут же практически сделано, в том числе за счет введения не существовавших ранее премий третьей степени.
Свою мысль о том, что формальные соображения не должны быть решающими, Сталин несколько раз повторил и потом, в ходе заседания, и вообще в том, как он вел обсуждение, совершенно ясно проявилась тенденция – расширить и круг обсуждавшихся произведений, и круг обсуждаемых авторов, и если окажется достаточное количество заслуживающих внимания вещей, то премировать их пошире. Думаю, что, наверное, в связи с расширением этого круга и были впервые на такое заседание вызваны редакторы всех толстых журналов.
При обсуждении ряда вещей Сталин высказывал соображения, – имеющие для нас общелитературное значение. Когда обсуждали «Бурю» Эренбурга, один из присутствовавших (докладывавший от комиссии ЦК по премиям в области литературы и искусства Д. Т. Шепилов), объясняя, почему комиссия предложила изменить решение Комитета и дать роману премию не первой, а второй степени, стал говорить о недостатках «Бури», считая главным недостатком книги то, что французы изображены в ней лучше русских.
Сталин возразил:
– А разве это так? Разве французы изображены в романе лучше русских? Верно ли это?
Тут он остановился, ожидая, когда выскажутся другие присутствовавшие на заседании. Мнения говоривших, расходясь друг с другом в других пунктах, в большинстве случаев совпали в том, что русские выведены в романе сильно и что когда изображается заграница, Франция, то там показаны и любовь французских партизан и коммунистов к Советскому Союзу, показана и роль побед Советского Союза и в сознании этих людей, и в их работе, а также в образе Медведя показана активная роль русских советских людей, попавших в условия борьбы с фашистами в рядах французского Сопротивления. Подождав, пока все выскажутся, Сталин, в общем, поддержал эти соображения, сказав:
– Нет, по – моему, тоже неверно было бы сказать, что французы изображены в романе Эренбурга сильнее русских, – потом, помолчав, задумчиво добавил: – Может быть, Эренбург лучше знает Францию, это может быть. У него есть, конечно, недостатки, он пишет неровно, иногда торопится, но «Буря» – большая вещь. А люди, что ж, люди у него показаны средние. Есть писатели, которые не показывают больших людей, показывают средних, рядовых людей. К таким писателям принадлежит Эренбург. – Сталин снова помолчал и снова добавил: – У него хорошо показано в романе, как люди с недостатками, люди мелкие, порой даже дурные люди в ходе войны нашли себя, изменились, стали другими. И хорошо, что это показано».
Далее в моей записи стоит пробел и заголовок: «Несколько слов примечаний». Привожу их, напоминая еще раз, что примечания тогдашние:
«Это не было достаточно прямо сказано, но лично у меня было ощущение двух разных пониманий недостатков Эренбурга, которые выявились в этом разговоре. В речи того, кто первым говорил при обсуждении романа, получила свое отражение критика, уже прозвучавшая в нашей печати. Указывая на недостатки романа Эренбурга в изображении советских людей, она взяла крен в сторону эстетическую и морально – психологическую. Говорилось о том, что эти люди показаны хуже, слабее французов, во – первых, с точки зрения того, как они показаны, и во – вторых, с точки зрения того, как изображены их душевные изгибы, психологические нюансы, тонкости и так далее. Именно с этой точки зрения критики пришли к выводу, что французы в романе Эренбурга показаны сильнее, а русские – слабее.








