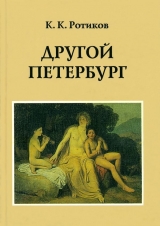
Текст книги "Другой Петербург"
Автор книги: Константин Ротиков
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 33 страниц)
Лучшим местом для выставок в Петербурге был музей Штиглица (Соляной переулок, д. 15). Традиции восходят еще ко второй половине прошлого века, когда в Соляном городке проходили Всероссийские промышленные и сельскохозяйственные выставки, но полностью преобразился этот комплекс с устройством – на средства барона Штиглица – художественного училища с музеем при нем.
Феноменальный богач, барон Александр Людвигович Штиглиц в 52 года неожиданно закрыл все свои дела – железнодорожные концессии, банки, фабрики – и удалился на покой, тратя огромные суммы на поощрение искусств и благотворительность. Училищу «технического рисования», основанному им в Соляном городке, Штиглиц завещал капитал, на проценты с которого оно существовало. Пять с половиной миллионов пошло на сооружение музея, здание которого само похоже на драгоценный музейный экспонат. Строилось оно в 1885–1895 годах по проекту Максимилиана Евгеньевича Месмахера. Зодчему, должно быть, доставляло искреннюю радость сочинение затейливых орнаментальных композиций, лепка крупных объемов и кропотливая отделка мельчайших деталей; работа в настоящем материале: камне, бронзе, майолике, – и это ощущение праздника, пиршества, смакования архитектурной гастрономии передается нам, гуляющим по этим залам и фантастическим лестницам (хоть, увы, заставлены они сейчас всякой дрянью, студенческими поделками, тогда как Штиглиц покупал для этого музея голландские шпалеры, ренессансную мебель, венецианское стекло… многое разворовано, кое-что осталось в Эрмитаже).
Вообще Соляной переулок, если бы привести его в порядок: отремонтировать фасады, почистить фонари, хорошо вымостить, запретить стоянку автомашин, – мог бы стать уютнейшим уголком Петербурга, напоминанием, что это все-таки европейский город. Не только во времена Екатерины и Александра Павловича, но и в течение всего прошлого и начала нынешнего века строился он с шиком и размахом, не уступающим, скажем, Берлину и Вене.
В большом зале со стеклянным потолком музея Штиглица открылась в 1897 году первая знаменитая дягилевская выставка: немецких и английских акварелистов. В дальнейшем здесь устраивали свои выставки и «Мир искусства», и «Старые Годы». Стучали молотки, отпиливался багет, картины вставлялись в рамы, развешивались по гвоздикам. Врангель со своим моноклем всюду мелькал, заламывая руки и распекая нерасторопных монтировщиков (из учащейся молодежи набирали, вероятно, бестолковых прелестников).
Были в Петербурге и другие залы для художественных экспозиций, и особенно замечательный скандал, на которые Врангель был мастер, произошел в залах Общества поощрения художеств на Большой Морской, д. 38 (встречался уже адресок). В 1908 году Николай Николаевич затеял грандиозную выставку старой европейской живописи из частных петербургских собраний. Чего тогда только не было в квартирах и особняках столичных коллекционеров! Эль Греко, Симоне Мартини, Перуджино, Леонардо (да! из частного собрания архитектора Леонтия Николаевича Бенуа, получившего «Мадонну» Леонардо да Винчи в приданое за женой, Марьей Александровной Сапожниковой; потому и называется картина «Мадонна Бенуа»; в Эрмитаж приобретена лишь в 1914 году). Врангель, «генеральный комиссар» выставки, собрал 463 полотна старых мастеров. Выставка должна была стать событием.
10 ноября в залах на Морской прошло открытие – как бывало тогда нередко, в присутствии Государя и великих князей, но после отбытия высочайших особ публику попросили на выход, и выставку закрыли навсегда. Причиной называли неполадки с электроосвещением. Что бы, казалось, отремонтировать электричество и вновь открыться, но нет. Картины, так и не показанные широкой публике, вернулись к своим владельцам (а многим и не суждено уж было быть показанными в России: они нашли новых хозяев, конфискованные и проданные большевиками за трактора американским благодетелям).
В судьбе выставки сыграл злую шутку африканский характер генерального комиссара. Расстроенный, обозленный, издерганный, он – как дальний родственник его, подзуживаемый Геккерном, – заартачился и, подскочив к почтенному старцу, распоряжавшемуся в Обществе поощрения, Михаилу Петровичу Боткину, отвесил ему пощечину. Поступок, конечно, безобразный и не находящий видимого объяснения. М. П. Боткин принадлежал к влиятельному роду московских чаеторговцев, из которого вышло немало знаменитых людей, братья его – великий клиницист Сергей Петрович Боткин (все знают «боткинские бараки»), Василий Петрович, либерал 1840-х годов, друг Белинского. Михаил Петрович был художником, но больше известен, как коллекционер. В собрании Боткина находилось, между прочим, огромное число работ Александра Иванова. Но он был женат, с двумя дочками, да уж и лет ему в это время было за семьдесят, так что, тем более, ничего не понятно. Безумное разбирательство по этому поводу кончилось тем, что Врангель отсидел два месяца в тюрьме и вынужден был покинуть Эрмитаж. Но хорошо хоть, что материалы этой выставки вошли в специальный выпуск «Старых годов», не пропав, таким образом, втуне.
Рыночная (Гангутская), д. 16 – впечатляющий образец архитектуры позднего модерна, с переходом в неоклассику, весь в керамической плитке, с изысканными коваными решетками навесов и балконов (1910, арх. В. В. Шауб). В этом доме в 1912–1915 годах жил со своей Ольгой Афанасьевной Сергей Юрьевич Судейкин. Вместе со старой своей любовью (см. главу 13) поселился Михаил Алексеевич Кузмин, обычно живший на одной квартире с родственниками или близкими людьми. Снимать отдельную квартиру ему никогда не хватало денег.
Здесь самое место вспомнить «Поэму без героя» Анны Ахматовой. «Петербургская кукла, актерка», под которой подразумевается Ольга Глебова-Судейкина, влюбляет в себя «драгунского корнета со стихами». Поэт-корнет, увидев любовницу с другим, стреляется на ее лестничной площадке. Нечто подобное было в действительности, но реальная жизнь оказалась богаче довольно шаблонной схемы любовного треугольника, из которого Анна Андреевна собиралась сделать балетное либретто.
«Драгунский корнет» – это Всеволод Гаврилович Князев, сын литератора, преподававшего эстетику в училище Штиглица. В 1913 году ему исполнилось двадцать два, он был гусарским юнкером, а не драгунским корнетом, но это неважно. С восемнадцати лет уже захаживал в редакцию «Аполлона» и познакомился с Кузминым (вместе, как помнит читатель, гуляли с Палладой Педди-Кабецкой). Фотографии не могут обычно передать, что мы видим в любимом человеке; да еще эта склонность тогдашних молодых людей к тонким прямым проборам (они умащивали чем-то волосы) – по фотографиям Всеволод ничем решительно не примечателен.
Но – гусар, учился в кавалерийском училище, вышел вольноопределяющимся в Иркутский полк, квартировавший в Риге. Нрава, по-видимому, довольно покладистого. Стихи сочинял, вызывающие некоторое смущение очевидной подражательностью, доходящей до пародийности. Но любовь великодушна. Кузмин, роман с которым продолжался года три, предложил издать совместный сборник под названием «Пример влюбленным. Стихи для немногих». Рисовать обложку должен был Судейкин. Вот как раз на Рыночной и шла творческая работа.
Гусар Князев был, что называется, универсал (или, прибегая к легкому арго, «комбайн»). Ревновать любимого всегда представляет некоторую отраду, и Михаил Алексеевич часто мучался ревностью по отношению к таким юношам, единственное назначение которых состоит в утешении многих. Понятие так называемой «бисексуальности», придуманное для оправдания мелкого бытового разврата, не чуждо было ряду молодых людей в окружении Кузмина. Измены и разлуки перемежались радостными встречами. В сентябре 1912 года Кузмин навестил любовника в Риге («счастливый сон ли сладко снится, не грежу ли я наяву, но кроет кровли черепица, я вижу, чувствую, живу»). Вместе съездили в Митаву, где жил давний знакомец (помните, дуэль Гумилева с Волошиным) Ганс фон Гюнтер. Тут что-то произошло. Уехав из Риги, Кузмин с Князевым больше не встречался, «Пример влюбленным» был отменен. Русская поэзия от этого не пострадала: все, что думал по этому поводу Кузмин, он отразил в стихах «Осенний май», а Князев нам мало интересен (впрочем, один его сборник был посмертно издан родителями).
Мать Всеволода вернула Кузмину его книги, подаренные другу. В январе 1913 года Князев был в отпуске в Петербурге и заглянул на Рыночную. Тут, вероятно, и отдалась ему жена Судейкина – на диване Кузмина, как возмущенно констатировал в дневнике поэт. Для обоих это было проходным эпизодом: ни Олечка не стремилась вырвать мальчика из лап мужеложника, ни мальчик-«комбайн» не ревновал ее к мужу, с которым, действительно, Кузмин готов был разделить ложе. Не исключено, что какие-то отклонения в психике Всеволода имелись, вследствие чего, вернувшись в Ригу, он в марте застрелился. Немного не дождался возможности погибнуть в Мазурских болотах или подвале на Гороховой. «Гусарский мальчик с простреленным виском», как вспомнил его Кузмин в своей поэме через шестнадцать лет.
Силуэт другого поэта гусара сквозит тут в окошке: прекрасном ампирном полуциркуле, в третьем этаже дома на Гагаринской (Фурманова), д. 16. Здесь жила с дочерями Екатерина Андреевна Карамзина, вдова историографа. На чай, к которому подавали хлеб со свежим маслом, заглядывали многие знаменитости. Здесь, как пишут мемуаристы, «не играли в карты и говорили по-русски».
Лермонтов, отпущенный с Кавказа в феврале 1841 года в отпуск по просьбе бабушки, засиделся в Петербурге до апреля, когда ему предписано было в течение 48 часов отбыть к месту службы. Накануне отъезда заглянул к Карамзиным, увидел из окошка Фонтанку, Летний сад, высокое петербургское небо.
Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную…
15 апреля уехал, ровно через три месяца, день в день, 15 июля – дуэль. Причины ее совершенно не ясны. Приятельница Ахматовой, Эмма Герштейн, в попытке доказать, что Лермонтова убило самодержавие, привлекла множество материалов, но так ничего убедительного не нашла.
Рассеяно во всем этом нечто – дамам, в особенности литературоведкам, недоступное. Высокий, белокурый, синеглазый Мартынов – очевидный красавец, с чуть вздернутым носом, учился с Лермонтовым в школе подпрапорщиков, служил в кавалергардском полку. Прозвал его поэт по-французски «монтаньяр о гранд пуаньяр» (напишем, как Ишка Мятлев, русскими буквами). «Горец с большим кинжалом» – явный эвфемизм! В карикатурах Лермонтова на Мартынова этот большой кинжал неизменно обозначался. Похохатывал над такой особенностью своего товарища живший на одной квартире с Мартыновым юный Миша Глебов. Оно, конечно, многие таким даром гордятся, но если все время о нем напоминать, можно взбелениться. Что и произошло.
Рекомендуем побродить здесь, от Шпалерной до Пантелеймоновской, проходными дворами, где множество уютных уголков, неожиданные открываются ракурсы известных памятников архитектуры. Имеют место маленькие кафешки, сравнительно дешевые, доступные для заседающих здесь воспитанников «Мухи» (училища Штиглица, переименованного почему-то в честь мужеподобной ваятельницы, автора колосса из нержавеющей стали «Рабочий и колхозница»). Да, и кстати, очень неплохие поблизости бани – на задах училища правоведения, на месте училищного сада – ул. Чайковского, д. 1–3 – образец позднего конструктивизма (1939, арх. А. И. Гегелло).
Закрыты давно на капитальный ремонт, да, по-видимому, если когда откроются, то в другом качестве «целибеевские» бани на Бассейной (улица Некрасова), д. 14. Построенные, как многие питерские термы, по проекту П. Ю. Сюзора, они принадлежали Анне Васильевне Целибеевой. Известны тем, что в них М. А. Кузмин познакомился с банщиком Сашей Броскиным. Это где-то в 1905 году – ничего не изменялось со времен «Судебной гинекологии» Мержеевского (см. главу 7). Саша был податлив, прост; единственное, что его портило – сильная наклонность к употреблению спиртного; хотя это как кому нравится. Решил банщик жениться – на Александре Ильинишне, хозяйке веселого заведения. Кузмин навещал его там, с документальной точностью воспроизведя этот эпизод в повести «Нежный Иосиф». Вообще, по мере того как дневники писателя становятся доступны для публики, легко убедиться, что Михаил Алексеевич воспринимал свою жизнь, как роман. Все, что с ним происходило, немедленно становилось сюжетом его новых литературных произведений.
Один из самых известных примеров – повесть «Крылья». Книга неоднократно переиздана в последние годы, но издатели столь распространившихся сейчас репринтов совершенно не учитывают, на какого читателя они должны работать. Даже современники, худо-бедно имевшие гимназическое образование, в этом произведении Кузмина многого не поняли или не заметили, а уж для нас необходимо издавать такую литературу только с подробными комментариями.
В общих чертах, в «Крыльях» речь идет о следующем. Ваня Смуров, мальчик лет семнадцати, осиротел и привезен старшим братом в Петербург, где поселяется у знакомых Казанских (не на Моховой ли улице?). Учится Ваня в классической гимназии, где преподавали древние языки: греческий и латынь. Классические гимназии появились у нас с легкой руки графа С. С. Уварова. Возражать против их необходимости не приходится: конечно, на греческом и латыни основана традиционная европейская культура. Но после гимназии обращаться к чтению в подлиннике Софокла и Сенеки приходило в голову и тогда не большему количеству людей, чем сейчас (сколько их там обучается, на отделениях классической филологии в университетах?).
Преподавал греческий в гимназии у Вани Даниил Иванович, маленький лысый человечек, не лишенный кинической (или цинической: одно и то же, «кинос» – «собака», по-гречески) доброжелательности к слабостям ближнего. Ваня, как и большинство его соучеников, в изучении греческого ничего, кроме докуки, не видел, но до определенного времени…
В семье, его приютившей, регулярно появляется некто Штруп, Илларион Дмитриевич, богатый англичанин, живущий на Фурштатской улице. Нигде не служит, проводит жизнь в приятных беседах с друзьями и путешествиях. В Штрупа влюблена дочь Казанских, Ната, домогающаяся его столь откровенно, что Ларион Дмитриевич вынужден отказаться от посещений этого дома. В то же время у него идет вяло текущий роман с высокой, светловолосой и прихрамывающей Идой Гольберг, «со ртом, как на картинах Ботичелли».
Разговоры со Штрупом все более заинтересовывают Ваню, со свойственным его возрасту влечением к необычным людям и небанальным ситуациям. Как-то Ларион Дмитриевич увидел мальчика мучающимся над переводом из греческого учебника и со всей убежденностью и присущим ему красноречием доказал необходимость изучения древнего языка и чтения именно на языке подлинника, потому что перевод – это то же самое, что «вместо человека из плоти и крови, смеющегося или хмурого, которого можно любить, целовать, ненавидеть, в котором видна кровь, переливающаяся в жилах, и естественная грация нагого тела, – иметь бездушную куклу, часто сделанную руками ремесленника». Наряду с греческим, Ваня стал учиться итальянскому, читая, под руководством Иды Гольберг, «Божественную комедию». Штруп перестал появляться у Казанских, но это лишь стало поводом для Вани чаще появляться у Лариона Дмитриевича на Фурштатской. Интересные книги, увлекательные беседы, музыка, необыкновенные, замечательные знакомые, – все это находит Ваня у Штрупа, и чем дальше, тем более не может без этого обходиться.
Как-то Ларион Дмитриевич пообещал познакомить мальчика с интересным молодым старообрядцем. В то время к старообрядцам по-прежнему относились как к раскольникам. Конечно, таких преследований, как в «Хованщине» Мусоргского, давно не было, но этот замкнутый, потаенный мир казался многим чем-то опасным, а иных именно этим притягивал.
Штруп назначил Ване встречу в меблированных комнатах на Симбирской (все неподалеку: от Фурштатской по Литейному, за мостом на Выборгскую сторону – ныне улица Комсомола, где известные «Кресты»). Англичанин припозднился, и дожидаясь его, Ваня услышал из-за стенки в соседней комнате такой диалог:
– Ну, я уйду, дядя Ермолай, что ты все ругаешься?
– Да как же тебя, лодыря, не ругать? Баловаться вздумал!
– Да Васька, может, тебе все наврал; что ты его слушаешь?
– Чего Ваське врать? Ну, сам скажи, сам отрекись: не балуешь разве?
– Ну что же? Ну, балуюсь! А Васька не балуется? У нас, почитай, все балуются…
Усладу Штрупу доставляет стройный высокий парень с молодым сипловатым голосом, Федя Соловьев. Брал он с англичанина «красненькую». Деньги, кстати сказать, очень немалые – 10 рублей – годовая подписка на журнал «Мир искусства».
Ваня смущен услышанным. Отношения его с англичанином приобретают некоторую скованность, но не прекращаются вовсе, пока не случилась катастрофа. Ида Гольберг застала Штрупа с его новым лакеем, тем самым Федей Соловьевым. Барышня застрелилась. Федя бесследно исчез. Штруп куда-то уехал.
Саша Сорокин, тот молодой раскольник, с которым познакомил Ваню Штруп, пригласил гимназиста к себе на лето в родной городок на Волге. Любопытно, что назван именно Васильсурск, куда сам Кузмин ездил несколько лет на каникулы. Тихая жизнь и налаженный быт богатой старообрядческой семьи быстро надоедают юноше. К тому же сашина тетка, молодая вдова Марья Дмитриевна, пытается дать Ване урок сексуального образования, что ему совсем не понравилось.
Тут, как говорили латиняне, словно «бог из машины», является на берегу Волги лысый толстячок Даниил Иванович, гимназический грек. Педагог получил небольшое наследство и растрачивает его в приятном путешествии: пароходом по Волге, а потом морем в Италию. Встретив Ваню, он приглашает его составить компанию, заодно намекнув, что и Штруп сейчас в Мюнхене и направляется в Рим. Ваня взволнован, мнется, сомневается, но – Италия, но – Штруп… Он согласился.
И вот мы видим его уже в кафе на Корсо, где он расстается с Даниилом Ивановичем, уезжающим в Неаполь, оставляя Ваню на попечение каноника Мори (опять знакомая по биографии Кузмина фамилия). Тут возникает Штруп. Между Ваней и Ларионом Дмитриевичем происходит объяснение. Штруп намерен ехать завтра утром в Бари (вот так: к мощам Николы-угодника, покровителя плавающих и путешествующих!). Но он может и остаться, если Ваня ему напишет. Ваня мучается ночь, а наутро пишет: «Уезжайте». И добавляет: «Я еду с вами».
Эта история, не осложненная мотивировками и мелочными требованиями правдоподобия сюжета, является, на самом деле, неким философским трактатом, облеченным в беллетризованную форму, как любил это делать Платон. Философ, живший 2, 5 тысячи лет назад, задел какие-то струнки, продолжающие трепетать и в наших очерствевших за многие столетия сердцах.
Название повести отсылает к одному из известнейших диалогов Платона. Сократ беседует с юношей Федром, которому понравилось рассуждение его друга Лисия, что лучше сходиться с невлюбленным, чем с любящим. Сократ это опровергает, показывая истинную природу любви. Любящий видит в красоте юноши отражение истины, созерцание которой – удел бессмертной праведной души. Душу Сократ уподобляет вознице, правящему парой крылатых коней. От влечения к истинной красоте крылья растут, ширятся, и душа воспаряет к вечности. Но лишенная созерцания красоты, душа теряет крылья, погружается в унылость земного существования. В земной жизни человек лишь способен припомнить то, что происходит с душой за пределами чувственного мира. «Восприняв глазами истечение красоты, он согревается, а этим укрепляется природа крыла; от тепла размягчается вокруг ростка все, что ранее затвердело от сухости и мешало росту; благодаря притоку питания, стержень перьев набухает, и они начинают быстро расти от корня по всей душе – ведь она была искони пернатой. Пока это происходит, душа вся кипит и рвется наружу. Когда прорезываются зубы, бывает зуд и раздражение в деснах – точно такое же состояние испытывает душа при начале роста крыльев: она вскипает и при этом испытывает раздражение и зуд, рождая крылья.
Глядя на красоту юноши, она принимает в себя влекущиеся и истекающие отсюда частицы – недаром это называют влечением; впитывая их, она согревается, избавляется от муки и радуется» («Федр», 251).
Благодаря переводу А. Н. Егунова (о нем еще вспомним), мы, и не зная оригинала, можем почувствовать живую, горячую образность платоновского диалога. «Крылья» – в сущности, развернутая иллюстрация нескольких абзацев «Федра», посвященных любовному опыту, плодотворному лишь тогда, когда влюбленный не ограничивается физической близостью с любимым, но старается развить его лучшие наклонности, развиваясь и сам, открывая новые горизонты, обогащаясь новыми знаниями и умением. В свою очередь, юноша не может остаться равнодушным к тому, кто любит его активной, творческой любовью. «Он любит, но не знает, что именно. Он не понимает своего состояния и не умеет его выразить; наподобие заразившегося от другого глазной болезнью, он не может найти ее причину – от него утаилось, что во влюбленном, словно в зеркале, он видит самого себя; когда тот здесь, у возлюбленного, как и у него самого, утишается боль, когда его нет, возлюбленный тоскует по влюбленному так же, как тот по нему; у юноши это всего лишь подобие, отображение любви, называет же он это, да и считает, не любовью, а дружбой. Как и у влюбленного, у него тоже возникает желание – только более слабое – видеть, прикасаться, целовать, лежать вместе, и в скором времени он, естественно, так и поступает», («Федр», 255).
Напротив «целибеевских» бань – до неузнаваемости перестроенный особняк (ул. Некрасова, д. 11), в котором в 1918–1922 годах размещался «Дом литераторов» – еще одна, наряду с «домом искусств» на Мойке, кормушка для не определившихся по отношению к советской власти интеллигентов. Здесь, на Бассейной, несколько больше было «осколоков старого режима». Гумилева чтили – в пику Блоку, написавшему полубезумную поэму «Двенадцать», считающуюся почему-то революционной апологией. Сытая барышня с кокетливо-огромным бантом – Ираида Гейнике, жившая в комфортабельном доме «Бассейного товарищества» (ул. Некрасова, д. 58–60) – заставляла дон-жуанствующего Гумилева ее провожать, насочиняв потом в мемуарах, что поэт плел сети контрреволюционного заговора, для чего держал склад оружия в письменном столе.
«Дом литераторов» помещался на углу Бассейной и Эртелева переулка, переименованного в Чехова, по той, очевидно, логике, что Антон Павлович был приятелем Алексея Сергеевича Суворина, издателя «Нового времени», редакция и типография которого помещались в этом переулке (дома 6 и 13). «Новое время» принято было считать рептильной газеткой, причем эта репутация, созданная нашими дореволюционными либералами, сохранялась в советские годы (уж чья бы корова мычала!). На самом деле это была любимая народом газета, делавшаяся профессионалами высокого класса. Издательство «Нового времени» выпускало много полезного, в том числе справочники «Весь Петербург», по которым (в отличие от нынешних) можно реально судить о том, что собой представлял наш город в первые семнадцать лет XX века.
Младший Суворин, Михаил Алексеевич, в 1914 году затеял журнал «Лукоморье» с хорошими гонорарами. Кузмин подрабатывал везде, где только мог, захаживал и сюда. Он любил рассказывать, как появлялся в редакции Рюрик Ивнев, по необыкновенной рассеянности стукаясь о стенки, принимая окна за двери. Но конторщица неправильно насчитала гонорар по строчкам стихов, и Рюрик немедля назвал нужную цифру, вслед за чем опять грохнулся об косяк.
Рюрик Ивнев (настоящее его имя Михаил Александрович Ковалев) – поэт, конечно, не бог весть какой; что называется, третья волна, но да, в интересующем нас отношении точно был, причем весьма типичен. Отец его был губернатором, потом служил в Государственном контроле, так что Рюрик принадлежал, так сказать, к служилой аристократии. Сам где-то числился в канцелярии и исправно там отсиживал. Но в неслужебное время становился богемным художником с несколько даже опасными наклонностями.
Одно время был его любовником некто Всеволод Леонидович Пастухов, пианист и литератор, года на три помоложе Рюрика (это уже поколение 1890-х годов). Вспоминал он, как в одну из ночей на квартире Рюрика, когда много было выпито и переговорено, хозяин вдруг глянул на гостя сумасшедшим взором и сказал: «Валя, ты такой хороший, и я боюсь, что тебя испортит жизнь, я хочу теперь же, сейчас же убить тебя». В самом деле – вынул заряженный пистолет. Так напугал юношу, что тот перестал к нему ходить и вешал телефонную трубку, когда Рюрик пытался позвонить.
Характерно, что после революции наш декадент стал у большевиков служить по снабжению, заодно брошен был своей партячейкой на организацию «группы имажинистов». Никогда не сидел, ни в чем не обвинялся и дожил до девяностолетия, с несколькими сборниками комсомольских стихов.
Если глянуть на Литейный с моста, по направлению к Невскому, то застит перспективу «Большой дом», грузно вываливающийся по левой стороне проспекта (д. 4). На месте его находился изящный арсенал – постройка Федора Демерцова, архитектора классицизма, все творения которого загадочным образом исчезли. Но, за этим печальным исключением, Литейный – типичный петербургский проспект. Симметричные ровные строчки фасадов, изредка оживленные вертикалями: фалловидным кивером Офицерского собрания, на углу Кирочной, несколькими возвышенными выступами над углами домов и, в туманной дымке, венчающей перспективу колокольней Владимирской церкви. Роль вертикалей в образе Петербурга – предмет особых размышлений: шпили, колонны, конусообразные завершения башен, все это особенно заметно на фоне преобладающих в городском пейзаже горизонтальных стелющихся линий, отвечающих равнинному характеру местности.
На углу Литейного (д. 24/27) и Пантелеймоновской – дом, называющийся по его первому хозяину – разорившемуся на его строительстве и вскоре умершему князю Александру Дмитриевичу Мурузи. Князь этот был внуком правителя Молдавии и сыном турецкого дипломата, ведшего двойную игру в пользу России на переговорах в Бухаресте, завершившихся присоединением Бессарабии к России в 1812 году. После этого Дмитрий Мурузи был в Стамбуле посажен на кол, а вдова его с семейством прибыла в Петербург, пользуясь покровительством русского Царя.
В начале прошлого века здесь располагался просторный деревянный дом, окруженный садом. Принадлежал он сенатору Николаю Петровичу Резанову, женатому на дочери купца Григория Шелехова, основавшего Российско-Американскую компанию. Овдовев и похоронив жену в Александро-Невской лавре, Николай Петрович отправился в кругосветную экспедицию. Сюжет, известный поклонникам рок-музыки 1970-х годов: оперы «Юнона и Авось», по поэме Андрея Вознесенского. Детишек своих, что любопытно, оставил Резанов на время своего путешествия на попечение знакомого нам министра и баснописца И. И. Дмитриева.
Дом Мурузи строился в 1874–1876 годах по проекту архитектора А. К. Серебрякова. Отделка фасадов в «мавританском» стиле, с многочисленными колонками, арочками, отлитыми в гипсе орнаментами, вызывала тогда всеобщий интерес и казалась внове. В то время мотивы архитектурных деталей были предметом серьезного обсуждения, но сейчас уже трудно определить, чем этот «мавританский» дом отличается от стоящего на другом углу Литейного (д. 21) дома Тупикова (1876–1877, арх. Ю. О. Дютель), где подпущены, кажется, «русский стиль» и ренессанс.
В начале 1890-х годов дом принадлежал уже генерал-лейтенанту О. Ф. Рейну. В нем сдавалось в наем 57 квартир, арендовали помещения 7 магазинов. С угла Пантелеймоновской заходили в магазин пряников Николая Абрамова; продавались там халва, мармелад и пастила. Подъезд с Литейного, с мраморной лестницей в вестибюле, принадлежал хозяйской квартире. В 1919 году квартира опустела, и в нее вселилась литературная студия «Дом поэтов», основанная Н. С. Гумилевым. Не то была она при издательстве «Всемирная литература», не то отпочковалась от него.
Странная вообще судьба Николая Степановича Гумилева. Всю мировую войну находился он на фронте, награжден боевыми Георгиями. В начале 1917 года оказался в отпуске в Петрограде, был отправлен отсюда в командировку в Салоники. Октябрьская революция застала его в Париже, куда через пару лет все мечтали уехать, а он, с немалыми, надо сказать, усилиями, вернулся весной 1918 года в Петроград. Развернул здесь кипучую, поэту даже, вроде, не свойственную деятельность: студии, гильдии, «Звучащие раковины», хороводы юных графоманок из недорезанных буржуйских семей. Еще более странно, что он был арестован и расстрелян в 1921 году; понятнее было бы в 1937, к которому он успел бы уже организовать какую-нибудь краснознаменную студию ветеранов Первой Конной…
Парадная с Пантелеймоновской – ближе к Спасо-Преображенскому собору – вела к Мережковским. Жили они в этом доме с 1889 по 1912 годы, переезжали с этажа на этаж: сначала на пятом, потом на третьем и, наконец, на втором. Уехали отсюда на Сергиевскую, напротив Таврического сада.
Зинаида Николаевна познакомилась с Дмитрием Сергеевичем, на три года ее старшим, двадцати лет от роду, в Тифлисе. Сразу поженились, и не расставались, ни много ни мало, пятьдесят два года! Причем буквально были неразлучны: старуха Гиппиус гордилась в мемуарах, что не оставляла супруга в покое ни одного дня. Феномен, единственный в своем роде. Нельзя не добавить, что супруги-писатели не жили друг с другом половой жизнью. Этакие Абеляр и Элоиза. Но там, все-таки, невозможность физической близости схоластика XII века со своей возлюбленной объяснялась тем, что враги лишили Абеляра признаков мужского достоинства, вынудив его уйти в монахи. Здесь, по-видимому, никаких затруднений в физическом плане не существовало. Просто не хотели.
Гомосексуализм часто называют перверсией, или «половым извращением». С этим невозможно согласиться, но понять логику подобных суждений не представит труда, если допустить, что естественен не половой инстинкт как таковой (обусловленный наличием соответствующих органов, рецепторов, нервных узлов и т. д.), но определенный, заранее объявленный способ удовлетворения этого инстинкта. Если принять такую логику, ничего ненормального не было бы в объявлении «половым извращением» гетеросексуальных отношений.
Тем не менее, половые извращения существуют. Это – отсутствие полового инстинкта как такового. Нельзя считать извращением то, что некоторые люди пользуются при еде вилкой, а другие берут пищу руками. Не противоестественно утолить голод куском говядины, но никому не возбраняется грызть репу и питаться акридами. Но если, имея глотку, пищевод, желудок, печень, анальное отверстие, человек утверждает, что есть он вовсе не обязан, – это, конечно, извращение. Единственное отличие от ситуации с наличием эрогенных зон то, что голодающий человек может протянуть месяц с небольшим, тогда как половое воздержание не отражается на долголетии.








