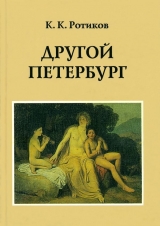
Текст книги "Другой Петербург"
Автор книги: Константин Ротиков
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 33 страниц)
До устройства в 1920 году сквера здесь был бесконечный пустырь, с пронизывающими до костей сквозняками. Укрыться можно было разве за каким-нибудь покосившимся заборчиком с гнилыми досками, да руинами ярмарочных балаганов, оставленных разрушаться естественным путем под колючей поземкой, да моросящим великопостным дождиком. Пространство это оживало лишь на масляничной неделе, в унылой бестолочи русских гуляний, кажущихся на картинках Кустодиева куда привлекательнее, чем были на самом деле.
Марсово поле, д. 7. Этот угловой дом, со скругленным углом и двумя портиками, занимает важное место в панорамах классического Петербурга. По достоинству его можно было оценить лет сто назад, когда колонны, замыкающие перспективу Екатерининского канала, видны были от Невского проспекта. Но воздвигся храм «Спаса на Крови», уподоблявшийся современниками его строительства судку для горчицы и уксуса, и классическая перспектива была утрачена. Попробуй, однако, убедить наших современников, что лучше бы торчал на торце канала один из бесчисленных портиков, коих и без того слишком много, а не многоцветная, разновысокая громада, как бы гроздью воздушных шаров оживляющая скучные пространства невской столицы.
Дом называется по имени архитектора Доменико Адамини, по проекту которого построен в 1823–1827 годах. Находился он в ведении Департамента уделов, распоряжавшегося личными владениями Императорской фамилии. Квартиры были казенные, в одной десять лет прожил изобретатель и путешественник Павел Львович Шиллинг, человек выдающийся во многих отношениях, но в интересующем нас плане ничем не отмеченный. «Дом Адамини» замечателен также тем, что во время блокады в него попала бомба, разворотившая стены, и после войны его восстановили одним из первых. Квартиры отдали творческим работникам, типа архитекторов и писателей, так что закономерно появление на стенах дома разных мемориальных досок. Одна доска указывает, что жила в этом доме Вера Федоровна Панова, написавшая милую, чистую повесть «Сережа» – один из лучших образцов ленинградской прозы 1950-х годов, достоинством которой почитались легкость и приятность. Вторым мужем писательницы был Давид Яковлевич Дар. Познакомились они в конце войны в эвакуации, прожили вместе тридцать лет. Молодые литераторы, пригретые Верой Федоровной, как С. Д. Довлатов, Г. Н. Трифонов, хорошо были осведомлены об истинных увлечениях Давида Яковлевича, но жена демонстративно ревновала его лишь к кухаркам и медсестрам. Это время, хоть в России никогда не было принято говорить то, что думаешь, было особенно агрессивно: даже думать рекомендовалось не так, как следовало по природе.
Вернемся к более романтичным временам. Естественно, кажутся они такими лишь в туманном флере нашего полузнания; современники и тогда скрежетали зубами и мечтали о золотом веке. Рубеж XIX и XX столетий был назван «серебряным веком» философом Бердяевым, современником, казалось бы, но уж из эмигрантского далека, в свете опыта допросов в Чека и насильственной депортации. А ведь допрашивали и высылали те же, что учились в дореволюционных гимназиях и университетах, – своих профессоров.
В 1910-х годах «Дом Адамини» принадлежал известному биржевому аферисту Митьке Рубинштейну. Продолжал он оставаться обычным петербургским многоквартирным жилым домом, и жили здесь почти одновременно: писатель Леонид Андреев, балетный критик Аким Волынский, поэт-футурист Василий Каменский, режиссер и художник Николай Евреинов. Помещалось на 2-м этаже «художественное бюро» Надежды Евсеевны Добычиной, устраивавшей выставки авангарда. Году в 15-м ненадолго поселился с Верой Боссе художник Сергей Судейкин. Вот тут приостановимся…
Сергей Юрьевич рано осиротел, годовалым младенцем. Отец его очень замечателен: Георгий Петрович Судейкин, жандармский полковник, искусный провокатор, агентом которого был народоволец Дегаев. Все явки были раскрыты, связи развалены. Кольцо подозрений все туже стягивалось вокруг Дегаева, и тот вынужден был, в порядке реабилитации, убить хитроумного жандарма 3 декабря 1883 года.
Родился художник в Петербурге. Созрел весьма рано: уже лет в тринадцать, как признавался Кузмину, подцепил что-то, попробовав с опытной женщиной. В пятнадцать лет стал воспитанником Московского училища живописи, ваяния и зодчества, где собралась у них теплая компания. Среди ближайших друзей оказался Сапунов. Замечательно название выставки, которой эти ребята заставили о себе заговорить: «Голубая роза»… Из училища, впрочем, Судейкин был изгнан за показ «непристойных картинок». С 1905 года художника стал приглашать для своих постановок Всеволод Мейерхольд, и вот, в следующем году – театр Комиссаржевской на Офицерской (смотри, читатель, 7-ю главу)…
Как все переменилось в нашей жизни! Вот мужские поцелуи, в прошлом столетии никаких подозрений не вызывавшие (Достоевский с Катковым, на Пасху, троекратно, сцепившись бородами), ныне уж будто на что и намекают.
Сладко быть при всех поцелованным,
С приветом, казалось бы, бездушным…
Стихи Кузмина, посвященные Сергею Юрьевичу Судейкину, из цикла «Прерванная повесть». Ноябрь-декабрь 1906 года. Судейкину – двадцать четыре, Кузмин на десять лет старше.
Лишь слышу голос Ваш, о Вас мечтаю,
На Вас направлен взгляд недвижных глаз.
Я пламенею, холодею, таю,
Лишь приближаясь к Вам, касаясь Вас.
……………………………………
Мы взошли по лестнице темной,
Отворили знакомые двери,
Ваша улыбка стала более томной,
Занавесились любовью очи.
Уже другие мы заперли двери…
Если б чаще бывали такие ночи!
Так все и было напечатано в 1907 году, в июле, в альманахе «Белые ночи». Перегорело, так сказать, и осталось памятью в стихах.
Роман их был недолгим. В октябре первый раз встретились, сразу очень понравились друг другу. От любовных признаний перешли к полной близости, и последний раз, 3 декабря (интересное совпадение!), Судейкин весь день провел на Суворовском в постели с милым, а вечером уехал в Москву, подарив поэту на прощанье картонный кукольный домик. Ничего не писал три недели, а в канун Рождества прислал Кузмину записку: «Дорогой Михаил Алексеевич! Мое долгое молчание кажется мне извинительным. Теперь совершенно спокоен и счастлив, шлю Вам привет. Я женюсь на Ольге Афанасьевне Глебовой, безумно ее любя». Ольга приписала: «Шлю привет поэту, будем друзьями.»
Ольга Афанасьевна кончила в 1905 году театральное училище, работала тут же на Офицерской. В тот вечер, когда Судейкин уезжал в Москву, она должна была играть маленькую роль пажа в пьесе Пшибышевского «Вечная сказка». Но на роль пришлось срочно вызывать актера Шарова, так как Ольга помчалась на вокзал, став пажом обожаемого любовника. Вскоре начались взаимные измены, но окончательно разъехались они с Судейкиным лишь в 1917 году: тот уезжал за границу через Кавказ, Ольга осталась в Петрограде. Была увлечена тогда композитором Артуром Лурье, комиссарившим у большевиков по части искусств. Весьма дружила с Анной Ахматовой, тоже любившей Лурье. В 1924 году она, наконец, добралась до Парижа, где прожила до 1945 года и умерла, окруженная птичками, которых во множестве подбирала и заманивала к себе в тесную квартирку на восьмом этаже у ворот Сен-Клу: воробушков со сломанной ножкой, синичек с подбитым крылом, скворцов, попугаев…
Какие женщины любят наших героев? Биограф Глебовой-Судейкиной, Элиан Мок-Бекер, описала ее так. «Ольга была хрупкой и грациозной, словно саксонские статуэтки или те фигурки и куклы, которые она создавала сама. Она была довольно высокого роста, хорошо сложенная; ее великолепные белокуро-пепельные волосы ниспадали, как пелерина, до самого пояса. Она часто заплетала их в косы и укладывала вокруг своего овального лика мадонны с прозрачной тонкой кожей… Как рассказывают, у нее были огромные серо-зеленые глаза, переливающиеся, как опалы: взгляд их был ясен и глубок – взгляд ребенка, который она сохранит до самой смерти. Жесты Ольги были легки, она была летучей, воздушной, как все, что она любила: ангелы, птицы, танец»…
Что же муж ее? Невысок, темноволос, густобров. Стальной блеск глаз, надменно сжатые губы. Одет всегда с исключительной изысканностью. Для Ольги Афанасьевны сам придумывал совершенно необыкновенные платья. Ушел от нее, как отмечалось выше, к Вере Артуровне Боссе, в первом браке бывшей за Шиллингом (не потомком ли изобретателя магнитного телеграфа, жившего на Марсовом поле?). Но и эта возлюбленная вскоре его бросила, ради, надо сказать, Игоря Федоровича Стравинского, композитора, скорее, заграничного, хоть родившегося в Ораниенбауме и до первой мировой войны бывавшего наездами в Петербурге. Имеют некоторые миниатюрные мужчины пристрастие к могучим дамам, типа Брунгильды, к какому относилась Вера Боссе. Стравинский восемнадцать лет разрывался между законной своей женой Екатериной Габриеловной, умершей в 1939 году, и бывшей судейкинской подругой.
Женитьба на Глебовой лишь придала стабильность долгим дружеским отношениям Судейкина с Кузминым. Шедевром художника является издание кузминских «Курантов любви», где пленяет неисчерпаемая изобретательность в деталях, смешение техник и стилей. Нехитрое было дело тогда, после уроков «Мира искусства», рисовать старинные усадьбы, маркиз, виконтов, маскарады да фейерверки. Но для Судейкина это было лишь темой импровизации, буффонады, бесконечной игры, условия которой мгновенно меняются по произволу художника.
Прежде всего, это, конечно, театральный художник. Пьески Кузмина, которые смело можно уподобить пестрым бабочкам-однодневкам, как-то очень подходили к живописным фантазиям Судейкина. Уникальным во всех отношениях примером осталась постановка пьесы «Венецианские безумцы», заказанная Евфимией Павловной Носовой, московской миллионершей, сестрой знаменитых банкиров Рябушинских. В доме Носовых на Введенской площади в Москве состоялось единственное представление – 23 февраля 1914 года. Спектакль феерический, в роскошных декорациях и костюмах Судейкина, со стихами и музыкой Кузмина, а ставил пьеску тот самый Петр Федорович Шаров, который заменил когда-то Оленьку Глебову, упорхнувшую со спектакля в объятия Сергея Юрьевича…
В подвале «Дома Адамини» 18 апреля 1916 года открылся «Привал комедиантов». Входили сюда – если, допустим, зайти сейчас – в первую подворотню от угла со стороны Марсова поля, сразу налево, вниз по ступенькам. Из прихожей попадали в зал с огромным камином, близ которого размещался буфет. Столики были покрыты яркими платками вместо скатертей. Буфетную и следующую за ней комнату расписывали два неразлучных тогда друга: Борис Григорьев и Александр Яковлев. Роспись последнего была особенно удачна: город из кубиков цвета охры, громоздящийся горками к синему небу, как изображали на картинах итальянского кватроченто. По узким улицам тянулась процессия комедиантов, с колесницей Аполлона во главе, запряженной единорогом. По сторонам проема, открытого в театральный зал, распластались Арлекин и Панталоне.
Театр в «Привале» стал триумфом Судейкина. Художник посвятил его своим любимцам: Карло Гоцци и Эрнсту-Теодору-Амадею Гофману. Позолота лепнины тускло мерцала на черных сводах зала. Это напоминало Венецию: темная вода каналов, смоляные гондолы, бауты из черного бархата, золотые кони Св. Марка, мавры на Часовой башне… Венецианская «комедия дель арте» – воплощенная амбивалентность – и увлекательные авантюры героев гофманских новелл. Окошки были закрыты расписными ставнями, на которых Судейкин изобразил карнавал: дам с веерами, кавалеров в треугольных шляпах – то ли графа Гоцци, то ли капельмейстера Крейслера.
В этом театрике в подвале устраивались кукольные представления, вечера поэзии, какие-то доклады (по «теории поэтического языка», например). 29 октября 1916 года торжественно отметили 10-летие творческой деятельности Кузмина; представлено было три пьески юбиляра: «Два пастуха и нимфа в хижине» в декорациях Судейкина и тому подобные мелочи.
Нет сомнения, что контингент был здесь на любой вкус. Шла война, некоторые молодые красавцы вынуждены были находиться в армии, но хватало белобилетников, пользовавшихся разнообразными отсрочками и льготами. Модный кокаин, зрачки, расширенные атропином, набрильянтиненные сверкающие проборы… Просуществовало заведение до апреля 1919 года, пережив две революции и устройство по соседству братского кладбища. Росписи подвала погибли в наводнении 1924 года, мало чем уступавшем по разрушительности происходившему на сто лет ранее.
«Привал комедиантов» – последняя крупная затея «Общества Интимного театра», о котором мы вспоминали на Галерной, у «Дома интермедий». Но в подвале на Марсовом поле главную роль играл не Всеволод Эмильевич Мейерхольд, а Николай Николаевич Евреинов. Фигура любопытная, хоть и заслоненная в массовом сознании вечным своим соперником в открытии новых театральных приемов Мейерхольдом. Трудно сказать, почему; на Западе, кажется, Евреинова знают даже чуть-чуть побольше, чем Мейерхольда: он там благополучно писал и ставил свои пьесы, умерев в приснопамятном 1953 году, тогда как теоретик «театрального Октября» погиб в застенке на тринадцать лет раньше.
Евреинов – что-то в нем, безусловно, мерещится. Учился в училище правоведения, магистерская диссертация его вообще, кажется, не может оставить никаких сомнений: «История телесных наказаний в России». Уайльд был его кумиром; сочинял он некий «театр для себя»; являлся во фраке, с моноклем; в бритом лице его была какая-то женообразность, нравящаяся, впрочем, многим девушкам. Жену свою, А. А. Кашину, с которой сочетался браком лишь в возрасте 42 лет, учил он фрейдовскому психоанализу, входившему в моду.
При новом режиме оба оказались при деле: Мейерхольд поставил «Мистерию буфф» Маяковского, Евреинов устроил на Дворцовой «Штурм Зимнего» с восемью тысячами статистов. Однако Мейерхольд выдавил соперника из большевистской России и сделался на двадцать лет непререкаемым авторитетом по части революционного театра. Повезло, в конечном счете, все же Евреинову, умершему естественной смертью.
«Привал комедиантов» в сознании современников безнадежно перепутался с «Бродячей собакой», так что даже Анна Андреевна Ахматова в своей «Поэме без героя» устраивает «бал метелей на Марсовом поле» в 1913 году, когда страсти, подобные воспетым ею, кипели отнюдь не здесь, а на Михайловской площади, в подвальчике, где художественная богема собиралась с 1912 по 1915 годы. Закрыли «Собаку» в связи с введенным в военные годы «сухим законом»: за продажу спиртного.
Публика, действительно, бывала в двух подвалах одна и та же. Все то же «Общество Интимного театра»: Мейерхольд, Кузмин… Совсем забыта личность главного заправилы и организатора: Бориса Константиновича Пронина, именовавшегося «хунд-директором», что, собственно, подразумевало, что они с женой, В. А. Лишневской, были хозяевами того и другого заведения, обеспечивавшими скромный, но достаточный навар. Как-то должны же были окупаться буфетчики, обслуга, цветы на столиках, подававшиеся телячьи котлеты.
Погодок с Мейерхольдом, Пронин пришел в театр уже в зрелом возрасте, попробовав разные варианты. До двадцати двух лет жил в Киеве, затем отправился в столицу, пытался учиться в университете на разных факультетах. Побаловался распространением эсдековских прокламаций, познакомился с Горьким, Луначарским (оказывавшим позднее высочайшее благоволение «Привалу»). В 1905 году на Поварской Мейерхольд организовал студию при Художественном театре и привлек туда Пронина для решения разных хозяйственных вопросов. Идеи театрального реформатора надолго увлекли Бориса Константиновича. Он оставался верным рыцарем Мейерхольда на следующее десятилетие, вполне разделив его мысль о необходимости новых форм общений между деятелями искусства, того, что пытались впервые осуществить в «Доме интермедий».
Актеры и художники на самом деле люди мрачные, неврастеничные, на какие-то общественные акции поддающиеся с трудом. Так что надо отдать должное организаторским способностям Пронина, воплотившего идею, которой изначально суждено было погибнуть в дымной пивной за дюжиной портера. Его самозабвенная кипучесть увлекла и подняла литераторов, художников, актеров и музыкантов. Не то чтобы клуб, но уж абсолютно не кабак. Нечто такое, где все друг друга в принципе знали бы, но не настолько, чтобы нельзя было вдруг удивить знакомцев такими сюрпризами, какие казались бы неудобными в кругу совсем уж близких друзей, и вовсе были бы неуместны для посторонней публики.
Место было найдено во втором дворе дома 5 на Михайловской площади, ныне загаженном вряд ли более, чем в те времена. Обшарпанность стен и птичий помет на булыжниках предусматривались как элементы стиля. Название подвала – «Бродячая собака» – тоже, как понимаете, ассоциируется не с болоночкой расфуфыренной, а облезлой какой-нибудь беднягой с репейниками в хвосте. Авторство названия оспаривали между собой Евреинов, Пронин, актер Николай Петров (по прозвищу «Коля Петер») и писатель Алексей Толстой (будущий классик советской литературы).
Войдя во вторую подворотню, поворачивали сразу налево и спускались под жестяным навесом на четырнадцать ступенек, ткнувшись в запертую дверь. Звенел колокол, у гостя требовали пригласительный билет, и из-за стены вещал пронинский голос: «Здесь все друг друга знают!»
Публика была пестрая. Голубой цвет вовсе не преобладал. Но, конечно, люди, связанные как-то с театром. Заваливались сюда сразу после спектаклей, иногда не сняв грим – сбор начинался в 11 вечера. Бонтонные молодые люди с неопределенными источниками доходов, пописывающие стихи, любили появляться здесь напудренными, с ярко-красными губами и подведенными глазами…
Если подумать, какая фигура из постоянных обитателей «Собаки» могла бы наиболее выразить ее суть, наверное, это Паллада Олимпиевна Гросс (назовем ее по последнему мужу). Урожденная Старынкевич; у них в семье (как у Маниловых) принято было давать деткам античные имена: Сократ, Кронид, Олимпий… Трудолюбивые исследователи выявили общее количество ее фамилий, меняемых с мужьями: графиня Берг, Богданова-Бельская, Дерюжинская, Педди-Кабецкая (эта особенно прелестна!). Как все здесь, немножко играла, сочиняла какие-то стихи, но более всего чаровала:
А!..
Не забыта и Паллада
В титулованном кругу,
Словно древняя дриада,
Что резвится на лугу,
Ей любовь одна отрада,
И, где надо и не надо,
Не ответит, не ответит,
не ответит «не могу!»
Так писал Кузмин, да и многие любили ей посвящать стихи. Миниатюрная, большеглазая, с этаким шиком – любой мужчина, независимо от естественных склонностей, вытягивался в стойку. Фигура, впрочем, скорее не из оперетки, а некоего трагифарса. Известно, что родила она пару двойняшек от Егора Сазонова, террориста, обрюхатившего ее точно накануне того дня, как убил бомбой министра внутренних дел Плеве. Студенты, в нее влюбленные, стрелялись прямо у нее на глазах. Паллада познакомила Кузмина с Всеволодом Князевым (встретим еще эту парочку в 19-й главе). Втроем с Палладой ездили в номера, где Сева всю ночь перебегал от девки к любовнику.
Любвеобильная атмосфера «Собаки» коснулась даже Велемира (Виктора Владимировича) Хлебникова. Поощрявший футуристов, хотя, по своему французскому воспитанию, более склонный к классицизму, Бенедикт Константинович Лившиц в мемуарах «Полутораглазый стрелец» сообщает о внезапном увлечении Хлебникова ученицей театральной студии Лелей Скалон. Это несколько странно для Велемира, посвящавшего, правда, стихи Кузмину, но в личной жизни, по-видимому, лишенного простейших навыков («три девушки пытали: чи парень я, чи нет? а голуби летали, ведь им немного лет»).
Желая познакомиться с Лелей, но не зная, как это сделать, он обратился за помощью к Бене Лившицу. Вообще-то разговоры двух поэтов, если верить Лившицу, шли совсем об иных предметах. Например, «найдя общий язык в вопросе о расовой теории искусства», диспутанты вдруг обнаруживали, что согласие это мнимое, ибо Хлебникова занимало «разграничение материкового и островного сознания». Тем не менее, дела житейские не были вовсе чужды молодым людям. Лелю с подругой решили пригласить в «Бродячую собаку». Для этого нужны были деньги. Хлебников решил занять у Гумилева, чему не помешали идейные разногласия между будетлянами и акмеистами. Уселись Хлебников с Лившицем и двумя барышнями за столиком в «Собаке», и тут выяснилось, что разговаривать Велемир не расположен. Беня занял барышень разговором, Виктор кинулся к буфету, притащив гору бутербродов, и вдруг заговорил. В монологе его фамилия любимой девушки превратилась в корень словесных побегов: «о скал оскал скал он скалон»… Девицы, прыснув, быстренько удалились, велев поэтам их не провожать.
О «Собаке» много написано мемуаров и исследований. Сохранились разные афишки и билетики: «музыкальных понедельников», «вечеров повышенного настроения», «плясов козлоногих»… Вероятно, на самом деле все было проще, чем может представиться. Заходили погреться, «оттянуться». Помещеньице небольшое. Ну, человек семьдесят могло сесть за тесно стоящие столики с соломенными табуретками, под люстрой в виде обруча, свисавшей со сводчатого потолка.
Вот, заглядывали на огонек. Конечно, компанией. Без выпивки было невозможно. Курили, пили шампанское, болтали, хохотали. Ахматова демонстрировала необыкновенную гибкость, ухитряясь обернуться вокруг стула. И там между делом кто-то появлялся сбоку на крохотной эстраде. Куплеты какие-нибудь, восточные танцы. Генерал медицинской службы Кульбин пытался прочесть лекцию о футуризме с «туманными картинками» (то есть, диапозитивами), ему кричали с задних столиков: «Кончай, брат, давай-ка лучше выпьем».
Кузмин с теплотой описал «Собаку», под именем «Совы», в романе «Плавающие-путешествующие». «Импровизация вообще вещь опасная и потому устроители кабачка хотя и не переставали говорить о свободном творчестве, были отчасти рады, что известная последовательность установилась сама собою. А последовательность была такова. Сперва приезжали посторонние личности и кое-кто из своих, кто были свободны. Тут косились, говорили вполголоса, бесцельно бродили, скучали, зевали, ждали. Потом имела место, так сказать, официальная часть вечера, иногда состоявшая из одного-двух номеров, а иногда ни из чего не состоявшая. Тут не только импровизация, но даже простейшая непредвиденность была устранена, и все настоящие приверженцы „Совы’ смотрели на этот второй период, как на подготовление к третьему, самому интересному для них. Когда от выпитого вина, тесноты душного воздуха, предвзятого намерения и подлинного впечатления, что тут, в „Сове“, стесняться нечего, – у всех глаза открывались, души, языки и руки освобождались, – тогда и начиналось самое настоящее… Это была повальная лирика, то печальная, то радостная, то злобная, но всегда полупьяная, если не от вина, то от самих себя“. Или, говоря стихами того же автора, „здесь цепи многие развязаны, все сохранит подземный зал, и те слова, что ночью сказаны, другой бы утром не сказал“».
Руки – да, освобождались. Как это писал Бенедикт Константинович: «украдкой целовали Жоржики Адамовичи потные руки Жоржиков Ивановых и сжимали друг другу под столом блудливые колени»… Прокомментируем, чтоб к этому не возвращаться. Георгий Владимирович Иванов, приятелями своими эгофутуристами называемый «баронесса», происходил из военной дворянской семьи, учился во 2-м кадетском корпусе (имени А. Ф. Шенина). С шестнадцати лет по протекции Кузмина и Городецкого стал печататься. Первый его сборник «Отплытие на остров Цитеру» вышел одновременно с открытием «Собаки»: под новый 1912 год. Не мог он, естественно, не быть под сильным влиянием Кузмина, но потом заговорил собственным голосом, одним из красивейших в этой невероятной какофонии – русской поэзии XX века.
Оттого и томит меня шорох травы,
Что трава пожелтеет и роза увянет,
Что твое драгоценное тело, увы,
Полевыми цветами и глиною станет.
Даже память исчезнет о нас… И тогда
Оживет под искусными пальцами глина,
И впервые плеснет ключевая вода
В золотое, широкое горло кувшина.
И другую, быть может, обнимет другой
На закате, в условленный час у колодца…
И с плеча обнаженного прах дорогой
Соскользнет и, звеня, на куски разобьется.
Георгий Викторович Адамович, сын генерала, начальника московского военного госпиталя, рано осиротевший и воспитывавшийся матерью, получил университетское образование. Стихов он написал немного, всего около ста. Одно из них, по крайней мере, заслуживает войти в антологию Петербурга:
За миллионы долгих лет
Нам не утешиться… И наш корабль, быть может,
Плывя меж ледяных планет
Причалит к берегу, где трудный век был прожит.
Нам голос прозвучит с кормы:
«Здесь ад был некогда, он вам казался раем».
И силясь улыбнуться, мы
Мечеть лазурную и Летний сад узнаем.
Помедли же! О, как дышать
Легко у взморья нам и у поникшей суши,
Но дрогнет парус, и опять
Поднимутся хранить воспоминанья души.
В эмиграции он занимался критическими статьями, переводами. Литература – по крайней мере, в петербургский период – не была для него источником средств существования. Игрок он был азартный. Очень удачно тетка его вышла замуж за Николая Николаевича Беллея, английского подданного, затеявшего в Петербурге общество электрических железных дорог. То есть, нажил миллионы Беллей строительством в столице трамвайных линий. Вдова его уехала в Ниццу, оставив племяннику роскошную квартиру на Почтамтской, д. 20: в аккурат под окнами были тогда мраморные Диоскуры, на воротах конногвардейских казарм.
Здесь Жоржики жили совершенно по-семейному. В сентябре 1921 года Иванов женился на Ирине Одоевцевой (Ираиде Густавовне Гейнике), подружившейся с Адамовичем, как самой любимой из своих подруг. В своих воспоминаниях Одоевцева приводит такую прелестную подробность: Адамович по утрам облачался в персидский шелковый халат, обматывая голову голубым газовым шарфом. И вот как-то (21-й год, напоминаем: голод, холод, но золотишко кой у кого водилось, валюткой баловались, все так же, как сейчас) прислуга отлучилась, и Жорж в халате сам отворил на стук дверь с черной лестницы. Явился красноармеец со словами: «Хозяйка, дров поколоть не надо ль? или полы натереть?». Жоржик мило улыбнулся простодушному воину и ответил: «Не надо. Мой муж наколет».
Так и за границей жили втроем, но после тридцатилетней идиллии разошлись по ничтожному, казалось бы, поводу. Во вторую мировую войну Георгий Владимирович проникся сталинским патриотизмом, а Георгий Викторович остался верен белогвардейским идеалам. Меж тем, по возрасту уже впору было в богадельню, где Иванов скончался в 1958 году. Адамович дожил до 1972 года. Фантастически повезло престарелой Одоевцевой: она дожила до «перестройки», когда ее с триумфом ввезли в освобожденную Россию, поселив в «чаплинском» доме на Невском, где она умерла девяноста пяти лет от роду. Во времена «Собаки» молодым людям было так, примерно, по 18–20 лет.
До первой мировой войны в «Собаку» было принято водить иностранцев, по всегдашней необъяснимой страсти русских к этой породе людей. Возможно, что, поскольку образование в России предполагало, в первую очередь, знание европейских языков, англичане, французы и немцы инстинктивно кажутся нам умнее по одному тому, что свободно говорят на языках, которые русский с трудом осиливает. Есть также мнение, что каждый русский в душе хочет быть иностранцем. Во всяком случае, это странная и одна из немногих чисто национальных черт русского характера.
Кто же теперь во Франции знает Поля Фора? Разве что русисты, потому что любимые ими Маяковский и Хлебников бывали в той самой «Бродячей собаке», где когда-то устраивалось чествование этого «короля поэтов». Немного известнее итальянский футурист Маринетти. Тоже немало было выпито по случаю его приезда в Петербург, где он, надо полагать, совершенно неожиданно для себя, обнаружил русских будетлян.
Из международных контактов по нашей теме проходит «вечер ритмической пластики», состоявшийся 22 марта 1913 года. Князь Сергей Михайлович Волконский, обаятельная личность которого украшена и любовью к сильному полу, привел в «Собаку» Поля Тевна. Описание этого вечерка находим в кузминских «Плавающих-путешествующих». «На эстраде почти голый изображал приемы ритмической гимнастики несколько широкоплечий, с длинными руками молодой человек, в то время как высокий господин с черной бородой незатейливо играл музыкальные отрывки в две четверти, три четверти и шесть восьмых. Иногда эти куски соединялись в нечто целое и мальчик изображал то возвращение воина с битвы, то смерть Нарцисса… Молодые люди завистливо критиковали, уверяя, что это вовсе не балет».
Так замечательно все переплелось: Волконский, энтузиаст системы ритмической пластики Далькроза, тогдашней заграничной новинки, настойчиво ее пропагандировал, привезя юношу-танцовщика из Парижа. А несколько позже Поль Тевна стал другом Жана Кокто. Так что, в лице своих наиболее выдающихся представителей Россия, действительно, шагала в ногу с европейской культурой и даже чуть опережала…
Любили здесь танцевать, особенно комические балетные номера. Так Александр Орлов (позднее орденоносец и заслуженный артист) подобно вихрю взлетал на стол прямо с эстрады, пускаясь в русскую присядку. Петр Потемкин (тот самый, помните, обладатель «потемкинского») с танцовщиком Мариинки Борисом Романовым (позднее балетмейстером Метрополитен-опера) изображал «скачки в Голуане на верблюдах»: верхом на стульях, один длинный, другой маленький. «Бобиш» Романов поставил в «Собаке» номер «Козлоногие» на музыку Ильи Саца, в котором исступленно плясала Оленька Судейкина, искусно обнаженная по эскизу мужа.
Судейкин был непременным декоратором «собачьих» игрищ. Не совсем понятно, были ли здесь росписи, как в позднее устроенном «Привале». Но многие вспоминают о каких-то цветах, птицах, женщинах, неграх и детях на сводах подземного зала.
Но, действительно, за давностью могли и перепутать, где «на стенах цветы и птицы тоскуют по облакам», как уверяла Ахматова. Странно, что в «Поэме без героя» (к которой еще придется вернуться) Анна Андреевна отозвалась о кротком Михаиле Алексеевиче прямо-таки с дантовской яростью:
Маска это, череп, лицо ли —
Выражение злобной боли,
Что лишь Гойя мог передать.
Общий баловень и насмешник,
Перед ним самый смрадный грешник —
Воплощенная благодать…
Надо вспомнить, что именно Кузмин написал предисловие к первому поэтическому сборнику Ахматовой «Вечер». Особенно ее творчеством не восхищался, но злобы к ней явно не испытывал. На роль блюстительницы общественной нравственности Ахматова вряд ли годилась бы больше, чем, допустим, Екатерина Великая, да и непохоже, чтоб эта роль ее интересовала. В чем же дело? Возможно, в ревности (кто его знает, что у них на самом деле бывало с Гумилевым), но, скорей всего, в принципе, не чуждом, кстати, самому Кузмину – «ради красного словца»…








