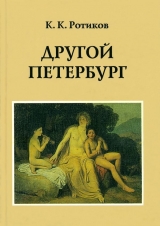
Текст книги "Другой Петербург"
Автор книги: Константин Ротиков
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 33 страниц)
Не только в отношении технических подробностей вполне можно доверять автору «Похождения пажа» с его незаурядным опытом. Всего ценнее примечания, коими снабдил поэт свое творение. Помянул он многих. Даже великий князь Михаил Павлович, брат Государя, назван им «педерастом, но очень осторожным».
О камер-юнкере Александре Львовиче Потапове указал, что тот на время был выслан во Псков, «за то, что одетый дамою, интриговал государя в маскараде, и государь ему руку поцеловал». Это писалось, когда Потапову было не более двадцати пяти лет, был он хорошеньким брюнетом с ручками и ножками «совершенно женскими», любил пользоваться женскими ночными горшками с собственным гербом, носил дорогие турецкие шали и напевал: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан».
Известно, что дама-камер-юнкер родился в 1818 году, стало быть, время написания Шениным поэмы – около 1843 года. Скорей всего, то, что поэма вместе с примечаниями, получила широкое распространение, стало основной причиной «неудовольствия начальства», повлекшего ссылку Шенина. Пользование дамским бельем и горшочками не помешало Александру Львовичу дождаться генерал-адъютантства и дожить до семидесяти лет. Кстати, император Николай Павлович добродушно пошутил как-то, увидев, как флигель-адъютант граф Петр Киприанович Крейц прогуливается в санях под ручку с Потаповым: «Voila Kreuz et sa femme» («Вот Крейц со своей женой»)
«Педерастия, – пишет Шенин, – никогда не прекращалась в высших учебных заведениях. Кадеты пели на голос марша песню, начинавшуюся следующими словами:
В пизду ети не годится,
Лучше в жопу завсегда.
От пизды бубон родится,
А от жопы никогда.
Бум, бум, и т. д.»
Конечно, не Лермонтов, но характерно. «Русский эрот не для дам» недавно переиздан многотысячным тиражом, так что вполне доступен читателям. Однако, еще несколько слов о «Похождении пажа». Герой поэмы, выходящий в лейб-гусары из Пажеского корпуса, объявляет свету, что «корпусные все пажи в столице севера известны, как бугры или бардаши». Сюжет незатейлив, но снабжен множеством зажигательных подробностей, необходимых для такого рода литературы. Цитировать их не совсем прилично. Ну, разве что:
За мною первый волочиться
Стал черноокий, стройный паж.
Он не замедлил объясниться:
«Когда же ты, mon cher, мне дашь?» —
Спросил он прямо, обнял смело
И целовал так горячо;
В моих ушах тут зазвенело,
Краснело от стыда лицо…
Вскоре герой входит во вкус, пользуется успехом, как в корпусе, так и в городе, под прозванием «Натальи Павловны». Являясь в маскарады «в ажурных шелковых чулках», «в черном домино и маске и в платье модного гро-грем», паж-барышня обольщал поклонников:
Звал в ресторан Леграна их;
И в троешных санях гурьбою
Участники моих проказ
Летели все туда со мною,
Любовным жаром разгорясь;
А там мне юбки подымали,
И жопу пышную открыв,
Сперва ее все целовали,
Потом ебли наперерыв.
Кстати, ресторан Леграна (в 40-е годы он уж стал называться «Дюссо») находился как раз на углу Большой Морской и Кирпичного переулка, через дорогу от дома Косиковского. Поэма может служить наглядным пособием различных способов и приемов, включая и то, что именуется «легкий с/м»: в корпусе юношей пороли розгами, и герой поэмы Шенина ухитрился получать от этого значительное удовольствие.
«Похождение пажа», на первый взгляд, может показаться сочинением, направленным исключительно на простейшее самовозбуждение. Но это своеобразная апология гомосексуальных отношений, привлекающая исторические и мифологические прецеденты (Ганимед, Алкивиад), воспевающая блаженную Персию, где «красою отроки цветут, стихами Хафеза воспеты»:
Завет священного Корана
Пророка мудрый волю чтит,
Живет без лжи и без обмана,
Зла никому он не творит.
Всегда держа себя достойно,
В дому своем сидит спокойно
И часто тайные красы
Прелестных отроков ласкает,
В отрадном кайфе пребывает:
И жизни пролетят часы.
И Азраил счастливца вводит
В Аллахов радостный Эдем,
Чтобы встречать его, выходит
Там гурий-юношей гарем;
Их лики, как луна, сияют,
Шальвары радугой блестят,
И тут счастливца увлекают
Они с собой в небесный сад…
Разумеется, поэма Шенина – в значительной степени мечта, фантазия. О Пажеском корпусе придется еще вспомнить, но вот, кстати, разительный пример. В пажах провел свою юность малоизвестный ныне литератор Александр Васильевич Дружинин. И что же? – «натурал»! Столь очевидный, махровый, можно сказать, что название направления в русской литературе, к которому он был причастен, – «натуральная школа» – как нельзя более полно соответствует его убеждениям. Весьма поучительны его дневники, вышедшие в свет лишь в 1980-е годы и оживившие интерес к личности автора давно забытой повести «Полинька Сакс». Прожил он всего сорок лет, умер от чахотки (то есть, туберкулеза – болезни, как-то сопутствующей особенному приапизму). Из пажей был выпущен в гвардейский Финляндский полк, где сильно подружился с Павлом Андреевичем Федотовым, по отзыву Дружинина, «человеком аскетическим».
Личность этого самобытного художника, несомненно, притягивает. Барышни какие-то мелькают, но заведомо без всяких последствий. Казалось бы, почему и нет: с денщиком, конюхом, барабанщиком… Но ведь природных наклонностей не одолеть, а при отсутствии желанного предмета или невозможности с ним соединиться, нас всегда может выручить незатейливый, но надежный способ. С Федотовым, судя по всему, было именно так.
Как-то Дружинин скучал в своей деревне в Гдовском уезде, без привычных ему городских утех, и вспомнил афоризм их с Федотовым однополчанина Дрентельна, находившего много общего между запойным пьянством и онанированием втихомолку. «С этой стороны, – заметил беллетрист, – я пьяница и должен стараться если не о искоренении порока, то, по крайней мере, о введении его в должные границы»…
Рано уйдя в отставку, Дружинин посвятил себя словесности. Сотрудничал с журналом «Современник», что давало скромные, но достаточные средства, чтобы иметь роскошную квартиру близ Владимирской церкви. По собственному признанию, «любя женщин ужасно», был неутомим с разными Лизеттами, Бертами, Сонями, именовавшимися им «доннами». Как человек приличный и на виду, для такого рода забав снимал специальную квартирку в уединенном местечке, близ Смоленского кладбища, в доме пожилого своего приятеля, Алексея Дмитриевича Михайлова, которого он именовал «Сатиром». Дмитрий Владимирович Григорович, товарищ Дружинина, вспоминал, что никаких особенных оргий на Васильевском не происходило. Гости и «донны» просто водили хороводы вокруг установленной посреди комнаты гипсовой Венеры.
Дружинин был человеком общественным, что в середине прошлого века подразумевало бесчисленные визиты, балы, лотереи и, разумеется, обеды: у Дюссо, Бореля, Кюба. Таким образом, пятачок, на котором эти ресторации помещались – Морские, между Невским и Кирпичным переулком – был отлично ему знаком. Ресторан А. Бореля, любимый авторами «Современника» и «Отечественных записок», находился в доме Руадзе (Большая Морская, 16), построенном в начале 1850-х годов (арх. Р. А. Желязевич). Дом был записан на жену Руадзе, служившего сначала смотрителем при слонах в зверинце, а потом театральным кассиром. Государь Николай Павлович поинтересовался, откуда у скромного служащего такие деньги, чтоб отгрохать громадный четырехэтажный дом. Призвана была красавица-жена Руадзе, ответившая на прямой вопрос, потупив очи, что деньги – «приобретенные собственными средствами»…
Соседний, известный нам косиковский дом в 1858 году перешел во владение Елисеевых. Эта торговая фирма, специализировавшаяся на продаже вин, фруктов и бакалеи, основана ярославским крестьянином Петром Елисеевичем Елисеевым, в 1813 году открывшим лавочку «колониальных товаров» в котоминском доме на Невском, 18. Сыновья его, Григорий и Степан Петровичи, владели уже многомиллионным состоянием, собственными кораблями и винными оптовыми складами в Хересе, Бордо и Мадере. Елисеевы значительно расширили и перестроили косиковский дом, с соседними флигелями по Морской и Мойке занявший целый квартал. Ряд помещений у Елисеевых сдавался в аренду под общественные нужды. В главном корпусе, со стороны Невского, устраивались музыкальные вечера и балы так называемого Благородного собрания. На Морской находился известный в истории отечественного либерализма «Шахматный клуб», основанный в 1853 году.
При кажущейся определенности названия, не шахматы были основным занятием клубменов. Заседали здесь российские литераторы: Дружинин, Боткин, Тургенев, Григорович, Некрасов, Панаев, Фет. Устраивались отличные обеды, после чего кто играл в биллиард, кто, действительно, в шахматы, а там и – к девкам…
Большинство перечисленных лиц вне всяких подозрений. Разве что князь Петр Владимирович Долгоруков, вошедший в этот круг, вернувшись из Севастополя, где находился при военном госпитале в дни знаменитой обороны. Князь-генеалог отлично пел французские романсы и цыганские песни. Жена ничуть ему не мешала, а вскоре он ее покинул, да и вообще Россию – чтобы заняться разоблачением отечественных порядков на чужбине.
Факт женатости сам по себе ни о чем не говорит. Вот, например, Иван Сергеевич Тургенев: женат, как известно, не был, однако в 24 года зачал дочь, им признаваемую, Полину Брюэр. Седобородый великан с высоким женским голосом, пришпиленный смолоду к юбке властной матери, а последние сорок лет жизни влачившийся за Полиной Виардо. Любил Иван Сергеевич, приподняв полы сюртука, поканканировать, но… и ничего. Ездил с Дружининым по борделям, радовался жизни во всех натуральных ее проявлениях.
Знаток английской литературы, переводчик Шекспира, плодовитый беллетрист и литературный критик, Дружинин был известен и ценим друзьями за те творения, которые в большинстве не дошли до нас, а уцелевшие хранились до последнего времени в глубине архивов. Подлинной страстью писателя было «чернокнижие», иначе говоря, похабщина, которую в стихах и прозе сочинял он и читал, особенно в кругу дам определенного сорта. Образцы этой литературы, дорвавшись до гласности, публикуют сейчас все, кому не лень, и очевидно, что соотношение литературной порнографии «натуральной» школы к «школе Шенина» вполне пропорционально существующему в реальной жизни. «Натуралов» – нравится это кому или нет – все же значительно больше.
Хоть никогда нельзя сказать с полной уверенностью. Стоит заглянуть куда-нибудь в письма, дневники, не предназначенные, по своей природе, для посторонних лиц. И в них, конечно, далеко не всегда что-то остается. О публикациях – с купюрами, точками в угловых скобках на самом интересном месте, нечего и говорить; но и в архивах добродетельные родственники, чуткие душеприказчики бесстрашно вымарывают и вырывают страницы. Да каждый ли сам перед собой настолько откровенен, чтоб все уж так и выкладывать на бумагу, хотя бы в дневник?
Вот один из любопытнейших памятников нашей словесности – «Дневник» Александра Васильевича Никитенко (далеко не чуждого, кстати, дружининским забавам и с удовлетворением отмечавшего вечера, проведенные с «чернокнижниками»). Много интересного из истории русской литературы, которую обрезал пятьдесят лет цензорскими ножницами Александр Васильевич, можно узнать из его записей, препарированных для публикации дочерью. О личной жизни там настолько мало, что читатель не сразу может догадаться о семейном положении автора, впрочем, вполне пристойном, никаких пересудов не допускающем.
Однако же, в карьере Никитенко весьма многое подразумеваемо. Он по происхождению крепостной, из маленького городка Острогожска Воронежской губернии, бывшего в 1810-е годы местом расквартирования драгунской дивизии. Алексаша быстро перезнакомился со многими офицерами, получил стимул к дальнейшему образованию и ухитрился, через основанное в канун Отечественной войны Библейское Общество, выйти на тогдашнего министра духовных дел и народного просвещения князя Александра Николаевича Голицына. Фигура, весьма специфически окрашенная. Восемнадцатилетний юноша, по протекции князя Голицына, оказался в 1822 году в Петербурге. Помещик его освободил, Никитенко поступил в университет, на философско-юридический факультет, и в двадцать пять лет стал уже университетским профессором, занимаясь одновременно и цензурованием разных рукописей. Странна дружба с ним Якова Ивановича Ростовцева, начальника военно-учебных заведений, который, по положению своему, никак, казалось бы, не должен быть на «ты» с профессором, в отрочестве, очевидно, поротым на конюшне жестокосердым помещиком.
Ученая карьера Никитенко тем загадочнее, что он совершенно не был способен к иностранным языкам, казавшимся необходимыми в общениях между тогдашними образованными людьми… Но что ж, новый 1837 год встречал он в компании Ростовцева на квартире не у кого иного, как А. Ф. Шенина, сотрудничал с которым по «Лексикону» Плюшара.
Вернемся к «Шахматному клубу». Как часто бывает с общественными инициативами, настал черед, когда деньги на содержание этого заведения иссякли, и клуб, лет через семь, прекратил существование. Но тут явился младой богач: граф Григорий Александрович Кушелев-Безбородко, не жалевший денег на поощрение изящных искусств, и клуб возродился, в том же елисеевском доме на Морской. К сожалению, у молодого графа было какое-то особенное пристрастие к либерализму, неразборчив он был в своих знакомствах и увлечениях. «Шахматным клубом» завладели тогдашние демоны революции: Чернышевский, Серно-Соловьевич, Лавров, братья Курочкины; стали устраиваться собрания с зажигательными речами. Тут и на самом деле случился колоссальный пожар в Апраксином дворе, сочтенный за происки революционеров, и клуб, не доживший, по возобновлении, до пяти месяцев, был закрыт окончательно в мае 1862 года.
Да, раз уж назван Кушелев-Безбородко, трудно удержаться и не напомнить об известном анекдоте. Молодой человек (ему было 23, когда умер отец), владелец одного из громаднейших состояний в России, с полумиллионным годовым доходом, влюбился в женщину нестрогих правил, брат которой, Николай Кроль, принадлежал к отчаянной литературной богеме. Дама была с биографией: в юности обратила на себя внимание сластолюбивого монарха, Николая Павловича, и выдана была потом замуж за офицера; вскоре овдовела, вышла замуж вторично. Вот тут-то юный Кушелев ею был пленен. Порочный муж продал ему жену за сорок тысяч; сумма немалая, но Любовь Ивановна на туалеты и драгоценности стала изводить куда больше. Почему-то этот сюжет считается похожим на историю князя Мышкина; разве что в том сходство, что граф Григорий Александрович страдал пляской святого Витта. Вообще он был богатым графоманом, для публикации своих произведений основавшим журнал «Русское слово». Так почитал знаменитого Александра Дюма-отца, что выписал его из Парижа, поселив в своей роскошной Кушелевке. Те деньги, которые не проматывала жена в Париже, отдавал на благотворительность: богадельни, школы, дома призрения. Действительно, был не совсем от мира сего. Народ наш любит блаженненьких, и кушелевские крестьяне, не обремененные, надо полагать, добрым барином разными повинностями, оплакивали его, проводив в Александро-Невскую лавру в 1870 году.
После октябрьской революции елисеевский дом стали называть «Домом искусств». В Петрограде почему-то сразу оказалось негде жить, и здесь образовалось нечто вроде коммуны, где обнищавшие интеллигенты имели возможность питаться и ночевать. Вспоминается целая обойма: Гумилев, Мандельштам, Пяст, Аким Волынский, «Серапионовы братья», Александр Грин…
Ходасевич жил здесь со второй своей женой, Анной Ивановной, сестрой литератора Георгия Чулкова, самоотверженно опекавшей болезненного поэта в трудных условиях «военного коммунизма». Однако неблагодарный Владислав Фелицианович увлекся Ниной Николаевной Берберовой и, по мнению некоторых, убежал из Советской России не столько из неприязни к режиму, сколько для того, чтобы скрыться от преданной (вот амбивалентность русского слова!) жены.
Надо вспомнить еще столовую с продовольственными пайками, поэтические вечера в елисеевских гостиных (благо здесь не отключали электричество и худо-бедно топили), гумилевскую студию юных дарований (типа Одоевцевой и сестер Наппельбаум), философские симпозиумы, обед в честь Герберта Уэллса – кого тут только не перебывало в 1919–1921 годах!
В сущности, Дом искусств был первым опытом перевоспитания интеллигенции путем подкормки, что и в дальнейшем действовало у нас столь же эффективно, как высылка на Соловки или Беломорканал. Любопытно, что начались Соловки сразу вслед за закрытием Дома искусств. Не все оказались перевоспитаны, некоторых пришлось расстрелять или отправить за границу, но кое-кто уцелел.
Глава 11
Большая Конюшенная.
Малая Конюшенная.
Измайловский проспект
Гоголь и Пушкин в «Демутовом трактире». – Запрет «Философических писем» в николаевской и брежневской России. – Золотое детство П. Я. Чаадаева. – М. И. Жихарев как «ксенофонт». – Камердинер Иван Яковлевич. – Преимущества крепостного права. – Интимная подоплека злословия Ф. Ф. Вигеля. – Тайная любовь П. Я. Чаадаева. – Эстетизм К. Н. Леонтьева. – «Люди лунного света». – Ресторан «Медведь». – Басня о влюбленности А. Н. Апухтина в А. В. Панаеву. – Алексей Валуев и Алексей Апухтин. – Вкусы С. И. Донаурова. – Фантастическая жизнь Лукьяна Линевского. – Дискотека «69». – «Голубой ренессанс» в демократической России
В преданьях петербургской старины нередко встречается «Демутов трактир». Современный его адрес: Мойка, д. 40 или Большая Конюшенная, д. 27 – мало чем примечательные строения, неоднократно изменявшие свой облик. Собственно, это была гостиница, одна из старейших в Петербурге (основана в 1770-е годы) и очень дорогих (номер обходился до 150 рублей в месяц). За ней, несмотря на перемену владельцев, до самого закрытия, уже в 1880-е годы, сохранялось имя основателя, страсбургского уроженца Филиппа-Якова Демута.
Когда Пушкин останавливался у «Демута», заведение принадлежало дочери первого хозяина, Елизавете Тиран. Занимал поэт обычно 10-й нумер. Забавная подробность: Гоголь, только приехав в Петербург, набрался храбрости прийти к «Демуту», познакомиться с жившим там Пушкиным. Почтительно спросил у лакея, дома ли хозяин. Слуга отвечал, что дома, но спит. «Работал всю ночь?» – робко предположил Гоголь. «Да, работал. Всю ночь в картишки играл».
Из многочисленных постояльцев «Демутова трактира» обратим внимание на одного, прожившего шесть лет в 54-м нумере. Петр Яковлевич Чаадаев. Фигура, в истории русской мысли находящаяся в гордом одиночестве. Автор «Философических писем».
Писал их Чаадаев по-французски, предполагая, должно быть, сразу сделать достоянием европейской мысли, потому что кто же в Европе будет по-русски читать! равно как и в образованном русском обществе. Но первым все же был опубликован – через шесть лет после написания – в журнале «Телескоп» русский перевод первого письма, вызвавший такую бурю, после которой об этом чаадаевском творении в России не было принято говорить до революции 1905 года. Всего писем восемь, и любопытно, что полностью они были изданы, наконец, в оригинале и с переводами, лишь в 1989 году. Были, наверное, причины, по которым их боялись и в сталинской, и в брежневской России, как в николаевское время. Да и сейчас «Философические письма» не утратили актуальности. Это историософское сочинение, указывающее, какие уроки следует сделать России из ее особого положения в мире. Подробное знакомство с этими письмами в нашей книге вряд ли целесообразно.
Чаадаева мы знаем, в первую очередь, по стихам Пушкина («пока свободою горим», «он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес» и т. д.) Есть и такое послание:
О, скоро ли, мой друг, настанет срок разлуки?
Когда соединим слова любви и руки?
Когда услышу я сердечный твой привет?…
Как обниму тебя!..
Можно подумать бог знает что, но на самом деле, кроме условных риторических фигур, бывших общим местом для тогдашних образованных людей, здесь ничего нет.
Конечно, Чаадаев не мог не производить на Пушкина, как и на всех своих современников, сильного впечатления. Он коренной москвич, стали они с братом круглыми сиротами в самом раннем возрасте (Мише было пять лет, Пете – три). Имение осталось за детками стоимостью в миллион (это конец XVIII века, не путайте цены). Детей воспитывала тетушка, старая дева княжна Анна Михайловна Щербатова (брат ее, князь Дмитрий Михайлович, много размышлявший «о повреждении нравов в России», души не чаял в племяннике). Мальчик рос необыкновенно красивым, бойким, замечательно образованным, избалованным и своевольным.
Золотое детство в арбатском доме, нянюшки, мамушки, летом выезды в деревню, зимой бесчисленные визиты к знатным родственникам, с семи лет гувернеры и учителя, наставники в разных языках и науках, в отрочестве лекции в Московском университете. При своем уме, прекрасной внешности, редкой образованности, он обладал удивительным умением пленять. Безупречный такт, отличный французский язык, репутация лучшего московского танцовщика, выделывавшего бойкие антраша в только входившей в моду французской кадрили. С его появлением, писал биограф, «общество, хотя бы оно вмещало в себя людей в голубых лентах и самых привлекательных женщин, как бы пополнялось и получало свое закончание. Оно обдавалось, так сказать, струей нового, свежего и лучшего воздуха». Служил в гусарах, был храбрым офицером: сражался на Бородинском поле, получил за Кульм железный крест, входил в Париж…
«Принц Фортюне», казалось бы, он должен был пользоваться бешеным успехом у женщин. Они, действительно, окружали его плотным кольцом, но все ограничивалось блестящим флиртом и не имело никаких естественных последствий.
Мы узнаем Чаадаева в первой главе «Онегина», с изумительной по двойной перверсии XXV строфой, уподобляющей героя ветреной Венере,
Когда надев мужской наряд,
Богиня едет в маскарад.
Все эти щетки тридцати родов, гребенки, пилочки стальные, духи в граненом хрустале списаны с натуры, с его будуара. Никто в России не умел так носить костюмы. Искусство одеваться он возвел на степень исторического значения. Всю жизнь наш философ был человеком исключительно светским, нуждавшимся в обществе, любившим блистать. Все было ему доступно, и если он от чего-то отказывался, то, очевидно, потому, что в самом деле не хотел.
Пик дружбы Пушкина с Чаадаевым – бесконечные беседы в Демутовом трактире, где Петр Яковлевич, будучи адъютантом командующего гвардейским корпусом, снимал роскошные апартаменты в бельэтаже. Пушкин, помнится, нравился дамам бесстыдным бешенством желаний и, вероятно, интересовался, как с этим обстоит у старшего (всего на пять лет) друга. Судя по «Евгению Онегину», ответ был таков, что рано чувства в нем остыли, красавицы недолго были предмет его привычных дум, и вероятно, двадцатилетнего поэта такой ответ вполне убедил.
Тут надвинулись тучи. Государь объявил, что Пушкин наводнил Россию возмутительными стихами, мог бы наш поэт угодить в Соловки, но, хлопотами друзей, все обошлось увеселительной поездкой на юг. Чаадаев впоследствии не раз подчеркивал, что именно он замолвил словечко в высших сферах. При исключительном эгоизме нашего философа хлопоты за кого-то были, конечно, доказательством нежнейшей привязанности. Пока Пушкин путешествовал из Кишинева в Одессу и в псковские края, Чаадаев достиг высшей степени карьеры, ожидал уж и флигель-адъютантства, но внезапно подал в отставку. Примерно тогда же впали в немилость знакомые нам по предыдущим главам М. С. Воронцов, А. С. Меншиков… Историки так внятно и не могут объяснить, почему где-то годах в 1822–1824 многие господа, близкие по наклонностям, покидали столицу; сваливают все на аракчеевскую реакцию, бунт в Семеновском полку.
Петр Яковлевич долго скитался за границей и вернувшись, навсегда осел в Москве, сделавшись непременным членом Английского клуба. Поселился холостяцким образом во флигеле дома приятельницы своей Е. Г. Левашовой на Басманной улице. История с «Философическим письмом», за которую издатель «Телескопа» Н. И. Надеждин был сослан в Усть-Сысольск, а Петр Яковлевич объявлен сумасшедшим, ничуть не изменила его образа жизни. Он так и жил между Басманной и Тверской (где Английский клуб), встречался на балах с Императором, когда тот навещал старую столицу. Тихо скончался в 1856 году.
Кроме злополучных писем, Чаадаев ничего не публиковал. В этом смысле можно сравнить его с Сократом, философом, от которого не осталось ни одной написанной им строки, а знаем мы о нем со слов его учеников: Ксенофонта и Платона (излагавшего, впрочем, под именем сократических, собственные идеи).
У Чаадаева был такой ксенофонт: Михаил Иванович Жихарев, ничем другим, кроме дружбы с Петром Яковлевичем, не замечательный. Познакомились они в 1838 году. Мише (троюродному племяннику упоминавшегося выше «арзамасца») было восемнадцать, Петру Яковлевичу сорок четыре. Понятно, беседуя с юным другом, Чаадаев скостил себе пару-другую лет – но день рождения его биографу был известен точно: 27 мая. Можно только быть благодарным Жихареву (семьей, кажется, не обзаведшемуся) и порадоваться за Чаадаева, что на нем исполнилось то, о чем мечталось другому его ученику. На его закат печальный любовь блеснула улыбкою прощальной.
Биография П. Я. Чаадаева, написанная М. И. Жихаревым в 1860-е годы, полностью оказалась опубликована лишь через 120 лет. Некоторые цитаты могут прояснить то, что было непонятно современникам великого человека.
«Чаадаев имел огромные связи и бесчисленные дружеские знакомства с женщинами. Тем не менее никто никогда не слыхал, чтобы которой-нибудь из них он был любовником… Сам он об этом предмете говорил уклончиво, никогда ничего не определял, никогда ни от чего не отказывался, никогда ни в чем не признавался, многое давая подразумевать и оставлял свободу всем возможным догадкам. Тогда я решился напрямки и очень серьезно сделать ему лично вопрос, на который потребовал категорического ответа: „Правда или нет, что он всю жизнь не знал женщин, если правда, то почему, от чистоты ли нравов или по какой другой причине“. Ответ я получил немедленный, ясный и определенный: „Ты это все очень хорошо узнаешь, когда я умру“. Прошло восемь лет после его смерти, и я не узнал ничего. В прошлом годе, наконец, достоверный свидетель и, без всякого сомнения, из ныне живущих на то единственный, которого я не имею права назвать, сказывал мне, что никогда, ни в первой молодости, ни в более возмужалом возрасте Чаадаев не чувствовал никакой подобной потребности и никакого влечения к совокуплению, что таковым он был создан… Желая еще более углубиться в этот предмет, я подвергнул свидетеля еще некоторым вопросам, но за неполучением на них ясных ответов больше ничего утверждать не смею, хотя из недосказанных намеков и из некоторых слухов, впрочем, совершенно на ветер и особенного внимания не стоящих, мог бы, кажется, пуститься в некоторые догадки…»
Позволим усомниться, так ли уж Мишель ничего не подозревал, семнадцать лет бок о бок находясь с Петром Яковлевичем, с которым, при двадцатипятилетней разнице в возрасте, был на «ты». Все разъясняется из следующей цитаты, изящно помещенной Жихаревым в виде примечания к вопросу совсем посторониему. У Петра Яковлевича был камердинер, звали его Иваном Яковлевичем. Жихарев скромно пояснил: «Он был гораздо более друг, нежели слуга своего господина, и, по рассказам, – я его лично не знал за преждевременной смертью – отличался большой щеголеватостью, очень хорошим тоном, чрезвычайно утонченными приемами, хотя от природы был довольно прост… был до такой степени порядочным человеком, что одна дама, великолепнейшая барыня, которую только можно видеть, бывая у Чаадаева, всегда с ним здоровалась, а Пушкин подавал ему руку»…
Рассуждая о пушкинском времени, мы обычно упускаем из виду, что все эти Вигели с Уваровыми жили, двигались, ели, спали и путешествовали в окружении кучи народу. Кто-то им подавал одеться, отдергивал штору, вносил чашку с бульоном, закладывал карету, подметал комнаты, мух отгонял во время послеобеденного сна. Вся эта дворня, челядь, прислуга, – все это шевелилось, обволакивало, угождало и подличало беспрестанно. Мейерхольд, кстати, гениально это изобразил в постановке «Дон Жуана», в которой герой беседовал с дамами отнюдь не наедине, а в окружении мельтешащих маленьких арапчат, которые двигали мебель, зажигали и тушили свечи, играли на лютне и т. д. Существование этого безмолвного фона почему-то выносится нами за скобки исторического быта. А ведь в особенности в России, где прислуга была крепостной, она не могла не делать все, что от нее требуется.
Разумеется, здесь разницы нет, какие наклонности. Например, Александр Иванович Тургенев (всеобщий друг знаменитых людей той эпохи) писал: «На что обольщение, изнасилование там, где ничто и никто не противится беззаконному сладострастию, и в земле, где… не должно наказывать и отнимать у помещика жены его крестьянина, для того чтобы не возбудить сим примером и в других подобных требовать жен своих от своих помещиков»…
У барина-сибарита камергер, естественно, носил фрак от лучшего портного. Как-то Чаадаев должен был явиться к государю непременно во фраке, которого в данный момент не оказалось. Камердинер Жан дал со своего плеча. Он так соответствовал своему изысканному барину, что его самого принимали за «благородного». Тогда, как и в советское время, русские люди, которым позволено было отбыть за границу, считали необходимым отметиться там в посольстве. Чаадаев, будучи в Дрездене, не составил исключение. Посол стал ему жаловаться, что какой-то знатный русский, появившийся в этих краях, не желает ему представиться. «Да вот же он», – воскликнул посол, указывая на проходившего по Брюлевской террасе мужчину во фраке. – «Что тут удивительного, – отвечал Петр Яковлевич, – это же мой камердинер».
Итак, равнодушие к женщинам вовсе не означало, что Петр Яковлевич был лишен полового чувства. В этом отношении примечательна взаимная неприязнь Чаадаева и Вигеля.
Филипп Филиппович прославился своими мемуарами. Писал он их для себя и для потомства, при жизни не публиковал, хотя любил зачитывать отрывки в разных компаниях. И вот, в своих записках он вспоминал, как живший в Демутовом трактире Чаадаев принимал гостей на особого рода возвышении, сидя в креслах, справа от которых был портрет Наполеона, а слева – Байрона. Между кадками с зеленью помещался портрет самого хозяина, со стихами Пушкина, сравнивавшими Петра Яковлевича с Брутом и Периклом. Злоязычие Вигеля известно, но с Чаадаевым у него были особые счеты.








