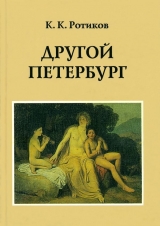
Текст книги "Другой Петербург"
Автор книги: Константин Ротиков
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 33 страниц)
Глава 12
Мойка, 12
«Донон» и «Аполлон». – Вид с Певческого моста. – И. И. Пущин и А. С. Пушкин. – А. С. Пушкин и князь П. А. Вяземский в бане. – Равнодушие Пушкина к гомосексуализму. – Князь П. М. Волконский как прототип князя Андрея Болконского. – Соперничество с Витгенштейншей из-за любовника. – Где была дуэль на Черной речке? – Пушкинисты не учитывают переездов и беременностей. – Образцовое супружество Геккерна и Дантеса. – Наталья Николаевна цитирует «Евгения Онегина». – Глупости Дантеса. – Князь И. С. Гагарин и князь П. В. Долгоруков. – В дуэли Пушкина нет морали
У Анны Ахматовой есть не лишенный каламбурности стих о Смоленском кладбище, на котором кончалось все, в том числе и обеды у Донона. Вряд ли поэтесса имела в виду, что Донон кормил недоброкачественно, но все равно смешно. Ресторан был старинный. В 1849 году некто Жорж, предлагавший едокам макароны и печеный картофель, продал свое заведение на Мойке, д. 24, Жану Баптисту Донону. Отсюда название ресторана, сохранявшееся, несмотря на перемены владельцев.
Адрес этот связан с историей русской поэзии, и, вероятно, в дежурных экспромтах посетителей «Донон» неизбежно рифмовался с «Аполлон». Журнал, так называвшийся, как помнит читатель (см. главу 6), начал выходить в 1909 году и продолжался до самой большевистской революции. Редакция на первых порах помещалась на Мойке, д. 24: вход из подворотни, направо по лестнице. Позднее переехали к «Пяти углам» – на Разъезжую, д. 8. Там же была петербургская квартира редактора «Аполлона» Сергея Константиновича Маковского.
Стоит ли подробнее о нем? Среди сотрудников, называвших своего бонтонного шефа, появлявшегося в редакции исключительно в смокинге, «папа Мако» – много было несомненных апологетов мужской любви. Не только Кузмин, постоянно здесь печатавшийся.
Но сам Сергей Константинович? Был женат на певице Марине Эрастовне Рындиной (отбил ее, кстати, у В. Ф. Ходасевича). Каких-то особенных признаков в том, что мы о нем знаем, не ощущается. Можно назвать его «маленьким Бенуа», без неисчерпаемой эрудиции и обаяния Александра Николаевича, но с тем же намерением задавать тон современной художественной критике. Он был сыном Константина Егоровича Маковского, одного из даровитых живописцев своего времени. Матери его, Юлии Павловне Летковой, было всего восемнадцать, отец на двадцать лет ее старше. Воспитывать его пришлось матери, так как ветреный Константин Егорович ушел к другой, едва сыну исполнилось одиннадцать лет. Сергей учился в Александровском лицее, потом на физико-математическом факультете университета. Начал писать стихи, одобренные графом Арсением Аркадьевичем Голенищевым-Кутузовым, сановником и поэтом, с которым познакомил его лицейский соученик, Федя Случевский (сын поэта и тоже камергера, Константина Константиновича).
Все со всеми знакомы. Мать Сергея была приятельницей Александры Валерьяновны Панаевой. «Стройная, мужественно-властная, великолепная», как описал ее Маковский в своих мемуарах, актриса известна нам как приятельница Апухтина. И с ним был знаком юный Сергей, поэтом «с заплывшим бабьим лицом, но обворожительно читавшим свои салонные стихи».
«Аполлон», в лице своего главного редактора, уделял развитию русской поэзии особенное внимание. На Мойке начала действовать поэтическая академия «Общество ревнителей художественного слова». И кто ж здесь был? Анненский, Гумилев, Волошин, Сологуб… Блок, разумеется; Георгий Иванов, Лозинский, Мандельштам, все лучшее, что существовало тогда на российском Парнасе.
Представьте мысленно, что вы находитесь у Певческого моста. Позади Капелла (ну, конечно, хор мальчиков, ангельское пение, но на самом деле в таких заведениях, со строгой дисциплиной и бесконечными утомительными репетициями, как раз ничего интересного-то и не происходит). Кружевные перила моста, вид на площадь, с клинообразным углом бывшего министерства иностранных дел, из-за которого разворачивается гигантская перспектива с одинокой колонной посредине, маячащими вдали Исаакием и шпилем Адмиралтейства. Дух замирает! И далее, по Мойке – изгиб реки, мосты через Зимнюю канавку, арка, перекинутая к Эрмитажному театру… Напоминает Уффици во Флоренции, но лучше, гораздо лучше!
Мойка, д. 14 – хороших пропорций, уютный домик (десять окон по фасаду), украшенный почему-то бюстами Сократа, четырежды повторенными в круглых нишах, но, вероятно, без всякой задней мысли (появились они при перестройке в 1840-е годы архитектором Б. Б. Гейденрейхом).
Дом принадлежал генерал-интенданту флота И. П. Пущину, отцу Ивана Ивановича. «Жано», «мой первый друг, мой друг бесценный». Соседи по каморкам в царскосельском Лицее. Благородная и чистая натура Ивана Пущина исключает какие-то подозрения в неискренности и лицемерии. Ничего в своей дружбе с Пушкиным он не утаивал. Да и что, собственно, утаивать? За порок мы это, естественно, не сочли бы, но на шевелящийся в душе читателя вопрос ответим решительным: нет.
Уверены, что нет. Пожалуй, вырванные отдельные строки («отрок милый, отрок нежный»; «уж я не мальчик – уж над губой могу свой ус я защипнуть»; «на талом снеге, как будто спящий на ночлеге, недвижен юноша лежит» и т. п.) на что-то как бы намекают, но это иллюзия. Для воспаленного воображения можно подсказать, как встречался Пушкин с московским своим приятелем Павлом Воиновичем Нащокиным, прославившимся созданием кукольного домика – копии его квартиры «у старого Пимена». Друзья бросались в объятия друг к другу, целовали и гладили руки, Александр Сергеевич мог часами глядеть на Павла Воиновича и любоваться. Или вспомнить, как, вернувшись в 1826 году в Москву, Пушкин сразу направился к Вяземским и узнав, что князь Петр Андреевич в бане, тотчас помчался туда, встретившись со старшим другом в семейных номерах… А как кувыркались они с малолетним Павлушей Вяземским, дрались в шутку и плевались друг в друга… Не говоря уж о групповых оргиях с Алексеем Вульфом. А как Наталья Николаевна плакала, когда после первой брачной ночи он закатился куда-то с друзьями пьянствовать и был невесть где целый день!
Да все потому, что он был здоровый, крепкий, сильный человек, радостно и полно живший, все знавший, многое предвидевший. В нем настолько сконцентрирована жизненная энергия, что мы, совершенно независимо от пола, до сих пор любим его, как живого. Плачем от счастья, что он есть, ревнуем его к тем, кого он любил, не верим, что кто-то любит его сильнее, чем мы.
Не назовем особенности многих героев нашей книги отклонением и ненормальностью, но это, действительно, нечто специфическое, присущее отдельному индивидууму. И Пушкину это совершенно не было нужно. На что указывает полная его индифферентность в отношении ко многим мужеложникам, бывшим среди его знакомых. Гомофобы – это, по преимуществу, тайные гомосексуалисты или несчастные люди, не желающие признать своей сущности.
Как-то княгиня Вера Федоровна Вяземская (жена Петра Андреевича), поджав губы, выразила удивление Наталье Николаевне, что муж ее держит у себя портрет Вигеля. Пушкин в это время был в Болдине и отписал жене, чтоб сказала княгине: «Напрасно она беспокоится… с этой стороны честное мое поведение выше всякого подозрения, но… из уважения к ее просьбе, я поставлю его портрет сзади всех других».
Дом на Мойке, 12, всем известный, принадлежал светлейшей княгине Софье Григорьевне Волконской. Будучи супругой министра императорского двора, княгиня имела квартиру в Зимнем дворце. Вообще-то она предпочитала жить во Франции или Швейцарии (где и умерла). Квартиры в доме на Мойке сдавались внаем. Старушка отличалась крайней скупостью; как-то она была задержана на одной почтовой станции за границей по подозрению, что особа в столь затрапезном платье не могла быть хозяйкой мешка с драгоценностями, зажатого у ней в руке. На приемах и ужинах княгиня старалась ухватить со стола в карман печенья и сухариков, а иногда, гуляючи пешком, подбирала на улице полено, чтоб было чем топить камин.
Нет надобности напоминать, что она входила в круг высшей аристократии России. Старческие ее чудачества – наследство, вероятно, отца ее, славного сподвижника Суворова, генерала Григория Семеновича Волконского, женатого на дочери фельдмаршала Н. И. Репнина. Как незабвенный наш полководец любил кукарекать петушком, так и ратники его были не без странностей.
Довольно покуролесил смолоду и брат Софьи Григорьевны, князь Сергей Григорьевич, основавший впоследствии Южное общество. Приятель Пестеля (вот ужасная личность и, наверное, не без гомосексуальных наклонностей). Старушка Волконская ездила к брату в Сибирь, что делает честь ее родственным чувствам. Другой ее брат, Никита, был женат на той самой Зинаиде Волконской, в которую был влюблен юноша Веневитинов.
Муж Софьи Григорьевны – один из выдающихся деятелей царствования Александра I. Князь Петр Михайлович Волконский, всего на год старше будущего императора, стал адъютантом великого князя в двадцать лет. В 1805 году князь, которому еще не исполнилось тридцати, совершил подвиг, художественно запечатленный дальним родственником его, графом Львом Николаевичем Толстым. Как и жена Петра Михайловича, Толстой приходился ему по матери чем-то вроде семиюродного: дедушки прадедушек Марии Николаевны Волконской, матери писателя, и отцов Софии Григорьевны и Петра Михайловича были родными братьями.
Князь Андрей, бегущий с флагом на французов в 1-м томе «Войны и мира» это князь Петр Михайлович, который, действительно, размахивая флагом Фанагорийского полка, заставил неприятеля отступить с захваченных позиций в Аустерлицком сражении. Тесть Петра Михайловича, князь Григорий Семенович, и есть старик Волконский. Слава Богу, в отличие от своего литературного двойника, князь Волконский не получил смертельной раны на Бородинском поле. В кампанию 1812 года он находился при особе Государя, а в следующем году возглавил Генеральный штаб, собственно им основанный. Верный друг Императора Александра Павловича, он входил в весьма ограниченный круг лиц, бывших непосредственными свидетелями того, что происходило осенью 1825 года в Таганроге. И если Александр Благословенный не умер, а, в покаяние за отцеубийство, превратился в странника Федора Кузьмича, об этом мог знать наверняка только князь Петр Михайлович, унесший эту тайну в могилу.
Осыпанный всеми мыслимыми почестями, кавалер всех российских орденов, светлейший князь, он, по восшествии на престол Николая I, получил своего рода пенсион – почетное и тихое место министра двора, на котором находился более четверти века.
Подробности эти вот к чему. Александра Осиповна Смирнова-Россет, черноокая красавица, приятельница всех наших знаменитых писателей, по настоятельному требованию Пушкина начала писать мемуары. Начинала она их неоднократно, так и не закончила, но много любопытного там запечатлено для потомства. Так, записала она о светлейшем князе Волконском, что у него «были вкусы против натуры, но кроме этого ничего не было предосудительного». Среди ближайших ее подруг была учившаяся вместе с ней в Екатерининском институте Стефания Радзивилл, вышедшая замуж за Витгенштейна – дама, баснословно богатая и похотливая. Одно время княгиня Стефания была увлечена своим управляющим, неким Крыжановским. Тот же был любовником светлейшего, который решил подарить красавцу дачу «Павлино», купленную у Виельгорских. Раздосадованная Витгенштейнша нарочно велела мужу перекупить дачу, чтоб только не досталась сопернику Волконскому…
Не лишне заметить, что Пушкин переехал в квартиру в этом доме на Мойке (15 окон «от ворот до ворот») – в сентябре 1836 года. Нам кажется, во всех этих околодуэльных рассуждениях мало учитывается реальный фон: переезды эти, возы, груженые мебелью, маляры, обойщики, тюки с книгами, запах краски, суета, бестолочь, – все, что неизбежно сопровождает любые переезды, – и как раз в те несколько недель, когда все произошло.
Вот уж, кажется, сколько понаписано, а ничего толком не известно. Даже где дуэль-то эта чертова происходила. Согласно Данзасу, единственному свидетелю, уезжали они с Пушкиным от Вольфа с Беранже в 4-м часу. Далеко ли могли заехать, учитывая ранние (27 января) сумерки, чтобы в темноте хоть видеть друг друга? Хорошо, если успели до окраины Строгановского сада (где метро «Черная речка»), но уж никак не до места, отмеченного обелиском. Монумент, кстати, установлен в 1937 году, и для него использовали – без задней мысли, но получилось символично – камень с могилы поэта Фридриха-Максимиллиана Клинкера, друга Гете, с ним основавшего кружок «Schturm und Drang» («Буря и натиск»), ставшего впоследствии директором петербургского Кадетского корпуса и похороненного на Смоленском кладбище…
Само событие не стоит, разумеется, цистерн чернил, употребленных на выяснение обстоятельств так называемыми «пушкинистами» (созвучие с онанистами здесь крайне уместно). Разумеется, мы здесь имеем в виду тех многочисленных доморощенных любителей, которые, перелистав Вересаева с Бартеневым, начинают упражняться, и все почему-то на единственную тему. Нет того, чтобы поразмышлять об «Евгении Онегине» или «Капитанской дочке». Непременно только о «Натали» (этакая фамильярность; кто бы их в прихожую к Пушкиным пустил)!
Ведь что характерно: насочиняют откровенный бред, напорют чушь несусветную, а потом с умным видом разъясняют, почему не было того, чего и быть никак не могло, кроме как в мозгах, разгоряченных пушкиноблудием. То у них царь волочился за Натальей Николаевной, то она форменным образом отдалась бойкому французу, то Дантес кольчугу нацепил, то жандармы сидели в кустах, то Бенкендорф их не туда послал… Бойкость в мыслях необыкновенная.
Ничего назидательного в общественном смысле в этой дуэли нет. Дело сугубо личное, и если б вынести за скобки, что Пушкин… нам и сейчас его до слез жалко – но если не Пушкин, а вообще, – что тут такого в этом деле для людей посторонних (каковыми мы являемся)?
История заняла примерно год. В начале 1836 года Геккерн отсутствовал в Петербурге, Дантес писал ему письма и, судя по ним, увлечение Натальей Николаевной началось в январе. Объяснение, по словам Дантеса, произошло в феврале. Наталья Николаевна была тогда, между нами говоря, на шестом месяце: дочь Наташа родилась 23 мая.
Мы не знаем, как там они шнуровались, красились. Придавали, по-видимому, беременности меньшее значение, чем сейчас; все время ведь приходилось либо рожать, либо выкидывать; контрацептивы начисто отсутствовали. Анна Осиповна Смирнова, только что помянутая, из любви к маскарадам, будучи беременной, сочинила себе костюм китайского мандарина: чтоб ее выносили в паланкине. В удовольствии блеснуть на маскараде не могла себе отказать. Ну, Наталья Николаевна как-то выкинула, натанцевавшись на масляницу в 1834 году. Но все же, кроме пушкинокошонствующих импотентов и синечулочниц, трудно представить такой вызов природе: накануне родов, сразу после них, в семье, на даче, окруженной четырьмя детьми, с грудной Татой – какие тут романы!
Барон Лун Борхард ван Геккерн де Бевервард был голландским посланником при русском дворе с 1826 года. Он довольно часто ездил по своим делам туда-сюда и вот, осенью 1833 года, где-то на постоялом дворе в Германии, увидел мечущегося в горячке от простуды Дантеса. Геккерн был тогда ровно вдвое старше юноши; любовь родилась мгновенно. Посланник самоотверженно ухаживал за бедным больным, пока Жорж-Карл не оказался в полной безопасности.
8 сентября Дантес приехал в Петербург. Прекрасный эльзасец, белокурый, высокий, умевший располагать к себе и женщин, и мужчин. С Геккерном они были неразлучны; какой-то недоброжелатель (завидовал, наверное) фыркал: «один из самых красивых кавалергардов и наиболее модных людей – и рядом с ним не то крупный иноходец, не то ручка от метлы». Корнетом Кавалергардского полка Дантес стал в феврале 1834 года; только ему исполнилось двадцать два; родился он 5 февраля. Была в нем этакая легкость нрава, простота, добродушие. Он всем умел быть приятен. В полку считался бравым парнем, девы были от него без ума.
И, в сущности, редкие качества: честность и благодарность. Что б, ему, кажется, в этом сморчке Геккерне? Для «баловства» – самый широкий выбор, лучшее, что мог представить тогдашний «голубой» Петербург; друзей этого рода было у него предостаточно. Голый меркантильный интерес? Не думаем. Почему б ему не жениться, в таком случае, например, на княжне Мари Барятинской, по уши в него влюбленной сестрице будущего фельдмаршала (да она ль одна!) Нет, верность Жоржа Луи Борхарду объясняется лишь простой человеческой привязанностью, расчета в ней нет никакого.
Наоборот, интимная близость с голландским посланником вызывала толки, однако у юного кавалергарда хватало гибкости и такта. Женитьба на Екатерине Гончаровой была, конечно, вынужденным шагом, но Дантес вынес испытание с достойным самообладанием. Жена умерла в 1843 году, и больше Дантес не женился, тогда как совместная их жизнь с Геккерном поражает долготой. Луи Борхард дожил до девяноста лет, Дантес, пережив его на одиннадцать, скончался восьмидесятитрехлетним стариком.
Можно согласиться с Лермонтовым, что Жорж «не мог понять в сей миг кровавый», но странно от него этого требовать. Он в гораздо большей степени, чем Пушкин, добивавшийся именно такой кровавой развязки, был зависим от обстоятельств.
На первый взгляд, наиболее правдоподобна версия, что вся история с ухаживанием за Натальей Николаевной была лишь ширмой для прикрытия гомосексуальных отношений с Геккерном. В этом предположении нет ничего невероятного. Непонятно лишь, чего ради надо было прилагать столько усилий и подвергаться риску, явно большему, чем «разоблачение» факта, в котором вряд ли кто сомневался.
Высказывалось мнение, что Дантес, действительно, любил Наталью Николаевну, но Геккерн интриговал, ревнуя своего возлюбленного. Тоже не сходятся концы с концами, так как гетеросексуальные опыты Дантеса обычно ничуть не омрачали его отношений со старшим другом.
Два письма Дантеса к Геккерну, обычно цитируемые по поводу этой дуэли, если читать их без всякой предвзятости, не только снимают все подозрения относительно Натальи Николаевны, но рисуют симпатичный образ юного повесы, откровенно повествующего любовнику о своем новом увлечении, при том, что уверен в его снисходительности («потому что тебя я также люблю от всего сердца», – пишет он другу). Он объявляет, что влюблен в «самое прелестное создание в Петербурге», муж которой «бешено ревнив», и признается, что сказать предмету о своей любви ему удается лишь «между двумя ритурнелями кадрили». Это 20 января, а 14 февраля он пишет следующее. «Эта женщина, у которой обычно предполагают мало ума, не знаю, дает ли его любовь, но невозможно внести больше такта, прелести и ума, чем она вложила в этот разговор; а его было очень трудно поддерживать, потому что речь шла об отказе человеку, любимому и обожающему, нарушить ради него свой долг».
Разговор, естественно, шел на французском. Как типичная барышня «пушкинского» времени, Наташа по-французски говорила более уверенно, чем по-русски. Однако все же этот язык не был для нее родным, и не исключено, что одни и те же выражения могли иметь для собеседников различный смысл. А мы и вообще судим по двойному переводу: что-то сказала Н. Н., как-то понял ее Жорж и пересказал Геккерну, а мы читаем текст, переведенный с французской публикации в 1946 году М. А. Цявловским.
Так вот, пересказывая ответ Натальи Николаевны, Дантес, не зная оригинала, сочинил по-французски примерно следующее: «Вы должны, я вас прошу меня оставить; я знаю, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Я вас люблю (к чему лукавить), но я другому отдана; я буду век ему верна». Дантес, понятно, знать этого не был обязан (да он и не читал по-русски), но мы-то почему не видим, что Наталья Николаевна попросту пересказала ему сочинение собственного мужа. Да еще представьте конкретную ситуацию: куртуазная болтовня на балу во время мазурки.
С конца февраля балов уж никак не могло быть, седьмой месяц пошел. В конце марта умерла свекровь, Надежда Осиповна. Траур, похороны, безденежье, куча детей, переезд на дачу, – какой там флирт! Ну, спекулируют «пушкинисты» на нескольких письмах злобных бабенок, вроде Софьи Карамзиной, да колкостях князя Вяземского, который сам не прочь был приударить за Натальей Николаевной и сублимировал таким образом. У Дантеса тоже хватало хлопот, помимо романа: «усыновление» его Геккерном произошло как раз в мае 1836 года.
Встречи с Натальей Николаевной могли возобновиться лишь в августе, когда Кавалергардский полк стоял у Новой Деревни, за Каменным островом, где Пушкины снимали дачу. В то лето, кстати, устраивались на Невке серенады: кавалергарды, одетые барышнями, катались на лодочках, смущая окрестных дачников… Ну, пара летних балов на минеральных водах, вечеринки у соседей, а там и переезд в город, на Мойку.
Сборы, хлопоты, муж психует. При чем тут ревность: денег нет, журнал не расходится, «История Петра» едва тянется, прохвост Павлищев настаивает на продаже Михайловского, – самой приходится проверять счета, со Смирдина вовремя требовать авторские; две сестры еще, боящиеся остаться в старых девах, – голова кругом идет, до романов ли!
Со стороны Дантеса, спору нет: он восторженный романтик, смел, дерзок, настойчив. Признаемся, что сами любим таких. Но все уж как-то не ко времени, некстати. Ну, хорош собой, барышни млеют, сестрица Катерина ловит его при всяком удобном случае, но Наталья Николаевна, ведь, хоть и сверстница с Жоржем, мать семейства, светская дама.
Поразительно, «пушкинисты» эти, читая письма Пушкина к жене, хоть бы задумались, какова должна быть женщина, которой муж так пишет! Не говорим об уме, но ведь мы знаем (случай, может быть, единственный в литературе и семейной жизни), каждый знает ее сексуальный темперамент:
О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда склоняяся на долгие моленья,
Ты предаешься мне, нежна без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему
И оживляешься потом все боле, боле —
И делишь, наконец, мой пламень поневоле!
Какое значение для женщины такого склада могли иметь прилюдные беседы с забавным молодым человеком, играющим роль возлюбленного?
Идалия Полетика была подруга и родственница: добрачная дочь графа Г. А. Строганова, двоюродного дядюшки Натальи Николаевны. Муж ее – полковник Кавалергардского полка. Как-то Пушкина заехала к Идалии (квартира была на Шпалерной, в полковом доме, где находились дежурные офицеры). Дантес, только оправившийся от болезни, в первый раз вышел на дежурство и случайно увидел Наталью Николаевну. Идалии Григорьевны дома почему-то не было, и, воспользовавшись ситуацией, пылкий влюбленный бросился перед обожаемой дамой на колени. Наталья Николаевна растерялась, не зная, что делать. А что, действительно: звать слуг, кричать «на помощь»?
Дантес, будто бы, умолял ее расстаться с мужем, грозил застрелиться, отомстить – обычный любовный бред, который (в таком положении, в особенности) мог вызвать лишь досаду и гнев. Наталья Николаевна вышла из комнат, отправилась домой и немедленно рассказала обо всем сестре Александрине, а потом и мужу. Ей скрывать было нечего. Но и Дантеса можно понять, он не привык получать отказы.
Конечно, двадцатипятилетний красавец Жорж не был вместилищем всех добродетелей. Старику барону нравилось, разумеется, потакать капризам избалованного юноши. Можно предполагать, что Геккерн чувствовал себя рабом своего возлюбленного, позволявшего себе поклоняться.
Геккерн был коллекционер, знаток искусства, квартира его была набита антиквариатом безупречного вкуса. И вот, положим, в ходе неизбежных – без них жизнь казалась бы пресной – разборок между любовниками: высокий, гибкий, в шлафроке, открытом на груди, с горящими гневом светлыми глазами, гортанным голосом бранится и не дает поцеловать руку, и швыряет с камина севрскую вазу… Что за беда, если через пару дней, бледный, с темными кругами у глаз, тихий, покорный лежит в кабинете на диване, позволяет подать себе чашку бульону, и гладит руку, и, зажмурив глаза, уступает привычной ласке, – как это все понятно! «Пушкинистом» надо быть, чтобы не понимать. Никакой севрской вазы не жалко.
Красивая женщина для бугра-кавалергарда – та же игрушка, коллекционный раритет. Есть азарт в добыче, в обладании, но особенная сладость – швырнуть вазу с камина, зная, сколько за нее заплачено.
Пушкинистами просчитано все по дням: Дантес болел с 19 по 27 октября. Сколько раз за это время Наталья Николаевна могла встретить где-нибудь на балу Геккерна? Раз, два – когда он, собственно, мог бы ей прогнусавить «верните мне сына», как в азарте писал Пушкин; где бы он ее ловил по углам? Впрочем, естественное желание: поговорить о любимом, но так, будто сам не при чем…
Наталья Николаевна поехала в гости к кузине, по всей вероятности, 2 ноября, через день явились подметные письма, с «дипломом рогоносца». Конечно, шутка была глупа, но уж больно многого мы хотим: мало того, что Дантес был красив, непосредственен, страстен, так он должен быть еще умен. Ну, не был он умен, что дальше? Нравы его круга имели свою специфику. В ухаживании за хорошенькой дамой не виделось ничего предосудительного. Друзья Дантеса с нетерпением ждали развязки романа, и неотразимому кавалергарду казалось, если угодно, неловко признаться в том, что получил отказ. Если б не получил, то, возможно, поскромничал бы, но при явном пренебрежении к себе решил отомстить самым вульгарным образом. По крайней мере, забавно было бы посмотреть, как будет вести себя «бешеный ревнивец». Дантес, конечно, не читал, но мы-то можем припомнить, сам Пушкин признавался в удовольствии зреть, как оплошный враг, склонив бодливые рога, невольно в зеркало глядится и узнавать себя стыдится.
Приятней, если он, друзья,
Завоет сдуру: это я!
Никакого сверхъестественного коварства в этом мы не видим. Уж, тем более, расчета, руководимого каким ни то, но все же дипломатом Геккерном. Его авторство в этом деле следует категорически отвести.
Реакция Пушкина оказалась слишком сложной, Дантесом явно не предусмотренной. Ведь, с точки зрения молодого балбеса, риск был не так велик. Ну, собрались его дружки, занимались общими, всем интересными предметами, как то: играли в карты, курили трубки, пили шампанское. Ну, между двумя робберами раздался вопрос: «как Натали?» – в ответ, должно быть, пожатие плеч, горделиво-сконфуженный взгляд, довольная ухмылка – и тут же гомон поздравлений, изъявлений зависти, воспоминания о собственных, в свою очередь, победах.
Сочинилась шутка. Образчики таких дипломов имели хождение при венском дворе, так что и тут сказалось вечное наше скифское обыкновение ни в чем не отставать от Европы. И столь же неискоренимое непонимание того, что перекладывать на русские нравы европейские образцы – значит погубить здоровую идею в чуждых ей условиях. Одно дело, когда слетелись бы к какому-нибудь славному в Шенбрунне сиятельному рогоносцу дипломы от его приятелей, с которыми он вместе учился в кадетском корпусе, сам славился подвигами, известными в его мужской компании. И здесь, когда к бедному Пушкину приносили дипломы от Хитрово, Виельгорских, Соллогубов – лиц, с которыми он имел полуофициальные светские отношения. Ни личной привязанности, ни общих, что называется, грешков с ними у него не было. Он стремился в аристократический круг, мог бы в нем находиться по происхождению, но дело в том, что русское придворное общество вовсе не было аристократичным, а представляло собой пеструю по происхождению компанию, ничем не связанную, кроме близости к трону.
Насчет глубокомысленных рассуждений, кто там Пушкина травил, какие сети заговора плелись в «большом свете», это пусть разбираются знатоки и профессионалы. Достаточно очевидно, что благоприятной почвой для подобных теорий была общественная атмосфера 1930-х годов, когда 100-летие со дня гибели Пушкина на редкость точно совпало с пиком кампании по выявлению «врагов народа» и «троцкистско-зиновьевских бандитов».
В личном плане трудно понять, какая в этом особенная интрига. «А… любите вы всех в шуты рядить, угодно ль на себе примерить!» – это Софья Фамусова сказала, но могла бы и Софья Карамзина, и, уж наверняка, Марья Дмитриевна Нессельроде, злобная старуха (всего пятьдесят ей было, но, по тем временам, солидный возраст).
Уперлись в этот диплом, проводят графологические анализы… Уж конечно, писались эти грамотки не в запертой комнате злобным одиночкой. Это плод коллективного творчества, явно спонтанного, спровоцированного куражившимся Дантесом. Он и вообще был юношей импульсивным, мог на стол вскочить, из окошка выпрыгнуть, а, в сущности, может, сам потом жалел, что так жестоко пошутил. Но ведь и компания у него была соответственная. Взаимно друг дружку подогревали.
Авторство «диплома» не имеет, в сущности, никакого значения. Время от времени сочиняются новые теории, но в основном сохраняется версия, выдвинутая в 1863 году беллетристом А. Н. Аммосовым, автором популярной песни «Хас-Булат удалой». Сам он был мальчиком в 1837 году, ничего не знал, но не кто иной, как Константин Карлович Данзас ему поведал, будто причастны к этому диплому князья Иван Сергеевич Гагарин и Петр Владимирович Долгоруков. Действительно, оба входили в кружок шалунов, особенно близких к Дантесу, и без их советов вряд ли обошлось, хоть, разумеется, сами они это отрицали, когда стали их пушкинисты допрашивать.
Князь Иван Гагарин, молодость проведший за границей, служил в коллегии иностранных дел. Привез из Германии стихи Тютчева, впервые напечатанные Пушкиным в «Современнике». Близким другом его был Чаадаев, рукописи которого он переправил, как водится с нашими диссидентами, за границу. В конце концов, и сам навсегда покинул родину. Стал иезуитом и посвятил остаток своей долгой жизни пропаганде соединения церквей. В 1836 году ему было всего двадцать два года.
Князю Долгорукову – и того меньше, двадцать. «Банкалом», то есть, «хромцом» называли князя Петра Владимировича по причине природного дефекта. Вообще дразнить его считалось опасным, смолоду был весьма задирист и за дерзости исключен из Пажеского корпуса. Удивительно сочетал любовь к светской жизни с серьезными занятиями генеалогией, но из чего, как не из сплетен и пересудов, знаем мы, кто кому родня. Труд жизни Долгорукова «Русская родословная книга», но еще более он был сведущ в разных неофициальных побегах и ростках древ нашей аристократии, державшихся под большим секретом. Сделавшись политическим эмигрантом, «банкал» Долгоруков о многих таких секретах раструбил на всю Европу через герценовскую «вольную печать». Слухи о его гомосексуальных наклонностях ходили упорные, и, в общем, нет никаких оснований в них сомневаться.








