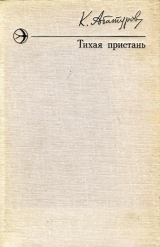
Текст книги "Тихая пристань"
Автор книги: Константин Абатуров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
Липовый мед
На железнодорожный разъезд Иван Семенович Комельков приехал на рассвете, задолго до прихода пассажирского поезда. Привязав лошадь к изгороди, он заковылял на перрон. Тут было еще безлюдно, лишь вдали, на полотне, маячила одинокая фигура путеобходчика, который через каждые десять – пятнадцать шагов стучал молотком по рельсам. Путеобходчик шел в сторону соснового бора, откуда и должен показаться поезд.
Туда глядел и Комельков. Он сел на скамейку как раз лицом к лесу. Было тихо. Когда Иван Семенович закурил, то дым, прежде чем подняться ввысь, медленно оплывал немолодое лицо его, цеплялся за колючие рыжие усы. Он отдувался, пытаясь отогнать дым, чтобы не мешал глядеть вдаль.
Где-то там, в душном вагоне, трясется его сын, Мишутка, и, наверное, тоже глядит вперед. Три года не виделся с ним Комельков. За это время у батьки побелели виски, еще больше отяжелела покалеченная правая нога. И сын небось изменился. Когда три года назад увозили его из деревни, то у него только еще пробивался пушок на губах. Совсем малец был. Теперь, поди-ка, повзрослел, шире в плечах стал. Только, наверно, худоват. Ведь не у мамки в гостях был…
«Ну, ладно, поправится – медом отпою, медом!» – ухмыльнулся Комельков.
Над лесом вспыхнуло зарево. Нет, это не от поезда. Всходило солнце, затопляя красноватым светом все вокруг – и бор, у входа в который заблестели рельсы, и мокрый луг, расшитый узорами желтоглазых ромашек и лилово-голубых колокольчиков. Восход разбудил прозрачный родниковый ручеек, звон которого явственно доносился до Комелькова, поднял первых бабочек, ночевавших на лугу. От луга тянуло медовой свежестью. Иван Семенович вдыхал этот запах и про себя замечал, что и нынче лето будет доброе на мед. Весь июнь стоит такой вот тихий и солнечный в буйном цветении.
И он окончательно решил, что непременно отпоит сынка медом. Цветочным. Нет, и липовым. Мишутка, помнится, больше всего любил липовый. А как расхватывали это добро на базаре!
– Заживем, сынок, опять заживем, – тихо проговорил он.
Послышался шум, затем гудок – поезд на полном ходу вынырнул из бора и, размеренно стуча колесами по стыкам рельс, катил через луг к разъезду. Комельков сорвался со скамейки и бросился навстречу дымящему локомотиву. Он был уверен, что сын едет в последнем общем вагоне, и спешил к месту, где вагон должен остановиться.
Да, он не ошибся. Из последнего вагона и вышел Михаил, вернее – спрыгнул, потому что туда не доходила платформа. Комельков облапил сына, прильнул к колючим губам его. В первую минуту он словно сквозь пелену видел Михаила – мешали слезы. Только немного позже, когда повел к подводе, стал внимательно разглядывать его. Действительно, сын вытянулся, стал выше отца. На суховатом лице, потерявшем прежнюю припухлость, выделялся тонкий хрящеватый нос. Строго и холодновато блестели крупные капли серых глаз. Из-под расстегнутого воротника тенниски выпирало полукружье ключиц.
Комельков хотел сказать, что именно таким и представлялся ему сын, но не сказал. Зато вслух заметил, когда укладывал в передок телеги сыновний чемодан!
– А ты, гляди-ка, с пожитком. Не ожидал…
– Заработал малость…
– Заставляли? Трудно было?
– В тюрьме легко не бывает.
– Да, конечно, – закивал Комельков. – Усаживайся-ка. Дома отдохнешь, нарастишь мяса на кости…
Он взбил на телеге сено и подтолкнул сына:
– Как перинка. Не натрясет.
От разъезда до деревни Лемехово двенадцать километров. Комельков подхлестывал лошадь – хотелось до жары одолеть путь. Дорогой он рассказывал сыну о себе, об однодеревенцах. Жаловался на здоровье: при каждой перемене погоды ломит ногу, тоскует сердце. В колхозе уже не работает, да и много ли надо вдовцу? Есть огородик, скромная пасека – прокормиться можно. Конечно, колхозники косятся на него, иные даже барином кличут, насмешничают, но того не сознают, что ногу покалечил не где-нибудь, а в колхозе.
– Ты в ту пору еще махонький был, когда это случилось. Возили зимой с Мокруши сено для фермы, ну и упал я с воза…
– Знаю.
– Ты-то, ясно, не забудешь, а им что? Корят: тяжелой работы, слышь, испугался. Каково, смекни-ка, терпеть это? – со злостью стегнув лошадь вожжами, обернулся он к сыну.
Сын молчал, глядя на дорогу, круто огибающую березовую рощицу, на покатое поле, где зеленая, уже выколосившаяся рожь волнами набегала на березняк. Солнце купалось в этих волнах, щедро расцвечивая их. Давно не видывал такого приволья Михаил, и он не в силах был оторвать взгляда и от поля, и от рощи.
Комельков нетерпеливо тронул его.
– Ты что – не слышишь?
– Слышу. Посильную работу не просил? – не пошевельнувшись, спросил он.
– Работой сыт не будешь…
Теперь сын поднял голову, взглянул в глаза отца, но они так скрылись за вечно припухшими веками, что разглядеть их не смог. Отец не любил, когда глядели ему в глаза. Он дернул плечом.
– Что уставился? Не так разве сказал? Небось и сам не захочешь к ним… И не надо. Можо, в город подашься, а можо… Да ладно, дома все обмозгуем. Так? Ну что ты опять молчишь?
– Все слушаю.
– Слушай. Худому батька не научит, – воодушевился Иван Семенович. – Ты у меня, Миша, один остался как перст. Только о тебе и думаю. Мамке-то вот не довелось свидеться с тобой, а тоже бы обрадовалась. Она, гляди, и слегла-то, по тебе тоскуя. Не поберегла себя…
– Где ее похоронили?
– На Каменихе. А что?
– Заехать бы, поглядеть на могилку.
– Потом, Мишутка, потом…
Он натянул вожжи: дорога сходила под уклон, к речке. Но когда колеса простучали по шаткому мостику и вынесли телегу на ровный берег, он опять заговорил:
– Мильку помнишь? Дивчина, скажу тебе, как красное яблоко. В костях тоже крепка. Счетоводка. Денежная. Ну – невеста! Эта не чета Юльке, бесприданнице.
– Она дома? – приподнял голову Михаил.
– Где же ей быть? Доярка. Вечно там, на поскотье. Встречается – кланяется. Уж не тебя ли ждет? Дурочка, не догадывается, что не чета тебе. Не возьмем же в дом клеветницу.
– Зачем ты ее так, батя?
– А как же? – удивился отец. – Кто доказал тогда на нас? Забыл разве? Или напомнить?
Михаил сжал губы.
Нет, он не забыл о Юльке. Разве забудешь первую любовь? Виделась Юлька даже во сне, тоненькая белокурая сиротка с хорошей белозубой улыбкой. Да, она первой подняла руку на комсомольском собрании за его исключение из комсомола. С тех пор пути их разошлись. Но отец путает: она ни на кого не доказывала. В Лемехове и кроме нее догадывались о барышничестве Комельковых. Правда, отец ни разу самолично не ездил за мукой в хлебный ларек, куда устроил желторотого сынка. Михаил сам по вечерам заезжал на родительское подворье, сам вытаскивал из глубокой телеги, вот такой же, как и эта, тугие мешки. Зато батя знал, что нужно делать с этой мучкой. После каждого такого заезда он обласкивал покладистого юнца, не забывал дарить ему подарки. Жизнь та казалась Михаилу и легкой и денежной. Еще бы: у него появились и брючки-дудочки, и рубашка канареечного цвета, и остроносые туфли, не говоря уже о прическе на косой пробор.
Разве не красиво? Но Юльке не нравилась эта красивость. Она требовала, чтобы Михаил оглянулся на себя да выверил, так ли живет. Но он же отвечал ей словами отца:
– Каждый живет, как умеет.
– Вот попадешься, так поймешь, какая эта жизнь…
И он попался. В момент, когда тайком проезжал с глубокой телегой к дому, нагрянула милиция. Составили акт. Потом и состоялось комсомольское собрание. А после собрания – суд. Отцу удалось уйти от ответственности – всю вину Михаил взял, так сказать, по-рыцарски, на себя.
Помнил парень: Юлька шла за ним после суда с заплаканными глазами. Она что-то говорила, но он, обозленный, и слушать не хотел. Потом она присылала несколько писем. Михаил не отвечал. Все еще злился. Много позже он понял, что Юлька ни при чем. Конечно, могла бы и не голосовать, но не в этом дело.
Он посмотрел на отца. Сказал жестко:
– Ее ты не трожь, батя!
Отец обидчиво покачал головой.
– Я, сынок, никого в жизни еще не трогал попусту. Спроси любого в Лемехове, хоть пальцем стукнул ли кого…
«Пальцем? – подхватил Михаил. – Да нет, конечно, ты смирный и тихий. Кулаки в ход не пускаешь. У тебя и голос все тот же воркующий, голубиный…»
Сейчас, после трех лет тюрьмы, Михаил мог признаться себе, что хотя он и любил отца, но как-то слепо и, по-видимому, только за эту смиренность. Ведь и он никогда не получал от него легкого щелчка. Разве мыслимо, отец жалел его, единственного продолжателя своей фамилии, боялся, как бы он не надсадился на деревенской работе.
Михаил вздохнул.
– Волнуешься? – спросил отец и, не дожидаясь ответа, заворковал: – Ничего, пройдет. Теперь будешь хозяиновать в доме. Все для тебя, заслужил…
– Перестань, батя.
Михаил ловил себя на том, что чем участливее были отцовские слова, тем ощутимее поднималось в нем что-то похожее на протест. Хоть бы скорее деревня. Может, там все встанет на свое место. И он опять глядел на дорогу, на мелькавшие по сторонам деревца. Колеса постукивали о жесткую, запекшуюся от жары колею.
Но вот за поворотом в последний раз блеснула речушка. Ее загородил от дороги небольшой березовый перелесок, пронизанный дождем солнечных лучей. Михаил встрепенулся. Да ведь это Иконниково! В детстве не раз он ходил сюда за земляникой. За перелеском будет лемеховское поле, а за полем и она, деревня.
Он почувствовал, как защемило сердце. Когда телега проскочила через березняк и вымахнула на открытое гречишное поле, Михаил приподнялся и стал глядеть в сторону деревни. Она стояла в низинке. Пока виден был только один край Лемехова с поднявшимся в небо колодезным журавлем, с антеннами; вон, за первыми радиомачтами, и родной дом, обшитый тесом, с голубыми наличниками. У Михаила затрепетала жилка на виске.
– Обрадовался? – над самым ухом пророкотал отец и легонько толкнул в бок: – Просим милости к родительскому очагу.
Он широко улыбнулся, обнажив неполный ряд до желтизны прокуренных зубов.
– Опять заживем, сынок!
Тотчас же, словно от укола, Михаил обернулся.
– Это как «опять»?
– А как лучше… Я же говорил – обмозгуем дома… Чай, к Митьке на поклон не пойдешь.
– К какому?
– Ну, к теперешнему бригадиру, что помогал Юльке тогда.
– Постой, неужели он бригадир?..
– Втерся! Да шут с ним. Сами с усами…
– Ладно, – откликнулся он и, отвернувшись, на мгновенье задумался: почему отец всю дорогу только и обещает одни приятности, а заботу на свои плечи хочет взять? Очень крепки они, что ли?
Взгляд его в это время привлекли два колоска, невесть как появившиеся на обочине. Маленький колосок жался к большому, с длинными иголками. Вдвоем они, казалось, стояли прочно. Но телега наехала на них, и они свалились.
«Не устояли», – отметил сын разочарованно.
И тут он вновь повернулся к отцу. Невольно обратил внимание на его усы, которые топорщились, как остья у повергнутых колосьев. Это сравнение больно кольнуло сердце Михаила. Ему хотелось сказать отцу, что не зря ли он много обещает, ведь тоже несилен, хоть и с усами…
Но он промолчал и в мыслях обратился к себе: чего же ждать, как жить дальше? По-прежнему смотреть на жизнь папашиными глазами? Хитрить? Но с ней хитрить плохо – за это она наказывает. И больно, черт возьми!
Он опять обозлился. Теперь уже на себя. Сколько потеряно времени! А во имя чего? Чтобы «там» дурость из башки выбили? Своего-то ума и на это не хватило! А ребята вон как за три-то года шагнули. Даже рыжий Митька Храбров и тот – уже бригадир. Почетный человек! А Сергей Мухин, слышно, в агрономы вышел. И Юлька, конечно, не та.
– А-а, дела… – вздохнул Михаил.
– Не тоскуй, вот и деревня, – не поняв, сказал отец.
Телега уже громыхала по деревянному настилу, перекинутому через низинку у въезда в деревню.
Михаил разогнул спину, выпрямился. Своя, родная! Вон и знакомые люди. Не встречать ли вышли? От этой мысли теплая волна подкатила к сердцу.
Но другой вопрос: встречать, а кого? – сразу пригвоздил его к телеге. Он почувствовал, как побледнел. И хотя колхозники кивали ему, здоровались, но в глазах их виделась настороженность.
Нет, он не думал, что так трудно будет въезжать в свою деревню.
Остановив у крыльца гнедого, отец прошипел:
– Видал, и на тебя недобро посматривают.
– Ну и пусть! – буркнул Михаил.
Он слез с телеги, отряхнулся и, взяв чемодан, без оглядки зашагал к крыльцу. Почти следом вошел в дом и отец.
– Располагайся, Миша. Сейчас я все принесу. С дорожки, с приездом надо… – приговаривал он, искоса поглядывая на задумавшегося сына.
…Через полчаса на столе шумел самовар.
Отец и сын сидели по разным сторонам стола, лицом к лицу. Среди закусок были и сыновнины: банка камбалы, кучка копченой воблы, пачка печенья. Но отец как бы не замечал это. После каждой стопки ближе пододвигал к сыну сковородку с яичницей-глазуньей. И просил:
– Не береги. Ешь досыта.
– А мое что не пробуешь? – спрашивал захмелевший сын.
– Твое? – Иван Семенович снисходительно усмехался. – Уж больно бедно оно, «твое».
– Что? – рассердился Михаил. – Это ж трудовое, вот этими руками… слышишь?
– Не обижайся, Миша. Подожди, заживем… – как бы продолжая начатый разговор в дороге, многозначительно подмигнул он. – Давай-ка потолкуем, а?
– Ну?
– Так вот, туда, в колхоз, не советую. Ты жених, оперяться надо. А разве там дадут тебе доходную работешку? Держи карман шире! Подмоченный, мол… Сообразил, а? – Комельков так сощурился, что пухлые веки совсем закрыли глаза. Только по вздрагивающему подбородку Михаил понял, что батя смеется.
– Ты все пугаешь меня, батя.
– На ум наставляю, дурачок, – упрекнул его отец. И снова: – Да ты ешь, говорю, закусывай.
И вдруг, как бы спохватившись, быстро вскочил и, прихрамывая, пошел в сени. Оттуда вернулся с дубовым бочоночком. Водрузив его на стол, он сказал:
– Прошлогоднее. Для тебя хранил… Пододвинь-ка стакан.
Он наклонил бочонок. Михаил залюбовался тягучей и прозрачной струей, от которой пахло густым липовым духом, какой бывает при полном цветении деревьев. Сквозь струю он видел сухую, с бурыми ногтями руку отца.
Наполнив до краев стакан, Иван Семенович провел шершавым пальцем сначала по краю бочонка, затем по ободку стакана, слизнул липкие мазки и приказал сыну:
– Пробуй! Пользительно…
Михаил послушно пригубил стакан. Сделав несколько глотков, обсосал тонкие губы.
– Что, сладок? Э-э, будешь дружить с батькой – не пропадешь. – И к уху: – А дельце тебе придумаю доброе. Но чур – впредь поумнее надобно быть… Пей же! Это липовый, твой любимый…
Рука Михаила дрогнула. Он отставил стакан.
– Липовый, говоришь?
Воспоминание молнией выхватило из прошлого то, что лежало на самой глубине. Три с лишним года назад вот так же отец наливал ему, начинающему продавцу хлебного ларька, прозрачный липовый мед и так же обещал «добрую жизнь». Для начала любезно выговаривал ему, что, мол, местечко теплое получил, а держаться не умеешь. И хлопал по плечу: женихом становишься, одежонку пора заводить. После этого на ухо: «Хлебец должен выручить, понял?..»
Вот откуда пошло. Со сладкого липового меда!..
Наваливаясь впалой грудью на стол и медленно двигая вперед голову, остриженную по-арестантски, ежиком, Михаил негромко спросил:
– Значит, все обдумал без меня, так? Ну, рассказывай, что за «доброе дельце»? Я слушаю…
Отец смерил его пристальным взглядом.
– Раздражаешься? Дурак! Я тебе что говорю? Этого добра, – указал он на мед, – довольно у меня: не расточитель – сберег… Медовухи знаешь сколь выйдет? Не знаешь? А я подсчитал. Сюда водку-то редко привозят. Стало быть, выручка верная от свойской-то… Понял? – Он выкинул руку вперед и тотчас дернул ее к себе. – Или в колхозе на безденежье? – Комельков визгливо хихикнул.
– А ты веселый, батя, – нахмурился Михаил, и отец впервые увидел не покладистость и радость в его глазах, а что-то суровое, несгибаемое… – Еще бы не веселиться: все расписал, как по нотам. Для любимого, для единственного сынка как не постараться!
– Вот именно! – оторопело подхватил отец.
– Нет, с меня хватит! – стукнул Михаил по столу. – Хватит! И тебе не дам, слышишь?! Не дам барышничать!
Он поднялся и сбоку зашел к отцу.
– А может, сам захотел отведать клоповника? Ты ведь смиренный, тихий – что тебе стоит… Говори!
Комельков попятился, замахал руками:
– Одумайся! Что мелешь?..
– Не беспокойся, у меня хватило времени одуматься. А ты… У тебя все мозги набекрень. Точно!
– Замолчи! – прикрикнул Комельков. – Не помнишь, нализался. Иди-ка проспись.
И, помолчав немного, уже с подчеркнутым добродушием спросил:
– Кричи не кричи, а куда теперь подашься? Думаешь, они обласкают тебя, подмоченного? Жди!
Михаил потемнел в лице. С минуту он стоял неподвижно. В голове гудело: а что, если отец прав? Ежели не примут по-доброму к себе? Как же тогда? Наконец он разжал губы, выкрикнул:
– А не брешешь? Говори же: простят?
– Я тебе сказал…
Михаил медленно повернулся и, тяжело ступая, пошел к двери. Громко прикрыв ее за собой, он остановился на крыльце. Покачиваясь на скрипучей половице, Михаил посмотрел на улицу. Потом перевел взгляд на луговую тропу, по которой раньше хаживала Юлька.
Сейчас на этой тропе нет ни души. Тихо кругом.
А в голове все шумело: «Подмоченный… не примут…»
Из-за угла выехал на велосипеде Храбров в запыленной куртке, стоптанных сандалетах, усталый. Увидев Михаила, он завернул в проулок, к крыльцу.
– Приехал?
– Приехал.
– Так… здравствуй. – Храбров протянул Михаилу руку. Тот спустился со ступенек, наклонился к бригадиру, обдав его водочным запахом. – Уже успел – хватил? – поморщился Храбров.
– С радости… А ты сразу и выговаривать, – отстранился от него Михаил. – Власть, что ли, спешишь показать?
– Какой задиристый.
– Какой есть.. – Михаил достал папиросы, предложил бригадиру, но тот отказался. – Не хочешь арестантских?
– Напрасно козыряешь этим званием, – насупился Храбров и спросил: – О работе думал? Или батькина веленья ждешь?
– Подожду, что бригадир предложит. Примешь? – в упор взглянул Михаил в рябоватое лицо Храброва.
Бригадир сощурился.
– Приходи вечером на собрание. Обсудим… Да протрезвись смотри. Ну и приоденься, чтобы честь честью, сам понимаешь…
Он улыбнулся уголком губастого рта и тронул велосипед.
Михаил проводил его долгим взглядом. И опять в голове зашумело: «Для чего же обсуждать? Почему не сказал сам, прямо? Боится или не доверяет? А может, батя все-таки прав?..»
Наверное, он задал бы еще кучу всяких вопросов. Но не успел. С околицы от дороги послышались голоса, и один из них он узнал. Конечно, это Юлькин. Где же она?
Михаил спрыгнул с последней ступеньки и направился к дороге. И увидел: к ферме шли доярки. Впереди была Юлька. Он видел только ее спину, на которую стекала из-под красной косынки длинная белокурая коса.
Шли не оглядываясь. Возможно, потому, что навстречу им пылила машина, что впереди показалось только что пригнанное с пастбища стадо бело-рыжих ярославок.
«Не дадут доходной работы», – вспомнил он слова отца. А вот люди идут на всякую. Небось и не думают о выгодах своих.
– Нет, шалишь, батя! – вдруг выкрикнул он. – Теперь по-твоему не будет…
И стал думать, как вечером пойдет на собрание, как попросит назначить его на любое дело. Его теперь ни чуточки не пугало возможное недоверие. Только бы приняли в бригаду, остальное от него самого зависит. Врозь с колхозом ему никак не с руки. Надо заново делать жизнь.
Из открытого окна что-то кричал ему отец. А он стоял. Над головой проносились ласточки. Они таскали в гнездо, прилепившееся над карнизом отцовского дома, корм голым, еще не оперившимся птенцам.
Он стоял и, прислушиваясь к шелесту ласточкиных крыльев, продолжал глядеть на дорогу. Под конец ему показалось, что Юлька оглянулась. Возможно, что даже увидела его, так вытянувшегося за прошедшие годы, так смущенно и взволнованно встречающего новый день.
Ветер
В вагоне Настю сморило. Еще прошлой ночью она не могла прилечь, все ходила в темной боковушке взад-вперед, думая об одном и том же: ехать к Степану или по-прежнему жить здесь, в деревне, у дяди Мирона; не давали покоя эти мучившие ее раздумья и днем… И, даже сев в поезд, она еще колебалась, верно ли поступила, что поехала. Опять, конечно, было не до сна. Но то ли вагонная духота, то ли этот монотонный стук колес да шум ветра за окном в темноте нагнали на нее дремоту. Прикорнув на лавке, рядом с Димкой, трехлетним сынишкой, она и уснула, да так крепко, что проводник едва разбудил ее на маленьком полустанке, где нужно было ей выходить.
В последнее мгновенье Настя еще видела сон, до невероятности странный. Будто бы шла она по-над рекой и услышала, как кто-то окликает ее. Остановилась, глянула на реку и обомлела: по воде шагает Степан. И так легко, так картинно. Как Христос, которого она в детстве видела на рисунке идущего по озерной глади. И такой же длинноволосый, босой, только не в ситцевой «обмотке», а в зеленом костюме, какой он надевал по выходным. Подбежав к ней, Степан одной рукой начал трясти ее за плечи, другой махал огромной рыбиной, говоря: к твоему приезду на поджарку.
Пробудившись, она какое-то время еще находилась во власти только что увиденного во сне. Потом затормошила Димку: «Скорей, скорей, мальчик, нас папа ждет. Там, на улице!»
И верно: только спрыгнули с подножки на обочину дороги (перрона на полустанке не было), как из темноты появился перед ними он, Степан Мокшанов. Обнял обоих вместе – Настю и Димку, поцеловал и повел за полустанок, где стоял его «газик». Усаживая их в кабину, пропахшую бензином и застарелым табачным дымом, Степан сказал, что ждет тут с вечера.
– Так здесь все и стоял?
– Ну, не все. Привозил одному кое-что. Зачем же порожняком гнать машину?.. Все ж таки двадцать километров.
Захлопнув дверцы, он открыл багажник и стал укладывать там Настины чемоданы. Один, большой чемодан сначала некоторое время подержал в руке, как бы взвешивая, и поставил его бережно в середину, а два маленьких, легких, прижал к нему по сторонам. Потом обошел вокруг машины, потолкал ногой колеса. После этого поднял капот, принялся копаться в моторе. Все это делал не спеша, будто чего-то еще ожидая.
Настя поторопила его:
– Что не едем? Неисправность какая?
– У меня, милочка, неисправностей не бывает. Между прочим, мне дали шоферские права второго класса. Мастер и он же шофер! Можешь поздравить.
– Поздравляю! – откликнулась Настя и снова попросила: – Поторопился бы, Степа. Димке покой нужен. Укачало, бедного.
– Сейчас! – согласился Степан, но все еще стоял у поднятого капота. Затем со звоном захлопнул его, закурил и, садясь за руль, как бы между прочим спросил: – Ты ничего не забыла в вагоне? Швейной машинки не вижу…
– Я, Степа, дяде оставила. Она уже старенькая…
– Гм, дяде… А этот, как его, самокат?
– Так он же поломался.
– Починить будто уж нельзя. Ну, ладно…
Позванивая цепочкой ключа, он включил зажигание. Машина вздрогнула мелкой дрожью и тронулась. Вырулив на дорогу, он кивнул на Димку:
– Придерживай его, дорога здесь выбита.
«Заботится», – заметила Настя, и это обрадовало ее. В отсвете папиросы видно было крупное скуластое лицо Степана со щербинкой на правой щеке, с черной щеточкой усов и, как всегда, чисто выбритое. Настя и это оценила: «Следит за собой».
Хорошо. Только бы не повторилось никогда то, что было. Год назад он, такой же вот чисто выбритый, со взбитым черным чубом, поехал в Верхневолжье принимать для своего мастерского участка трелевочные тракторы из капремонта, а вернулся с усиками, тогда чуть заметными. Вошел в квартиру тихо, словно крадучись, но она увидела его, потому что была в коридоре, стирала. А увидев, еще посмеялась: «Ой, с усами! Будет за что Димке подергать. – И уже серьезно: – А тебе они идут. Мужчинистей стал». Он искоса взглянул на нее, согнувшуюся над корытом, с красными от щелока руками, с прилипшими к потному лбу волосами, поморщился и, сказав, что устал, пошел спать.
Днем он никогда не ложился, а тут лег. И спал как убитый. К ужину Насте пришлось будить его. Подошла к постели, наклонилась, чтобы тронуть симпатичную щербинку, которую любила целовать, да так и застыла с протянутой рукой: на щербинке алело пятно помады.
«Мало ли чем заляпаешься в дороге с тракторами, – объяснял он, – это тебе не на счетах щелкать». (Настя работала тогда счетоводом в том же лесопункте, где и Степан.) Больше того, он посчитал себя оскорбленным, долго не разговаривал с ней, а Димку просто не замечал. Впрочем, он и раньше не баловал мальчонку вниманием: что поделаешь – не его сын, неродной. Так продолжалось около месяца, и Настя даже не рада была, что высказала свое подозренье, готова была забыть о нем. И забыла бы, если бы не письмо.
Письмо было заказное, адресованное лично Степану, но почтальонша передала его Насте, и как раз в обеденный час. На обед, как всегда, Настя приходила немного раньше мужа, надо было разогреть на плите суп, вскипятить чайник. По привычке она понесла было письмо на тумбочку к дверям: придет – увидит и прочтет. Никогда не интересовалась, кто ему пишет. Степан как-то сказал, что все по работе, и этого ей было довольно. Но тут она обратила внимание на штемпель. Уж очень резко он отпечатался, и она прочла город, куда Степан ездил месяц назад. Не раздумывая, распечатала конверт. Начала читать. Все о тракторах.
А в конце было написано:
«Приезжай опять. Осталась одна на ечад… Поторопись. Твой Александр».
Удивило это подчеркнутое непонятное слово «ечад». Что оно значит? Настя думала-думала и прочла его наоборот, как это любила делать одна подружка в школе и смеялась: гляди, какая получилась абракадабра. Но тут вышла не абракадабра, а вполне понятное слово – «дача». «Осталась одна на даче». Значит, «Александр» одна осталась на даче и ждет Степана.
Все-все стало ясно Насте.
Долго ждала она Степана, но не дождалась, пошла на работу, оставив письмо на столе. А когда вернулась, то его уже не было. Не было и Степана. Узнала, что он срочно уехал в командировку. В город, откуда пришло письмо. Значит, к ней, на дачу…
Настя несколько дней не находила себе места. Хоть бы записку оставил или позвонил. Так нет, укатил крадучись. Обманывает. И не только ее, но и свое начальство.
Не в силах больше терпеть, она пошла к профоргу, Прохору Кулькову, мешковатому, уже немолодому человеку с вечно заспанным лицом. Выслушав ее жалобу, Кульков потер дряблые щеки и сказал, что Настя зря наговаривает на Степана. Производственник, мастер, вот-вот будет занесен на доску Почета. Ну, а если женский пол заглядывается на него, так разве это его вина? Не замухрышка какой-нибудь, а мужик кровь с молоком.
– Никуда он от тебя не уйдет. Побесится разве малость…
– Он, он… – передразнила Настя. – А ежели я уйду?
– Глупая, да где ты лучше-то найдешь? – упрекнул ее профорг. И встал. Разговор окончен.
Настя помнила: с Кульковым Степан не раз выпивал. Несмотря на свою скупость, он почему-то не жалел для него выпивки. Как же теперь профоргу не защищать его!
Вспомнила, как сама познакомилась со Степаном. Приехав после окончания курсов счетоводов на участок, она в первый же день потребовала документы по выполнению плана. И перед ней предстал Степан, рослый, с виду очень простой. Передав документы, он наблюдал, как ловко новый счетовод работала на счетах, и сказал: «О, теперь пойдет дело на лад. Такие работницы нам нужны. – И подмигнул: – Пустишь здесь корни – жениха хорошего найдем-Слышь, барышня?» – «У этой барышни ребенок на руках». – «Ты замужняя?» – «Была». Степан спрашивал еще, но она нахмурилась, сжала губы.
Не хотелось ей вот так, ни с того ни с сего, откровенничать, тревожить старую рану.
Вечерами Степан стал захаживать к Насте. Каждый раз у него находился повод для этого. Она пыталась выпроваживать его, а он вздыхал: «Господи, куда же старому холостяку деться?» Начинал сердечный разговор. Вскоре она перевезла от дяди Димку и вместе с ним поселилась в квартире Степана.
Слышала она, как соседки говорили: «Новенькая-то какого отхватила. И ребеночек не помешал…» Это не обижало ее, потому что и впрямь на Степана она смотрела как на своего благодетеля. Не важно, что он не спешил идти в загс, говоря: «Успеем, распишемся!»
Не в обиде была и на то, что пришлось пораньше вставать и попозже ложиться: надо же было обстирывать да обхаживать муженька и накормить сытно. Поесть Степан любил. Да оно и понятно: крупный, или, как он называл себя, «высокогабаритный мужчина».
От постоянной стирки у нее побаливали руки, не сходила краснота. Но ей ли жаловаться на это! Когда после смерти матери жила у дяди, то приходилось и всякие другие дела делать: и скотину кормить да поить, и ездить в лес по дрова, и огород сажать. Всего и не перечтешь.
А тут хоть и нелегко, зато знаешь, что делаешь для своей семьи, что имеешь свой угол, что у сынишки появился отчим. Дорожила она этим!
Дорожила. Все-все выдержала бы она, если бы не обман. Ушла от Степана вскоре после его возвращения от «дачницы». Забрала Димку, велосипедик, швейную машину – единственное ее приданое – и к дяде. Степан не жалел о ее уходе. Даже не вышел из квартиры. Когда она сказала: «Вот так, муженек!», он спокойно ответил, что не считает себя в таком звании – не расписывались…
Нет, нет, что сейчас об этом вспоминать. Ведь уже решено обратно к нему, к нему! Теперь он сам просит пойти в загс и забыть все прошлые обиды.
Настя обернулась к Степану. Тот сидел, напряженно глядя вперед на ухабистую дорогу, выхватываемую светом фар из темноты. Он почувствовал на себе ее взгляд, сказал как-то участливо:
– Не растрясло? Ничего, скоро будем дома.
«Доволен, что еду», – заметила Настя. И опять погрузилась в воспоминания. Месяца два или даже больше Степан не писал ей. Потом шло письмо за письмом. И в каждом одна и та же просьба: вернись! Клялся в верности, в вечной любви. Она не отвечала. Тогда он сам приехал к ней.
Было это поздним вечером. Настя тогда долго задержалась на пожне, где вместе с колхозницами убирала сено. Домой шла по тропинке перелеском. Стояла тишина, только еще трещали в траве кузнечики. Землю уже окропила роса, приятно холодя ноги. За день их так напекло, что прохлада росы принималась как освежающий душ. На сенокосе Настя порядком устала, но была довольна.
Председатель колхоза хвалил ее и предложил ей насовсем остаться в колхозе. Хвалили и колхозницы.
Хорошо ей было в этот вечер. Где-то далеко-далеко остался Степан. А рядом – сынишка, колхозницы, простые, отзывчивые. Сынишка, конечно же, ожидает ее, наверное, сидит у окна и глядит на дорогу.
Вон и деревня. Вон и крайний дядюшкин дом. Сегодня что-то во всех окнах свет. К чему бы это? Настя прибавила шагу. Еще на крыльце встретил ее дядя.
– Гость заявился, Степан. За тобой приехал. И Димку хочет взять. Пряников привез ему, конфет…






