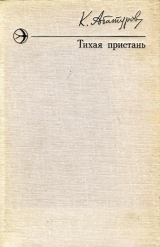
Текст книги "Тихая пристань"
Автор книги: Константин Абатуров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Бригадир и Матвейка
Никто так не досаждал Михаилу Петровичу Кашину, как соседский Матвейка Вязанкин. Где угодно – на собрании ли, в разговоре ли один на один – не стеснялся поспорить с бригадиром, а то и подтрунить над ним.
Обижало это Кашина до крайности. Человек на бригадирстве в своем родном Заречье до седин дожил, все к нему с почтением и иначе не называли, как по имени и отчеству, а у этого никакого уважения. Хоть бы возраст в расчет брал, ведь Кашин в отцы ему годится. В отцы! Ну, ростом, верно, Матвейка вышел, волосы тоже длиннущие, по моде отрастил. А так мальчишка. Помалкивать бы парню, не выхваляться. Его сверстники после окончания Заречной средней школы разъехались в институты да техникумы, а он остался в деревне телят пасти. Эко занятие! Да с телятами любой пацаненок справится, невелика хитрость!
И уж совсем непонятно, что в нем хорошего нашла Нинка, дочка. В кино с ним, в клуб на танцульки – тоже. Пришлось одернуть дуреху. А то ведь соседи стали шуточки шутить: батьку ругает, а с дочкой гуляет, потеха, да и только!
Порой, правда, Михаил Петрович недоуменно пожимал плечами: хоть и сердился на Матвейку, а иногда делал как бы по его подсказке.
Как-то весной Матвейка заспорил с бригадиром насчет лугов. Несмотря на теплынь и прошедшие дожди, они не зеленели, будто мор какой напал на них. Матвейка затвердил: давай да давай подкармливать луга минералкой. Вообще-то Михаил Петрович и сам об этом подумывал, потому что луга с годами как бы выродились. Но думать-то думал, а до дела все как-то руки не доходили.
– Нет у меня на это удобрений, – ответил он Матвейке.
– Не завез зимой? Эх, дядя Миша! – покачал головой насмешник. – С такой дальновидностью (читай – «с оплошностью») оставишь ты нашу живность без сена. Под корень срежешь. Хоть заранее смазывать мне пятки да бежать из пастухов.
– Вот уж не заплачу. Скатертью дорожка! – ответил Кашин.
Однако на другой же день пошел в контору к председателю колхоза просить минеральных удобрений. У Никандра Васильевича (так звали председателя) в глазах, прикрытых кустистыми бровями, заиграли лукавинки:
– А почему самолет не просишь?
– Для чего? – не понял тогда Кашин.
– А рассевать-то, чай, не с лукошком пойдешь…
Короче говоря, все луга подкормил. Потом еще слегка продисковал их. Ну, трава и пошла. Густущая, сочная. Тут уж Матвейка хоть плясать. На пользу, слышь, тебе критика, дядя Миша. Век, говорит, буду тебя задирать!
Говорил и помахивал тетрадкой. Чудной, между прочим, он: все время ходил с этой толстой тетрадкой в коленкоровом переплете. Просто непонятно, для чего она ему.
Но это ладно, а вот что дальше было. Оба чуть за воротки не взялись. Только вышла рожь в трубку, сильная, вороненого оттенка, готовая вот-вот колос выбросить, как пастух к бригадиру. Эх, говорит, такую-то рожь скосить бы да на силос! Невиданный-де молокогонный корм получился бы! В других колхозах уже косят. Выгодно!
– Что? – дернулся Михаил Петрович. – Косить рожь для скотины? Ну уж нет! Ни в коем разе! Это же хлеб! Понимаешь ты – хлеб!
– И что ж? Ты его скотине, скотина тебе молочко! – не отставал Матвейка. – А то затвердил, как допотопный какой: хлеб, хлеб!..
Михаил Петрович шумно задышал. Да как он может так говорить? Мальчишка, мальчишка и есть! Нужды не видел, цены не знает хлебушку. Для Кашина, потомственного хлебороба, рожь была самым святым злаком. С бережением великим выращивали и собирали каждый колос еще его дед и отец. Рожь давала жизнь крестьянину. А Кашин связывал с посевами ржи еще и послевоенное восстановление родного колхоза. Приехав с фронта, он последние зерна смел в сусеках и отнес в колхоз на посев. Эти зерна обратились потом в добрую ниву, накормившую натерпевшихся нужды односельчан. И, привыкший глядеть на рожь как на неоценимое благо, он не мог и слышать о косьбе ее для скота.
Матвейка решил припугнуть несговорчивого бригадира. Вот, грозился он, принесу распоряжение председателя и посмотрю, как ты запляшешь.
– И председателю в таком деле не подчинюсь, – упорствовал Кашин. – Аль травы мало для силоса? Да вон она ноне какая вымахала!
– Тогда я тебя в газету. Как несознательного!
– Несознательного? – У Михаила Петровича начали розоветь мочки ушей и заходили желваки на лице, туго обтянутом сухой, спеченной на солнце кожей. Это означало, что человек дошел до точки кипения. И он, невысокий, но ширококостный, пошел на Матвейку, плотно ступая короткими толстыми ногами.
Парень попятился, повернул восвояси.
Казалось, теперь Матвейка оставит Кашина в покое. Действительно, какое ему дело до бригадира? Взялся телят пасти, ну и паси на доброе здоровье. И опять Михаил Петрович подумал о дочке: хорошо, что отвязалась от этого охламона, вовремя, выходит, предупредил ее. Да и что не отвязаться? Разве других парней мало в Заречье? Сколь хочешь, на выбор. Один Ванюшка, тракторист, чего стоит! Скромный, работяга. Или вон тезка. Михалка Волков. Верно, на годочек помоложе будет Нины, но это невелика беда. Главное – тоже обходительный, не как этот насмешник.
«Ох, и допек же он меня!» – признавался себе Михаил Петрович. Но, представив, как Матвейка пятился, решил: надо завсегда с ним построже, таким нельзя давать спуску.
Несколько дней Матвейка и сам не показывался на глаза Кашину, и Михаил Петрович с удовлетворением отмечал: подействовало! Однако в субботу вечером пастух постучал к нему в окошко:
– Чаек, что ли, попиваешь, бригадир?
– Ну, попиваю, а тебе-то что?
– Мне ничего, я уж отчаевничал. Нинок дома?
– Ну, дома. Не думаешь ли, что позову? Иди-ка своей дорогой.
– Идти-то тебе придется, бригадир. Там, на лугах, у реки какие-то городские любители природы палатки ставят. На мотоциклах прикатили. Трава стонет…
– Трава? – привскочил Михаил Петрович. – Так чего ты тянул, голову мне морочил своей трепотней? Эх, умник, а прогнать не догадался, радетель!
– Не шуми. Гнал, да бригадир, видать, им нужен, – смущенно улыбнулся он.
Однако Михаил Петрович уже не слушал. В чем был – в незастегнутой рубашке, шлепанцах на босу ногу – он выбежал на улицу, сел на мотоцикл, всегда стоявший наготове у крыльца, и поехал на луг.
– Кепку забыл, дядь Миш! – крикнул ему вдогонку Матвейка; обычно бригадир не расставался с кепкой, прикрывая ею раненую, в жестких рубцах, голову, которая болела при малейшем сквозняке.
Где там: Кашин даже не оглянулся на голос Матвейки, изо всех сил жал свой мотоцикл, только пыль взметалась за ним.
Долго задержался он в лугах, где непрошеные гости уже зажгли костерок, повытаскивали из рюкзаков еду. У Михаила Петровича даже слезы выступили, когда увидел вытоптанную траву, на которую он еще вчера глядел с радостью и все прикидывал, сколько тут поставят стогов. На других лугах, где трава была пореже, сенокос уже закончился, а тут бригадир выжидал, давая, как он выражался, донежиться густому пырею.
– Места другого для вас не нашлось? – хватаясь за сердце, хрипел он. – Да вы понимаете, что наделали?
Какой-то юнец в джинсах и ковбойке, в кепке канареечного цвета, с волосами до плеч, подлиннее, чем у Матвейки, поднес ему стопку бренди и, нарочито искажая выговор, предложил:
– Выпэй, отэц, и успокойся.
– Если бы я был твоим отцом, я бы снял с тебя эти заморские портки и выпорол как следует, – сказал, задыхаясь, Михаил Петрович. – А сейчас, к сожалению, могу только составить на вас, бездельников, акт и вымести вас отсюда. Марш!
– Ну-ну, не больно! Не стройте из себя феодала, – обиделся юнец.
– Ах ты сосунок! – взорвался Михаил Петрович. – Вместо того чтобы извиниться, он еще хорохорится.
– Потише, папаша! – подошел вразвалку откормленный дылда, в темных очках со стеклами величиной с добрую тарелку. – Мы только переночуем, развлечемся трохи – и уедем. К чему поднимать скандал. Ведь не твой собственный луг мы малость ээ… помяли. Бизнес на нем не построишь. Ребята, – обернулся он на звук гитары, доносившийся из крайней палатки, – подойдите сюда, сыграйте что-нибудь веселенькое, разгоните печаль у бригадира.
Дать этому нахалу в сытую морду, потом отвесить оплеуху юнцу со стопкой? Это, пожалуй, он бы мог, рука у него крепкая. Невольно сжимались кулаки, твердые, как камни. Он было шагнул вплотную к наглецам. Но сдержался. Нет, он не вступит с ними в потасовку, не доставит им такого удовольствия. Нащупав в кармане огрызок карандаша, который всегда носил с собой, подобрав с травы обрывок бумаги, в которую, наверное, завертывали консервы, он присел и стал писать акт. Никто не назвал своих фамилий, никто и не подписал акт. Долговязый захихикал:
– Мартышкин труд, бригадир. Фамилий-то наших не знаешь.
– Ничего, узнаются. По номерам мопедов, они записаны… – ответил Кашин и, повернувшись, зашагал к своему мотоциклу, стоявшему на тропе.
За спиной – тишина. Но вот будто она взорвалась. Шум, крики. Кто-то настойчиво требовал догнать бригадира, а кто-то отчаянно бренчал на гитаре. «Ишь, всполошились!» – заметил Кашин. Оглянулся: к нему бежал светловолосый парень.
– Товарищ бригадир, – остановившись перед Михаилом Петровичем, начал он, – моя фамилия Славка Ромашкин, можете записать в акт. Мы, конечно, поступили по-свински. Мы уедем, а за траву уплатим.
– Хватит ли в кошельке на уплату-то? – буркнул Михаил Петрович.
– Сейчас не хватит, после привезем.
– Все так решили?
Парень мялся, не отвечал.
– Вот видишь, на безобразие, на дурость было общее согласие, а на ответ – нет. Тот дылда, что ли, не хочет сдаваться? Или тот, что в чужеземном одеянии?
– Оба! – выдал их светловолосый. – Я сейчас им скажу, что они трусы.
– А не огреют тебя эти трусы?
– Не знаю, – развел руками парень. – Но это не имеет значения… – Он вскинул голову и побежал обратно к ожидавшим и еще шумевшим приятелям.
Бригадир не стал ждать развязки, поехал. Быстро темнело, дул теплый, сухой ветер, пахло травой да осевшей на дороге пылью. Значит, подумал он, росы не будет, дня надо ждать ведреного, без дождя. Для сенокоса это в самый раз. Завтра же и надо выводить людей на пожню, пора. Но уедут ли эти сорванцы? «По-свински поступили». Все-таки совесть заговорила.
Не доезжая до деревни, Михаил Петрович слез с мотоцикла, сел на обочине дороги, закурил. Решил подождать. За первой папиросой он выкурил вторую, взял третью. Не едут… Пуста была дорога, серой полосой прорезала она сгущавшуюся темень. Кругом ни одного голоса, только еще продолжали стрекотать кузнечики. Но вдруг на взгорке вспыхнули огоньки и двинулись, покачиваясь, то сходясь близко друг к другу, то расходясь. Михаил Петрович начал считать их. Семь огоньков. В акте было записано семь мопедов. Значит, едут все! Айда Ромашкин, уговорил.
Третью папироску бригадир не стал курить, бросил, но снова сел на мотоцикл, когда мимо проехали все мопеды. Теперь он поддал газку.
Подъехав к дому, немало удивился: в окнах не было света. Вбежал по ступенькам на крыльцо, в сени, открыл дверь в комнату, покричал – никто не откликнулся. Включил свет – никого. На столе стояли остывший самовар и кринка молока. Рядом – записка:
«Папа, я принесла тебе парного молока, попей, оно пользительнее любого чая. Нина».
А через час явилась и сама. Веселая, разрумяненная, с припухшими нацелованными губами. Они так и полыхали.
Все было ясно, но Михаил Петрович спросил:
– С ним была?
Нина улыбнулась, кивнула.
– Та-ак, значит, мой запрет ни к чему. Пусть над батькой смеются, дочке на это наплевать. А? Что молчишь?
– Папа, ты выпей молока, а самовар я подогрею сию минуту… – снова улыбнулась дочка. – Я живо…
Подхватив самовар, она мгновенно пронеслась с ним на кухню, побросала в трубу углей, нащепала лучинок, зажгла, и вот в трубе зашумело. Отец глядел на дочку в неприкрытую дверь и улавливал нечто новое во взгляде, в открытости глаз, во всех ее движениях. Сейчас она не казалась такой голенастой, какой он привык ее видеть. Нет, была она стройненькой, бедра округлились, обозначились груди, слегка приподняв кофточку. На кругленьких щеках алели ямочки, а в глазах, таких ясных, открытых, светилось счастье. Девушка, невеста! Да, ведь вот такой когда-то была и ее мать, когда он привел ее в этот бревенчатый дом и назвал хозяйкой.
– Что ты глядишь на меня? – смутилась Нина, и щеки ее заалели еще пуще.
– Так… Жду, когда самовар согреется, – ответил он не то; что думал.
Нина прошла к столу, поправила скатерть, придвинула поближе к отцу стакан, тарелку с хлебом, кринку молока. А он опять глядел на нее. И думал: да, невеста, но неужто достанется она этому зубоскалу? Зачем он к ней пристал? И она тоже хороша – все говорила, что бросила дружить с ним, и на вот тебе!.. Нет, он не даст благословения. Ни за что! Сама она еще не разбирается в людях, по неопытности своей. Окрутил ее Матвейка, вот она и потеряла голову.
Что же мать-то смотрит? Единственную дочку и не может оградить от этого, этого… Он не нашел подходящего слова.
Уходя после чая к своей кровати, стоявшей за перегородкой, Михаил Петрович сказал:
– Так вот, больше не серди меня, дочка. Хватит и того, сколько он насолил мне.
– Папа, ты совсем-совсем не знаешь его, – возразила Нина. – Он хороший. Другой бы, может, и не сказал тебе о тех же озорниках…
– «Сказал – не сказал», – передразнил отец. – Да его язык на цепи не удержишь. Прыток!
Утром, как и было задумано, Михаил Петрович послал косильщиков в луга. За два дня они смахнули всю траву. Но, как назло, пошли дожди, трава мокла в валках. Кашин нервничал. Так он надеялся на этот луг, и, пожалуйста, – нагрянула беда. Будто кто накликал ее. Да ведь если дожди скоро не перестанут, весь пырей сгниет, ферма останется без корма. Засилосовать? Но единственная башня была уже заполнена. После того как Матвейка разозлил его своими «глупыми советами» насчет силосования ржи, он свез в башню всю осоку с болотца, а когда ее не хватило, скосил на задворках крапиву. Делал это с небывалой поспешностью. И, наверное, один Матвейка знал, для чего: бригадир спасал рожь.
Но Матвейка тут как тут.
– Что за голову хватаешься, дядь Миш? Действовать надо.
– Ха, явился, радетель! – поморщился Кашин. – Так я тебя и ждал. Действовать! Он хочет погоду перехитрить.
Но Матвейка не смутился: с кем не бывает. Ответил дерзко:
– Да уж не стал бы на твоем месте руки опускать и на небо глядеть. Сенаж надо готовить. Вот возьми газету, почитай.
– Суешь ты везде свой нос, – покосился на Матвейку бригадир, но газету взял.
– Я вечерком загляну к тебе, дядь Миш, – пообещал парень.
– Зачем это? – встревожился Михаил Петрович, сразу подумав о дочке: все к ней льнет, настырный. – Вечером меня дома не будет, – сказал он неправду.
– А Нинок будет дома?
Михаил Петрович взглянул в глаза Матвейки: сколько же в них было озорства и веселья! Неисправим, нет, неисправим парень. Одни шутки да подковырки у него на уме. Ответил:
– Дочки тоже не будет дома…
– Жалко, – сказал Матвейка и, помахав бригадиру тетрадкой, пошел к своим телятам.
Встретился ли он в тот вечер с Ниной, Михаил Петрович не знал, уж очень занят был. А главное – эта газета. Не один раз прочитал о рецептуре сенажа. Никогда еще ни в своем колхозе, ни в соседнем и помина не было об этом самом сенаже. А дело, кажется, стоящее. Поизмельчить малость залежавшуюся траву, и пожалуйста, закладывай.
Утром первым выехал в луга. Весь день то с граблями, то с меркой, то с вилами; в час, когда выглядывало солнце и слегка подвяливало траву, он бежал к машинам, торопил шоферов с погрузкой и доставкой ее к ферме. Был он оживлен, неутомим.
И вот рядышком с фермой поднялись курганы, плотно закрытые пленкой и землей. Сенаж готов! Приехал председатель колхоза, принялся хвалить бригадира и колхозников за старание. Кашину надо бы только радоваться этой похвале, но он тряс головой:
– Не за что, не за что…
В нем будто все переломилось. Колхозники удивлялись: что же это бригадир отмахивается от заслуженной похвалы? Ведь трава-то спасена. Корм – вот он, здесь, в этих курганах!
– Вижу, устал ты, Петрович, – опять подошел к нему председатель. – Осенью, после уборки, пошлем тебя в санаторий, на юг. Отдохнешь.
Молчал бригадир. Что-то его угнетало, тревожило, может быть, первый раз он так задумался. А о чем – не сказывал, не открывал душу. Уже все разошлись, а он все стоял, опираясь на треугольную мерку, и глядел в сторону перелеска, к которому вела дорога, вся истоптанная копытами.
Моросил дождь, в ямках от копыт рябилась вода, облака по-осеннему низко плыли над землей. Кто-то из ворот фермы окликнул бригадира, зовя под крышу. Тот не отозвался. Все стоял и стоял, обращенный взглядом к перелеску. Казалось, кого-то ждал. Но кого? Никто на дороге не появлялся.
Наконец Михаил Петрович отставил мерку, привычно похлопал по карманам, ища курево. Вытащил помятую пачку папирос, закурил. Постоял еще. Потом поднял мерку и побрел домой, поминутно оглядываясь.
Нина встретила его в дверях.
– Ой, папа, какой ты мокрый, – сказала она. – Раздевайся, да я покормлю тебя обедом.
– Мать где? – проходя к вешалке, спросил он.
– Она там, на пастбище, у Матвея…
– У Матвея? А что ей надо?
– С зоотехником племконторы поехала. Отбирать телят на племя. Зоотехник сказывал – куда-то за границу будут отправлять.
– Ври больше!
– А чего врать? У него в лагере знаешь какие привесы? Самые большие в районе! Он умеет…
– Да, да… – закивал Михаил Петрович. И про себя: «Везде успевает, насмешник. Везде!»
Кашин сидел у окна и поглядывал на тропу. Опять кого-то ждал, долго и терпеливо. Сидел неподвижно, будто прикипел к стулу и окну. И вдруг встрепенулся: из-за угла вышел Матвейка. Встретившись взглядом с бригадиром, Матвейка остановился в нескольких шагах от окна. Должно быть, парень не ожидал увидеть его и не сразу нашелся, о чем заговорить. Но растерянность у Матвейки всегда была недолгая, секундная. Тряхнув головой, он шагнул к окну:
– Как сенаж удался, бригадир?
– Будто не знаешь, – буркнул Михаил Петрович.
– Не знаю, у меня многодельный денек был сегодня. Телят отправлял.
– Слыхал.
– Двадцать голов.
– Двадцать?
– Ага. А дождик-то, брр… – поежился Матвейка, приглаживая мокрые волосы.
– Да, льет… – подтвердил Михаил Петрович, ожидая, когда он попросится войти. Непривычно было самому приглашать.
– Зябко… – опять поежился Матвейка. – Так ничего, сенаж удался? – повторил он вопрос.
– Вот заладил! Заложили, все как следует быть… – ответил Кашин и уже начал сердиться: что он тут мокнет? Ведь поговорить надо!
– В таком разе, – сказал Матвейка, подражая в выражении бригадиру, – пойду. – И повернул от окна к своему дому.
– Куда ты? – всполошился Михаил Петрович. – Зайди. Спросить хочу тебя…
Матвейка остановился. Но еще не решался повернуть обратно: никогда бригадир не звал его к себе, а сейчас… Да уж не ослышался ли он? Глядел на Кашина удивленными глазами, так что даже смешинка пропала.
– Ну, что стоишь, что, говорю, мокнешь? – заторопился Михаил Петрович и пожалел, что нет рядом дочки, она бы лучше позвала, ее бы он непременно послушался, не вовремя улизнула зачем-то в клуб. – Потолковать надо.
– О чем? – спросил Матвейка, не двигаясь с места.
– Так ты заходи.
– Ничего, я и тут постою. Привыкший… – Он посмотрел на часы. – Только поскорее, дядь Миш, спрашивай, через пять минут новый телефильм будут передавать…
– Торопыга, ох, торопыга! – Бригадир кашлянул. – Ты вот что скажи. Целый день об этом думал. Зачем ты все ко мне со спором лез, со своими подсказками? Ну, к чему, у тебя свое дело, с живностью, у меня свое – бригадирское, а? И все с тетрадкой…
– А как же без тетрадки? – удивился Матвейка. – Без нее мне нельзя. Я учусь в сельхозтехникуме, заочно. Проверить-то себя надо. У тебя опыт, а у меня… книжки да вот она…
Он снова взглянул на часы и кивнул Кашину!
– До свиданья, дядь Миш. Пора.
Михаил Петрович глядел ему вслед до тех пор, пока он не скрылся из виду. Тихо подошла к нему Нина, вернувшаяся из клуба, обняла и спросила:
– Папа, ты на что загляделся?..
– А?.. Просто так… на дождик, вот льет, негодный… – сказал он, не поворачиваясь, иначе выдали бы глаза. Потом ласково погладил холодные, еще в каплях дождя ее руки, качнул седеющей головой: – Иди отдыхай, я тоже сейчас…
Но сам все еще думал. О Матвейке и своей судьбе. Не пустобрехом оказался Матвейка, нет, он с понятием, с наукой человек. Вот кого бы надо председателю хвалить!
Несколько дней спустя Михаил Петрович отнес председателю заявление, попросил освободить его от бригадирства. Пора дать дорожку молодым, кои пограмотнее. И написал, кто может заменить его:
«Матвея Вязанкина предлагаю. Свой, колхозный человек».






