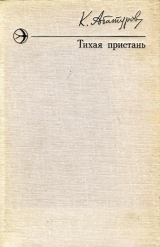
Текст книги "Тихая пристань"
Автор книги: Константин Абатуров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
Но когда миновал тын, он остановился. Безмерно тяжело оказалось вот так ни с чем уходить. Оглянулся. Но ни на тропе, ни у крыльца ее уже не было.
Кузя оторопел. Не стала ждать? Неужели это и есть конец, на что он сам только что был готов? Не раздумывая, припустил бегом к дому Галины Аркадьевны, задевая за ветки хмеля, за выступы тына. Бегом вбежал и на крыльцо. Не стал раздумывать и у дверей в избу: рывком раскрыл ее и шагнул в комнату учительницы.
Галина стояла, прижавшись спиной к этажерке с книгами. Она еще не сняла платок, пальто, туфли. Казалось, ее ничуть не тронуло вторжение Кузи, взгляд был какой-то отчужденный. Восьмухин бросился к ней, взял ее руки в свои, сразу ощутив их дрожь.
– Галина Аркадьевна, успокойтесь, – начал торопливо Кузя. – Это я, я виноват.
– Не надо, Кузьма, – остановила она его.
Кузя притих. А она все так же глядела поверх его головы в окно, куда-то вдаль. Потом спросила:
– Ты брата своего любишь?
Кузя кивнул.
– Скоро он уехал.
– Жалеете?
Она не ответила, только провела рукой по глазам, как бы для того, чтобы дальше видеть.
– Вы же любите его. Ведь любите? – полушепотом спросил он. – Что молчите? Тогда не сказали и теперь…
– Кузьма, добрый мой человек, не спрашивай, не надо.
– Но я должен знать! – умоляюще поглядел он на Галину.
Галина наконец перевела взгляд на Кузю, немного этот взгляд потеплел. Сказала:
– Кого мне жаль, так это тебя, Кузьма. Тебя!.. Не могла я сразу признаться. Думала – у тебя просто увлечение, что оно пройдет. Да, виновата я: не набралась храбрости оказать, что люблю его, Леонида, брата твоего. Прости, если можешь.
– Да, да… – пробормотал Кузя. – Что ж.
Он покачал головой и, выпустив ее руки из своих, шагнул к дверям.
Дома нашел под подушкой маленькую записочку, оставленную Леонидом. При свете фонарика – его подарка – прочел:
«Кузя, браток, не серчай. Ни на меня, ни на Галину. Всегда твой – Л.»
Он долго держал эту записку в руке. Потом с полки, на которой лежал сборник стихов, подаренный ему Галиной, достал карандаш и, примостившись у подоконника, написал на обороте листка:
«Леня, об одном прошу тебя: будь к ней добр. И скорее увези к себе…»
Он помедлил, приписал еще:
«Увези, по-братски прошу…»
Глаша
Мы опоздали: лед тронулся за несколько минут до нас. Узкая горловина Унжи вздыбилась, оглашаясь треском и скрежетом льда. Напор его нарастал на наших глазах. Лед несло сюда с широкого плеса, где уже чернели большие закраины. Река суровела, становясь неподступной.
С началом ледохода подул холодный пронзительный ветер. Поднимая воротник ватника, мой спутник, учетчик тракторной бригады Саша Смельчаков, небольшой, с узкими, чуть-чуть раскосыми синими глазами, угрюмо сказал:
– Утром еще проходили здесь, теперь придется ждать… А вам срочно нужно ехать? – указал он рукой на заречный косогор, где белело здание ремонтной мастерской.
– Срочно.
Смельчаков посмотрел на меня. Я подумал, что он хочет предложить какой-то выход. Но вдруг он отвернулся от реки и перевел взгляд в сторону, на строения животноводческой фермы, что стояли поодаль от небольшой деревни. Он внимательно прислушивался к чему-то, даже затаил дыхание.
Потом обернулся ко мне и, привычно сдвинув на затылок кепку, опросил:
– Слышите?
Откуда-то донесся тоненький девичий голос. Сначала он был негромок, но с порывом ветра окреп, и мы уже различили в задорном напеве слова:
Над полями да над чистыми
Месяц птицею летит…
Глаза Саши потеплели. Он обрадованно затряс головой:
– Она! Приехала! Вот умница! – И ко мне: – Вы подождите, я скоро вернусь! – Поправив кожаную сумку на боку, он быстро зашагал по берегу, на невесть откуда доносившийся голос.
Перебравшись через овраг, Саша приударил бегом по размятой глинистой дороге. Вскоре его невысокая фигура мелькнула возле первой фермской постройки и скрылась. В это время прекратилась и песня. И опять все стало тихо, только по-прежнему слышалось ухание и скрежет льдов. Ветер все крепчал, пронизывая насквозь. На мгновенье из разводья облаков выглянуло солнце. Серебристые блики вспыхнули на реке, разноцветьем окрасились глыбы льда. Но вот солнце скрылось, и река вновь стала холодной и хмурой.
А на берегу ни души. Что же делать? Я пошел по следам Смельчакова на ферму, чтобы там переждать ледоход.
Подойдя к скотному двору, я услышал негромкий разговор.
– Вечером приходи, ладно? Прямо в клуб… Из-за этого я и приехала на день раньше… Придешь?
– Угу…
В открытую дверь я увидел Сашу и девушку. Они стояли обнявшись, счастливые и радостные.
Чтобы не потревожить их, я попятился, но наступил на что-то, под ногами треснуло. Они вздрогнули и, заметив меня, смутились. Девушка пошла к клеткам, на ходу поправляя платок. Была она среднего роста, тоненькая, белая и кудрявая, как березка. Саша остался на месте. Не поднимая глаз, он спросил:
– Лед еще идет?
– Идет.
– Будет мне БВ от бригадира, – вздохнул он. – У меня ведь тут, – указал он на сумку, – магнето, срочно чинить надо, а как переберешься через реку? Опоздал.
– А что такое БВ? – поинтересовался я.
– Большая взбучка, – усмехнулся он. И махнул рукой: – Ладно, пойду на реку – буду дежурить… А уж вы тут побудьте, погрейтесь.
Смельчаков, не дожидаясь ответа, вышел из помещения, а меня подтолкнул к дверям.
Девушка обходила ряды клеток, в которых стояли телята-молочники. Она уже оправилась от смущения. У каждой клетки останавливалась. То поправит подстилку, то почистит теленка щеткой, пощекочет за ушами. Крепыши телята, все одной, палевой масти, протягивали к ней морды, облизывались. Иные подзывали ее к себе коротким мычанием.
– Сейчас напою, – пообещала она.
– Должно быть, они понимают вас? – подходя к девушке, спросил я.
Она метнула на меня взгляд:
– Ноги!
Я оторопело остановился. Меня поразил повелительный, немного резковатый тон после того, ласкового, каким она только что разговаривала с моим спутником.
– Вытрите ноги, – повторила девушка.
Пришлось вернуться к дверям. Когда я опять подошел к ней, она назвалась:
– Гланька!
– А фамилия?
– Может, еще биографию спросите?
Пришлось замолчать. Тогда девушка сама оправилась:
– Новичок тракторист, что ли?
Мой ответ разочаровал ее.
– Оно и видно, что корреспондент: сунули сюда нос не вовремя.
Девушка вышла в боковую дверь и через минуту вернулась оттуда с несколькими стеклянными поилками, наполненными молоком. Назвав какими-то возвышенными именами двух телят, она протянула им поилки.
В это время в соседней клетке взревел крупный головастый бычок.
– Ты что шумишь, Бармалей! – крикнула на него телятница. Бармалей вновь оглушительно промычал и еще пуще завозился, явно выражая протест, что телятница нарушила субординацию, начав пойку отнюдь не с его величества.
– В честь чего ваше правление так назвало этого бычка? – осторожно опросил я девушку.
– Не правление, я сама дала ему это имя, – откликнулась она. – Буйный он, прямо какой-то одержимый. Никак не могу перевоспитать, – повеселела немного телятница.
– А не боитесь, что обидится бычок?
– То же мне и бригадир говорил. У тебя, говорит, политический заскок: теленку дала имя древнего царя. Хотел даже на собрании проработать меня.
Пока она поила телят, я узнал клички и других ее питомцев. Одного она несколько раз называла Ершом Ершовичем, другого – Русланом, а светлую, с симпатичной мордочкой телушку – Снегурочкой.
У девушки был острый глаз и склонность к аналогиям, сравнениям. Должно быть, по повадкам, росту, масти животных она давала им свои имена, пренебрегая теми, которые значились на табличках, что висели на клетках. Оставалось загадкой, почему она избрала книжные имена. На мой вопрос девушка ответила просто:
– Так мне нравится.
Разговаривая, она не сводила глаз с поилок. Когда они опустели, Глаша, кивнув вконец разгневанному Бармалею, что сейчас, мол, и ты получишь свою порцию, пошла за молоком. А мне разрешила посмотреть на доску, где были мелом написаны цифры ежесуточного привеса телят.
Цифры были трехзначные. Больше всех прибывали в весе Бармалей и какой-то Ленивец – по восемьсот пятьдесят граммов в сутки. Но были и такие телята, привес которых достигал только семисот граммов.
– Ну, нравятся наши успехи? – услышал я через некоторое время голос телятницы.
– Ничего, но у караваевцев лучше…
– «Ничего», «лучше» – тоже мне словечки. Вот на будущий год корму для фермы побольше заготовим, тогда и мы догоним караваевцев. Конечно, догоним! – уже решительно повторила она и тряхнула головой. – На семинаре у нас были из Караваева, рассказывали нам, я целую тетрадку исписала, вон она, – кивнула девушка на полку, где рядом с тетрадкой и какой-то книжкой стояли пузырьки с лекарствами.
Телятница стала собираться домой. А я подошел к Снегурочке, слизывавшей с губ последние капельки молока, и принялся гладить ее красивую мордашку.
– Ой, что вы делаете! – подбежала ко мне Гланя и потянула за руку. В глазах ее был испуг.
– А что?.. – не понимал я.
– Ничего… – передразнила она. – Может, на руках-то у вас… – Она поглядела и на руки. – И вообще, телятник – не цирк, нечего тут глазеть.
Выпроводив меня, Гланя заперла телятник на замок и встала у дверей, как страж.
Вот так приемчик. Куда же теперь?
Я пошел на реку. Саши там не было: видимо, парню надоело стоять на ветру и смотреть на беспрерывно движущийся лед. К вечеру стало холодней. В закатных лучах солнца льдины отливали то зеленым, то синим цветом, словно были они из бутылочного стекла.
– Эй, чего ждешь? – раздался из-под крутого берега хриповатый голос.
Ко мне шел старик с наметом в руках.
Я сказал, что жду, когда можно будет переправиться через реку. Старик покачал головой:
– В ледоход-то? Тоже выдумал! Это только Санька Смельчаков мог. Давеча затор тут образовался, так он перебежал на ту сторону. Отчаянный, сорвиголова. Спешно, гляди, в мастерскую понадобилось. А скоро едва ли вернется, ледоход, должно, на всю ночь заладил. Пойдемте к нам, в Починок, там и переночуете, – пригласил он меня и перекинул через плечо мотню намета, в которой трепыхалась еще живая рыба.
Я не отказался.
Починок был недалеко, его дома длинной извилистой цепочкой вытянулись за плесом по неровному берегу, глядясь в неспокойно пробудившуюся реку.
Подходя к деревне, мы увидели у крайней бревенчатой избы Гланю. Оказывается, она тут жила. Гланя подождала немного, хотела о чем-то спросить старика, но не решалась, только глазами сверлила.
– Да прошел, прошел он… – кивнул ей старик.
А когда она скрылась за дверью, пояснил:
– Это, гляди, о Саньке глаза-то ее спрашивали. Вслух не посмела, тебя, незнакомого, небось застеснялась.
– Я уже был у нее в телятнике.
– Пустила?
– Пустить-то пустила, да скоро выпроводила. Потрогал Снегурочку – и пожалуйста. Подумаешь, неприкасаемые телята!
– А ты не смейся, – сказал старик. – Особливо при ней не вздумай. Обидишь. Она и так обиженная.
– Да что такое? – непонимающе глядел я теперь на случайного спутника.
– Значит, причина есть. Недавно она чуть не убегла из деревни. Вот так же как-то днем пришел в телятник один купец-молодец из соседнего колхоза. На племя, видишь ли, хотел отобрать сколько-то голов. И давай ощупывать их. А Снегурочку чем-то еще и угостил. Не будь, слышь, я разборчивым покупателем, чтобы такую красулю не отхватил в свой колхоз. Понравилась. Только на другой день телушечка-то в лежку. Болезнь какая-то нутряная пристала. Прибежала Гланька и бух – к ней. Ревет: «Что с тобой, моя бедненькая, стряслось?» Обвила руками за шею и принялась целовать, да все в морду, в морду. А к вечеру и другой телок слег. Вишь, какую заразу тот занес. Гланька сутками не уходила из телятника. Тут и матушка ее дневала. Она тоже сызмальства все со скотом да скотом и уж толк знала. Каким-то настоем трав все отпаивали телят. Гланька тоже прихворнула, только виду не показывала, крепилась. Молодчины, спасли всех животин.
Старик перекинул мотню намета с одного плеча на другое и повернул на тропку, которая вела к его небольшому дому с резными наличниками, со скворечней на длинном шесте, что стоял у палисадника.
– А Глаша из-за чего же чуть не убежала? – напомнил я старику.
– Парни-зубоскалы начали изводить ее. Пойдет она по улице, а те к ней пристают: покажи да покажи, как с телятами целовалась. Раз услышала – ничего, на второй – рассердилась, а услышала еще – к бригадиру прямехонько. Все-де, хватит, послужила! В город, с глаз долой, хотела махнуть. Спасибо Саньке – всех парней привел к ней, извинения попросили. Ну и осталась. Теперь в нашей деревне запрет строгий насчет разговоров о том случае. Деваха она работящая, с головой, такие ой как нужны на фермах.
Старик вытряхнул из мотни намета рыбу и мотнул головой:
– Теперь в избу, в теплецо!.. – Тут же предупредил: – Смотри не оговорись ненароком, ежели опять увидишь Гланьку.
Я недолго просидел в жарко натопленной избе старика. Под окнами кто-то шел, наигрывая на гармошке. Потом донеслись звуки балалайки и гитары. Вспомнил о клубе, куда днем Глаша приглашала Саньку. Наверно, туда и пошли ребята. Решил и я пойти в клуб.
В клубе шел концерт, было людно. На сцене, опершись рукой о край пианино, стояла в длинном бархатном платье молодая певица. И пианино, и она были до обидного далеко от рампы, в полумраке. Кто-то даже крикнул: «Ближе к свету!», – но певица оставалась на прежнем месте, как будто стеснялась выходить на свет. Голос ее, звонкий, чуть-чуть грустный, все сильнее звучал в тесном зале. Устремив взгляд в глубину его, она как бы спрашивала:
Соловей мой, соловей,
Голосистый соловей,
Ты куда, куда летишь,
Где ты ночку проведешь?..
На какую-то долю минуты песня затихала, словно певица ждала, что же ей ответят, а зал молчал в напряжении. Не дождавшись ответа, она продолжала с новой силой, чистый голос ее звенел и звенел.
Удивительно было, откуда такая знаменитость появилась в колхозе, да еще в бездорожье. Хотя бы показалась как следует.
Пропев «Соловья», артистка поклонилась и ушла за кулисы. Гром аплодисментов заставил ее опять выйти на сцену.
– Веселую давай, веселую! – кричали ей с ближних рядов.
Она вошла, что-то шепнула пианисту, посмотрела в зал и запела, но совсем не веселую песню, а грустную «Грушицу». В ее голосе были знакомые нотки, вроде уже слышанные где-то раньше. С печалью она обращалась в зал:
Далеко уехал мой
Синеглазый, дорогой,
Сердце скорой встречи ждет
И о нем поет…
Последние слова певица повторила, но все равно не смогла подавить грусть. Выдавал ее дрогнувший голос и все тот же ожидающий взгляд, устремленный в конец зала. Кого она искала и непременно хотела увидеть? Кого звала?
Где ты, милый, где ты, мой,
Отзовись скорей, родной…
Зал молчал, стояла выжидающая тишина. Вдруг дверь открылась, и в помещение вошел Смельчаков, мокрый, посиневший. В это же время шагнула на свет, к самому краю рампы, певица. И как-то сразу изменился ее голос, послышалась в нем радость. Знаете, кто это была? Телятница Глаша!
Саша сел рядом со мной на край скамейки. Преодолевая озноб, он подшучивал над собой:
– Видали красавца? Представляете, на самой середине сорвался со льдины и чуть под лед не ушел.
Он приподнял над головой руку и помахал девушке. Та улыбнулась так ласково, как и днем, на ферме, когда стояла обнявшись с Сашей. Он не спускал с нее глаз. А когда она закончила песню и ушла со сцены, Саша обернулся ко мне и тихо проговорил:
– Эх и Глаша! А нарядилась-то как!
Он посмотрел на свой мокрый, испачканный ватник.
– Не разлюбит, не бойся.
– Это я знаю… – улыбнулся Саша. – Она такая, ну, самостоятельная, с душой… Только все спрашивает, когда я прокачу ее на тракторе. А я ведь только учетчик. Придется после сева на курсы трактористов податься.
В перерыве к Саше подошла Глаша и с наигранной обидой упрекнула его:
– Целый вечер заставил нервничать, непутевый!
Потом подхватила его под руку и повела к выходу.
– А посинел-то как! Скорее пойдем отогреваться!
Часы
Заморские гости приехали в Медвежье рано утром. Солнце только шевельнулось за восточным косяком леса, не успев достать первыми лучами до земли, расцветить холодноватую росу. Обычно в это время в лесном поселке было тихо, лишь с узкоколейки доносились первые вздохи паровозов, готовившихся к отъезду в лесосеку.
А сейчас, несмотря на ранний час, пробудились все улочки. К приходу московского поезда перрон был запружен людьми. Едва ли не у всех в руках были цветы. Первый раз приезжали в поселок иностранцы, поэтому для всех было в диковинку посмотреть на них.
По расписанию поезду разрешалось стоять на лесном полустанке всего полторы минуты, и посельчане забеспокоились: как бы гости не замешкались. Но все обошлось хорошо. Из среднего вагона один за другим вышли трое, все кучерявые, темнокожие, в сопровождении молоденькой девчушки, оказавшейся переводчицей.
Все хлынули к ним. Директор леспромхоза, председатель рабочкома, лесорубы поздоровались, обнялись. А женщины поднесли им цветы. Гости улыбались, кланялись, сложив вместе ладоши, сверкая белизной зубов. Они, конечно, не думали, что столько людей придет встречать их.
Что-то они говорили, растягивая слова, делая длинные паузы. Уборщица дома приезжих тетя Глаша, маленькая, сухонькая, выступив вперед, прислушивалась к их говору и мотала головой:
– Волнуются, сердешные…
Она всех, кто прибывал в дом приезжих, называла «сердешными», вкладывая в это слово свое почтение к ним, особенно к командировочным: куда, мол, только не забросит их судьба. И, конечно же, радовалась: есть с кем накоротке поговорить, узнать, как в других местах живут-бывают.
А сегодня тетя Глаша вкладывала в это слово еще и жалость: издалека, слышно, из-за океана пожаловали, на самолете долго летели, небось измотались, устали. Еще вчера вечером она вымыла полы в комнатах, отведенных для иностранцев, в коридоре, на крыльце, на столах поставила вазы с полевыми цветами. А утром прошлась по полам со шваброй. У входа на крыльцо бросила свежие еловые лапы. Везде чисто, здоровый хвойный и цветочный дух. Она не поленилась бы сделать и многое другое, что бы понравилось гостям, но не знала. Уже в последнюю минуту кто-то сказал ей, что на родине у приезжих пальмы не в кадках, а прямо на земле – там ведь зимы не бывает, и огорчилась, что не догадалась принести из дома горшок с молоденькой пальмочкой. Все же напомнила бы им о родине.
Когда гостей повели в дом приезжих, тетя Глаша опять протиснулась к ним поближе. И все разглядывала их. Люди как люди, только ростом поменьше поселковых лесорубов да темноваты лицом и говорят не по-нашему. Выделялись одеждой. Двое пожилых были в белых чалмах, какие тетя Глаша видела в кино на узбеках, в новых белых как снег куртках. Длинные рукава до кончиков пальцев закрывали руки. Лица были в жестковатых складках. Вчера тетя Глаша слышала, что среди гостей двое лесных рабочих, и решила, что это они и есть. Третий был помоложе и ростом повыше их. Он был в сером костюме в клеточку, при галстуке. Из нагрудного кармашка пиджака виднелся уголок платочка.
«Какой форсистый, – заметила тетя Глаша. – Это небось из начальства. Ну, узнаю!»
У дома приезжих гости остановились. Тетя Глаша вырвалась вперед, открыла двери в комнаты. Потом поспешила в умывальню, вынесла туда мыло и свежие полотенца. Пусть умоются с дороги. Тряпочкой протерла вешалку. Хоть пыли на ней и не было, но все-таки. Ведь вон в каком белоснежье они.
Ждать ей долго не пришлось. Гости пришли, поснимали с себя куртки и пиджаки. Тетя Глаша показала им вешалки: «Вот сюда, сюда вешайте. Не бойтесь, не запачкаете». Но когда она увидела их майки, удивленно всплеснула руками. Стираные-перестираные, штопаные-перештопаные. Даже у того, форсистого. Вот те на, сверху-то наряд, а под ним… Она, уборщица, и то в таком дырявом исподнем давно не хаживала. Верно, вместо костюма на ней халат. Но уборщице без него нельзя. Впопыхах, правда, забыла сегодня надеть платок, но это не беда. Вот если бы без часов. Тогда пришлось бы то и дело справляться у кого попало о времени.
Тетя Глаша, размышляя, забыла даже подтереть на полу у плещущихся гостей. Она стояла со шваброй в руке и все глядела широко открытыми глазами на незнакомцев.
Вчера в дежурке, когда она собралась обряжать комнаты, сменщица, завистливая толстушка Феня, сказала: господи, везет же людям, живут в теплой стране, не зная мороза, говорят, там по три урожая в год собирают. И ехидно усмехнулась: валяй-валяй, старайся, авось подарок поднесут тебе заморские-то! Она одернула Феню: дуреха, аль я из-за подарка? Но в душе оставалось вот это упоминание. Оставалось до этих минут.
«Нет, видно, ихняя житуха не малина».
А гости тем временем поглядывали на нее, что-то спрашивая у переводчицы. И, как потом заметила тетя Глаша, почему-то с удивлением смотрели они именно на ее часы. Почему? Не нравятся, что ли? Но не должно: часы угличской марки, такие, слышно, в заграничный торг отправляют.
Так она и не могла понять, в чем дело. Уже когда все пошли в свои комнаты, она принялась подтирать в умывальне. Потом побежала было к ним с только что вскипевшим чайником, но в коридоре встретилась с директором, который сказал, что завтрак для гостей приготовлен в столовой. И увел их.
После завтрака они ушли осматривать хозяйство поселка, побывали на нижнем складе, где вызванивали электропилы, натужно гудели лебедки, посвистывали подъемные краны и шуршали окорочные станки, заглянули на площадку к лесному бассейну, затем поднялись на лесопильный завод и оттуда прошли в механическую мастерскую… Тот, что с платочком в кармане, на все смотрел молча, а двое других то и дело спрашивали директора и старались каждое его слово записать в блокноты.
Потом для гостей был подан мотовоз с вагончиком, и они отправились на ближайшую делянку.
А тетя Глаша все ждала их, не уходила из дома приезжих. Даже на обед. Ей хотелось не спеша поговорить с ними о житье-бытье, спросить и про урожаи, и про их лесные дела, все-все разузнать. Не могла же она пропустить такого случая!
Вернулись они только под вечер. Пришли навеселе, довольные, шумные. Что-то даже напевали по-своему. Тетя Глаша обрадовалась: ну, видно, все пришлось по душе дальним гостенькам! Что ж, леспромхоз не отсталый, люди работящие, что ни месяц, то сверхплановый лес дают. А лес здешний идет не куда-нибудь в захолустье, а даже в столицу. Много также отсылается в Балахну, на бумагу. Сказывают, немало идет и за границу. Всем этим и погордиться можно!
Увидев в коридоре тетю Глашу, гости заулыбались, стали пожимать ей руки.
– Па-сибо!
Хотя и не чисто, но сказанное по-русски это единственное слово растрогало уборщицу.
– За что, сердешные? – спросила она.
Объяснила девушка-переводчица: они благодарят за радушный прием. И добавила, что сейчас были в гостях у одного лесоруба, который угостил русской водочкой и маринованными рыжиками.
«Вот почему они веселенькие», – догадалась тетя Глаша.
В руках у каждого были маленькие боченята с медом. Тетя Глаша прочла на одном: «Дорогим товарищам – от чистого русского сердца!» Подарки! Кто же преподнес? Да, конечно же, лесорубы. И подумала: а что она-то подарит? Ведь вон они как рады всему.
Сразу никак не могла сообразить. Да и некогда было: гости стали спрашивать, довольна ли она своей работой, велика ли у нее семья, хватает ли заработка. Как им не ответить?
– Про заработок что я скажу? – подумав, начала она. – Всяко, сердешные, бывает. Иной раз купишь что подороже, как вот эти, к примеру, часы, то приходится и экономить. Дело это понятное. А так что – все после войны-то оперились. Другое не восполнить…
И стала рассказывать о погибшем на войне муже, плотнике, которому довелось здесь первый дом рубить. Слава богу, что сын остался. Тоже по батькиной части пошел. Самую-то большую улицу он, сынок, построил! Поглядел бы теперь батько! И пояснила, что тут раньше глухой лес был с медвежьими тропами да берлогами. Оттого у поселка и имя такое – Медвежье.
– О, гуд! – зашумели гости. – А он какой из себя, ваш сын? Особенный или, как это у вас, русских, богатырь?
– Зачем? Самый обыкновенный. Только и есть, что росточком чуть поболе меня и покрепче. Мужчина же! Ну, оженился, конечно. Внуков уж куча. Впору бы нянчить мне. Но как бросишь дом приезжих, уйдешь с работы?..
– Почему? Хотите побольше иметь денег, рублей? – спросил гость с платочком в нагрудном кармашке.
– Рубли! В них будто вся радость. Вот еще! От людей не охота уходить! Неуж это можно? Без людей – человек не человек! – заявила она твердо и добавила: – А для внуков есть сад и ясли. Там им не худо.
Замолчала, откинула назад упавшую на лоб прядку седоватых волос, чему-то улыбнулась, да так, что маленькое в лучиках морщин лицо расцвело и в глазах затеплились искорки. В эту минуту она, должно быть, почувствовала себя очень счастливой. По молчание было недолгим. По-доброму оглянув гостей, тетя Глаша обратилась к ним:
– А у вас-то как? Все хочу узнать, – кивнула переводчице. – Помоги мне, милая, объясниться, будь добра.
Потолковав с иностранцами, девушка сказала:
– Они говорят, что живут еще неважно, многого не хватает, что не могут пока оправиться после господ колонизаторов.
К переводчице шагнул пожилой гость, что-то шепнул ей на ухо.
– Чего он? – справилась тетя Глаша.
– Велит сказать: теперь они дружнее стали, костюмы эти покупали в складчину…
– То-то я гляжу… Ай, сердешные! – всплеснула руками уборщица. – А спроси, хорошая, и тому, форсистому, в складчину? – пыталась до конца выяснить тетя Глаша.
– Всем!
– Гляди-ко ты, гляди…
Некоторое время она молчала. Потом опять к переводчице:
– Заодно уж спроси, как в лесу у них: трактора или какие другие машины есть?
– Вся техника у них пока – топор. Отчасти еще слон.
– Топор, слон, ох ты! Как и у нас, значит, когда-то было: топор, пила да лошадь. Соображаю, нелегко и впрямь им. Ну, а лесов-то много у них? Чей лучше?
– Они хвалят наш. Сосняки очень понравились. Говорят – что ни дерево, то медная колонна. А березы и сравнить не знают с чем. Парочку березок повезут домой. Боятся только, приживутся ли.
– Пусть поливают, приживутся! – заверила тетя Глаша.
А когда она кончила расспрашивать, к ней подошел тот же пожилой рабочий из делегации. Извинившись, он взял ее руку в свою, поглядел на коричневую, в ссадинах ладонь, потрогал заскорузлыми пальцами, как бы проверяя: верно ли, что перед ним настоящая уборщица. Нет, рука рабочая. Как и у него, такая же шершавая. Тогда опять посмотрел на часы. Неподдельные и часы. Значит, говорила правду. Задал вопрос:
– У лесорубов тоже часы, у всех, что это значит?
– Что значит? – тетя Глаша сразу не нашлась, что и ответить. Она даже немножко рассердилась, что так недоверчив был с ней старый иностранец. – Ну, а как же без часов? Нужны, чай, они!
– У них только чиновники, состоятельные, носят часы, – начала разъяснять переводчица. – Поэтому их удивляет то, что увидели здесь.
– А-а, поняла, – протянула тетя Глаша. – Состоятельные! А мы разве не состоятельные? Для чего же, спрашивается, мы Советскую власть делали и фашиста-немца прогоняли со своей земли?
– Гуд, гуд! – поклонился пожилой иностранец.
За окном прошумел мотоцикл. Гость обернулся, посмотрел на мотоцикл, мчавшийся по улице.
– Их тоже мы видели сегодня много. Лесорубы едут на работу на мотоциклах. А это что?
– Тоже гуд-гуд! – улыбнулась тетя Глаша. – И те тракторы, и прочая техника, и вот этот поселок – все гуд! А как же!
Гость слушал ее и тер переносицу, силясь во всем получше разобраться.
А тетя Глаша смотрела на него и тут заметила: действительно он без часов. Взглянула на других – и у тех тоже нет.
«Господи, а я-то все думала, что подарить…»
Она поспешно сняла часы, красивые, точные, угличской марки, послушала и надела их на руку старому рабочему, посланцу далекой страны.
– Носите. Они счастливые!
Гость замотал головой, отказываясь принять дорогой подарок, но тетя Глаша, довольная, что так вот нашлась, чем одарить рабочего человека, была неумолима.
В это время пришли директор и главный инженер.
– А это вам от нас! – протянули они остальным членам делегации собственные часы. – Тоже верные!
Растроганные неожиданными подарками, гости долго не могли ничего произнести, только удивленно и часто-часто мигали. Уже потом, уезжая, они сказали, что отныне тоже будут по советскому времени жить.
– Вот и хорошо! Наше время не подведет! – обрадованно закивала им тетя Глаша.






