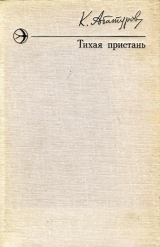
Текст книги "Тихая пристань"
Автор книги: Константин Абатуров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)
Тихая пристань
Тихая пристань
Есть на Ветлуге маленькая сплавная пристанька, которая, кажется, и названия не имеет. Стоит она на берегу залива, куда только ранней весной по большой воде заходят буксиры за плотами. О ней ничего и не знал Владимир Иванович Колесников. Но судьба забросила его сюда как раз перед разливом.
Он появился на ветлужской пристаньке на закате. Почти весь день добирался лесом, по распадкам. Большие резиновые сапоги сплошь были в грязи, ватник и старая солдатская шапка изрядно намокли от дождя, надоедливо сеявшего словно в сито. На берегу он огляделся. В заливе уже чернели закраины, вода выплескивалась на лед, где с зимы лежали пучки и штабеля леса. Два домика, стоявшие на берегу, окнами были обращены к заливу. Один повис над самой кручей. Почему-то Колесников подумал, что в нем и должен жить мастер. Он не ошибся.
Когда постучал в дверь, перед ним появился высокий белокурый человек, назвавшийся мастером сплава.
– Принимай рабочую силу, – сказал ему Колесников, подавая бумажку.
Мастер прочитал, окинул взглядом сутуловатую фигуру Колесникова, заглянул в его серые, глубоко запавшие глаза и вздохнул:
– Перево-озчик… А я жду формовщиков плотов. Видал – Ветлуга просыпается.
Заметив, что у Владимира Ивановича левая рука висит, он спросил:
– Что с ней?
– Это, видишь, после ранения поукоротилась и чуток подсохла, товарищ Чубров. Не перепутал я фамилию? А так ничего…
– Ну, ничего так ничего… Работешка-то не больно дюжа у перевозчика. Н-да…
– Говорили, знаю. А то бы с такой культяпкой разве сунулся…
Мастер нахмурился, закурил и, постояв еще немного, указал новому перевозчику дом, в котором он может занять угловую комнату, потом провел к лодке, что стояла у мостика через овражек.
– Просмоли, а то протекает, – наказал он и добавил: – С завтрева зачислю в штат. А сейчас иди устраивайся, обогревайся.
Комната Владимиру Ивановичу понравилась. Из одного окна был виден весь залив и даже большой рукав Ветлуги, из другого – небольшая полянка, за которой начинался густой еловый лес. В углу стояла железная кровать, около нее стояла на тонких ножках табуретка. А у внутренней стены – печка. Колесников принес дров, затопил печку и поставил в нее чугунок с водой. Скоро в комнате запахло жилым духом.
Попив горячего чая, Владимир Иванович лег спать. Как хорошо после долгой дороги оказаться под кровлей у очага. По всему телу разлилось тепло, и стала одолевать сладкая истома.
Но, погружаясь в дремоту, он все еще думал о своем новом положении. Спасибо начальнику сплавучастка – в тихое место определил. Что ж, и пора. После войны, пока была силенка, работал в лесу, сначала сучкорубом, затем электропильщиком. Но когда стало невмоготу, когда рука делалась все более непослушной, пришлось оставить любимое дело. Всю зиму подлечивал руку, но бесполезно: она продолжала сохнуть. Жена настаивала хлопотать пенсию.
– В пятьдесят-то лет? Вроде стыдновато, – колебался Владимир Иванович.
И вот получил назначение на перевоз, где, по словам начальника, не всегда требуются обе руки.
Конечно, заработок здесь невелик. Но ему хватит. Как-никак семья уже устроена. Можно даже погордиться, что дети пошли по отцовскому пути, то есть по лесной части. Младший окончил лесомеханический техникум и теперь рубит лес в Сибири, а большак вознесся еще выше – кончает лесотехническую академию в Ленинграде. Вот как: сын простого лесоруба будет ученым-лесоводом, академиком!
Колесников сладко улыбнулся в дремоте. Да, все хорошо идет. Вот обживется он здесь, на новом месте, и привезет к себе жену. Весной можно будет огородик вскопать, картошки там или овощей каких посадить. Вполне можно жить. В тихой-то жизни, без надсадного труда, может, и рука будет наливаться кровью. И тогда совсем станет хорошо…
С этой мыслью Колесников и уснул.
* * *
Сплавщики пришли на пристаньку через несколько дней. Более чем до половины реки они пробирались по льду, который подняло и первыми подвижками потеснило к левому берегу. А через громадную полынью, образовавшуюся у правого берега, переправлялись на лодке.
Это были первые рейсы Владимира Ивановича. За утро он со многими познакомился. Оказывается, сплавщики живут в лесной деревне, в четырех километрах от реки. Сюда, на пристаньку, будут приходить каждый день, потом, когда сформируют лес в плоты, отправятся с караванами вниз по Ветлуге. Некоторые пойдут и дальше – по Волге, поведут строевой лес под Куйбышев и даже под Волгоград.
– Наш лесок, друже, всей Волге-матушке известен, без него ни одна большая стройка не обошлась, – с гордостью говорили ему сплавщики.
– Это я знаю, сам пилил, бывало, – отвечал Колесников.
– Почему же ушел?
– Видите – сухорукий…
– Тогда ты не больно натружай ее, мы и сами умеем грести.
И верно: вечером, когда Колесников отправлял рабочих обратно, один из мужчин сел на распашные весла, а ему велел править кормовиком.
Да, работа у Владимира Ивановича была нетяжелая. Он, правда, побаивался ледохода, который не сегодня завтра должен начаться. Как он один доведет большую лодку до противоположного берега, где будут ждать его сплавщики? Но и это опасение не оправдалось: лед прошел ночью, когда перевозчик спал.
Теперь ему стало совсем хорошо. Он аккуратно выполнял свои обязанности. Каждое утро в одно и то же время перевозил рабочих с левого берега на правый, а вечером переправлял обратно. Приходилось еще делать несколько рейсов днем: то случайного путника или какого-нибудь посыльного перевезти, то куда-нибудь «подбросить» мастера.
Работа в заливе шла ходко. Все время тарахтел моторный катер, подтягивающий пучки леса. У выхода в Ветлугу уже стояли на якорях первые грузоплоты. Они вытянулись далеко: ведь в каждом плоту было не менее пяти тысяч кубометров. Владимир Иванович любил наблюдать за формировкой плотов и втайне завидовал сплавщикам, которые ловко орудовали и багром, и топором, и тросом – ничего от их рук не отбивалось.
Он подолгу стоял на берегу, пока его не отзывали к лодке. Перед ним открывалось все «лесное плесо». Как все же много тут леса! Вон и там, за изгибом, чернеют штабеля. Это уж не прошлогодняя ли древесина,, которую как однажды говорил мастер, не сумели вывезти за перешеек? Лес и на берегу. Тысячи, десятки тысяч кубометров. Богатство! И, наверное, каждый кубометр где-то запланирован для употребления в дело.
– Да, в дело, – вслух произносил он. – Большое же оно по всей-то стране.
С залива дул ветер, он нес терпкий запах смолы, по капельке вытапливаемой солнцем из торцов. Владимир Иванович жадно вдыхал этот с детства полюбившийся запах, от которого даже кружилась голова. И каждый раз он уходил с берега чем-то озабоченный, задумчивый, по привычке закинув за спину здоровую руку.
Как-то на пристаньку приехал начальник сплавучастка.
– Нравится здесь? – спросил он Владимира Ивановича.
– Обижаться грешно.
– А вот у сплавщиков сейчас горячка. Послезавтра придут пароходы за вашими плотами. Приехал поговорить с народом, может, сегодня подольше поработают. Торопиться надо. Очень надо торопиться. Ну, бывай здоров, – он повернулся и пошел к сплавщикам.
* * *
Действительно, пароходы пришли в назначенный срок. Пришли на утренней заре, разбудив пристаньку протяжными гудками, которые долго раскатывались по воде и отзывались в прибрежном лесу.
Сплавщики ночевали в этот раз на пристаньке. Поэтому, как услышали гудки, высыпали на берег, захватив с гобой кто котомки, кто самодельные дощатые чемоданы, с которыми плавали по лесным рекам.
К восходу солнца плоты были зачалены к буксирам.
Владимир Иванович и мастер провожали лесной караван до выхода из залива на лодке, затем по берегу пешком. На крутояре у какого-то мутного притока они остановились. Чубров, сложив руки рупором, крикнул:
– Счастливого пути-и! Когда следующих встреча-ать?
– Ждите на неделе-е!
Долго стояли Колесников и Чубров на крутояре. Отсюда хорошо были видны все плоты. На широком плесе они вытягивались большими прямоугольниками, а когда достигли первого крутого поворота, стали изгибаться, словно пытались взять в свои объятия зеленеющий берег. Но сплавщики тотчас же бросились к кичкам и, гремя цепями, проворно опустили в пенистую воду все лоты.
– Дельно! – восторженно оценил их ловкость мастер. И пояснил: – На Ветлуге надо смотреть в оба. Чуть растеряешься или запоздаешь с лотами – и пиши пропало: выбросит на яр. Капризная река, вся вот в таких извилинах. Сколько аварий бывало – не сочтешь. Но теперь спокойнее стало, люди разгадали ее нрав. И техника, конечно, не та. Пароходная тяга применяется. До этого самоплавом гнали, на авось. Н-да…
Владимир Иванович слушал и неотрывно глядел на удаляющийся караван. Вот за изгибом уже исчезли первые плоты, а вот и остальные показывают хвост. Вскоре стали видны одни пароходные дымы. Тогда он обернулся к мастеру:
– А тебе не жаль расставаться с плотами?
– Если бы не жаль, так не провожал; своими руками делано, как говорится – вывожено, – расчувствованно проговорил Чубров. – Это ведь не перевозчичье дело, – полушутя-полусерьезно заметил он.
– Что же, всякому свое, – в тон ему ответил Колесников.
Мастер последний раз взглянул вдаль, где скрылся караван, и махнул:
– Ладно! Все! Пошли!
Вернувшись к заливу, они сели в лодку и поехали осматривать оставшийся лес. Его было еще много, пожалуй, хватит на три грузоплота. Но в заливе стояла непривычная тишина.
На смену отбывшим сплавщикам никто не приходил со сплавного участка.
– Наверное, завтра утром пришлет начальник, – сказал мастер, выходя на берег. Подняв голову, он зажмурился от яркого солнца. – Печет. Если не будет дождя, вода пойдет на убыль. На Ветлуге она убывает быстро. К концу мая так обмелеет, что хоть вброд иди. Боюсь за перешеек. В прошлом году потому и остался вон тот лес, что перешеек в одночасье оголился и не пропустил плот в реку. Н-да, печет… Ты, Иваныч, не забудь завтра пораньше выехать на ту сторону, а то и вечерком прокатись, авось в ночь заявятся. Слышь? – наказал он перевозчику и пошел прочь.
Владимир Иванович продежурил у перевоза до полуночи, прислушиваясь, не зовут ли его с того берега. Никого.
Утром он уехал дежурить на противоположный берег, но опять вернулся ни с чем. Мастер встретил его криком:
– Пустой? Что же это такое? – Он был темнее тучи: – На двадцать сантиметров за одну ночь убыла вода. Беда! И телефона нет известить участок. Да знает же начальник. Что делать, наша пристань не главная…
В полдень пришел катер.
Моторист сказал, что люди прибудут только через два-три дня – так велел передать начальник.
– Спасибо! – мрачно усмехнулся Чубров. – Через три дня перешеек оголится.
– Ничем не могу помочь, – развел руками моторист. – Мое дело – передать распоряжение. До свидания.
Он начал разворачивать катер, но Колесников вдруг схватил мастера за руку.
– Зачем отпускаешь его, Валер Петрович? Задержи, будем сами работать!
– Ты… всерьез, Иваныч?
– Для шуток неподходящее время, – ответил, выпрямляясь, Колесников и подтолкнул Чуброва: – Останови же!
Мастер бросился к воде, прыгнул на разбитую кошму и побежал по шлепающим лесинам, обдававшим его холодными брызгами.
– Стой! – заорал он. – Ко мне!
Рядом с Чубровым оказался Колесников. Когда катер приблизился к кошме, они моментально взобрались на него.
– Поворачивай вон к тем пучкам, – приказал Чубров. – К утру нужно грузоплот сформировать.
– Вы что – угорели? – возмутился моторист. – Мне надо на участок.
– Через два-три дня вернешься… А сейчас будем лес спасать, – отрезал Чубров.
– Одни?
Этот вопрос немного озадачил Чуброва. Но, повернувшись к берегу, он весело сказал:
– Не пугайся! Все население пристани будет в нашей бригаде. Сейчас жену и дочку позову, да гостья у меня там тоскует…
Он увидел на берегу жену с ведрами и закричал:
– Авдотья, одевайтесь и живо к нам. Не забудьте багры захватить.
* * *
За ночь вода убыла еще на двадцать сантиметров. Впрочем, за работой ни Чубров, ни Колесников этого не заметили.
Всю ночь они не сходили на берег, ушли домой только женщины. Всю ночь шумел катер, перетаскивая к перешейку тяжелые двадцатикубометровые пучки леса. Здесь Чубров и Колесников укладывали их в грузоплот. Постепенно росли ряды, принимая форму огромного прямоугольника.
Когда загорелась заря и на встревоженную воду залива упали первые лучи солнца, окрасив ее в розоватый цвет, гул мотора оборвался. Тотчас же стали слышны задорные соловьиные трели. Чубров, прежде чем объявить, что плот готов и можно идти отдыхать, прислушался к птичьей песне.
– Ну и выделывают! Вот артисты! – повернувшись к Колесникову, он заметил, как тот, опершись на багор, стоял на краю плота и задумчиво глядел на прибрежные кусты, откуда несся посвист и щелканье. На уставшем лице его остро обозначились глубокие складки, обветренные губы шевелились. Казалось, он что-то шепчет про себя.
– Тебе плохо, Иваныч? – обеспокоенно спросил мастер.
– А, что? – рассеянно откликнулся Колесников. – Нет, зачем же… – Он неторопливо сел, вынул кисет, закурил. – Утречко-то, а? Помню, такое же было… когда меня ранило. Очнувшись, увидел солнце и услышал соловьев. Медсестра сказала: видите, песней встречают, значит, будете жить. Я тогда не поверил. Ведь у меня не только руки, а и обе ноги были пробиты. А оказалась она права – выдюжил!
– Выходит, и сегодняшние песни за хорошее предзнаменование принял? – подмигнул ему Чубров. – Выдюжишь?
– Вы хоть дайте отдохнуть мотору, если себя не жаль, – взмолился моторист.
Колесников строго посмотрел на моториста.
– Кроме жалости, молодой человек, есть долг.
Но когда узнали о новом спаде воды, моторист покосился на мастера и перевозчика и съязвил:
– Долг? Вот он где останется, здесь, у перешейка… Вся наша работа насмарку пойдет.
– Замолчи! – оборвал его Чубров. – Добрая работа никогда не пропадет. – И распорядился: – После завтрака будем выводить плот за перешеек, там до прихода буксира поставим на якорь. А остальной лес… – Он обвел взглядом еще нетронутые костры на берегу. – Остальной будем укладывать в однорядные плоты. Как думаешь, Иваныч, такие пройдут через перешеек?
– Должны.
– Видишь, голова? – прикрикнул он на моториста.
На завтрак моторист шел последним. Он смотрел на Чуброва и Колесникова и удивлялся, как они, не менее, а может быть, более уставшие, чем он, твердо шагают по утоптанной тропе.
У дома мастера Владимир Иванович придержал Чуброва за локоть:
– У меня, Валер Петрович, еще просьбица родилась. Уважишь?
– Говори!
– Плоты мы мастерим, а ведь их надо и сопровождать. Дозвольте мне в сплавную бригаду податься!
– Постой… А как же эта самая тихая-то жизнь?
Колесников весело затряс головой:
– Не получается она у меня. Не привык…
Чубров помедлил, внимательно поглядел на него.
– А рука не помешает?
– Разработается…
– Тогда валяй, – разрешил он и с несвойственной ему возбужденностью закончил: – Молодец ты у меня Иваныч. Ей-богу!
Из табора
В это утро Петр Федотов запоздал на пикет, чего раньше никогда с ним не бывало. Только выехал на своем трескучем мотоцикле за околицу поселка, как по радио-усилителю объявили:
– Федотова срочно к телефону!
Откровенно говоря, ему не хотелось терять дорогое время, тем более в это утро, которое было для него особым, в некотором роде юбилейным – как раз сегодня исполнялось пять лет работы на сплавном пикете. Он и на реку собрался, как на праздник. Кумачовая рубашка, новая, с широкими полями кепка, до блеска вычищенные хромовые сапоги. Резиновые, будничные, не надел – не подходили к настоящему моменту. Черные усы подкручены, щеки выбриты так чисто, что синева проступала.
Посетовав на непрошеный вызов, Петр повернул к конторе сплавучастка и не успел переступить порог, как дежурная телефонистка протянула ему трубку и пояснила:
– Из райкома.
Действительно, звонил новый секретарь райкома партии. Справившись о делах, о здоровье, он сказал, что к нему собирается один важный человек, что приедет вечером прямо на квартиру.
– Кто, зачем?
– А он сам скажет. Мне не велел говорить…
– Так уж и не велел?
– Не велел… – повторил секретарь.
Федотов немного знал секретаря, зимой встречался с ним на плотбище, а перед началом навигации на рабочем собрании. Вместе сидели в президиуме. После собрания заходил еще на квартиру, посмотреть, как он выразился, «на бытовку своих кадров». Говорил секретарь басисто, даже резковато. А сейчас в его голосе Федотов уловил некую мягкость.
Положив трубку, он некоторое время еще стоял у телефона, высокий, плечистый, с подкрученными усами. Стоял и думал: что за тайны? Кому я понадобился?
– Тебе, дорогуша, ничего не говорил секретарь того, этого?.. – спросил он телефонистку.
– Нет.
– Загадал он мне загадку… Ладно, поеду. – Но в дверях он обернулся: – Ты уж, золотко, сослужи службочку: узнаешь что – гукни мне. Не почтешь за труд?
– Постараюсь.
Когда он приехал на пикет, сплавщики переглянулись: по какому поводу так нарядился бригадир, уж не гульнуть ли собрался? Но Петр, приветливо поздоровавшись, взял свой багор и принялся за дело. Ни о звонке, ни о волнении – ни слова, лишь ругнул себя за опоздание:
– Разнежился ваш бригадир, летнее настроение…
– Что же, ведь и отдохнуть когда-то надо, – в лад ему проговорил кто-то из сплавщиков.
– Не сейчас. Река вон как мелеет. Силу теряет.
Лунга тихо струилась; нельзя было и подумать, что месяца полтора назад тут буйствовал разлив, затопив все поймы, с корнем вырывал прибрежные деревья. Большая вода нынче скатилась за несколько дней. И с тех пор над рекой еще ни разу не прогремела гроза. Лето наступило сухое. День ото дня Лунга мелела, как бы таяла. По берегам желтели песчаные откосы, то тут, то там выставлялись на середине белесые островки.
А лес на пикет все прибывал. После костромского пошел вологодский. Этот в долгом плавании изрядно намок. Иные бревна выставляли из воды одни почерневшие торцы. На мели они застревали. Не протолкни вовремя – немедленно образуется затор. Сколько уже «расшили» сплавщики таких заторов за своем многокилометровом пикете!
Вот и сегодня на серединной отмели скопился затор. Ночью соседи спустили много леса с бокового притаежного притока, и дежурным не удалось как следует встретить поток. В другое время бригадир спросил бы с них – куда, мол, глядели? В этот раз он не посчитал за ними вины.
– Идите отдыхать, а мы тут одни управимся, – сказал Федотов ночным дежурным и добавил, подняв голову: – К полудню бы закончить…
– Едва ли сумеем, голова, – заговорили сплавщики. – Вон какая прорва скопилась.
– Надо бы! – повторил Петр и с какой-то особенной душевной теплотой поглядел на своих друзей.
Этот взгляд тронул их. Пусть будет трудно – раньше такие «пыжи» разбирали за целый день, а то и больше, но как не уважить настойчивую просьбу бригадира!
И когда, как раз в полдень, было отправлено в дальнюю дорогу последнее бревно из затора, Петр снял с лысеющей головы кепку и молча поклонился друзьям. Потом поспешно зашагал в сторону дороги, залитой солнцем. Там остановился, глядя вдаль.
С реки кричали ему, а он не слышал. Он видел только эту дорогу, что выходила на простор цветущих лугов из дальнего леса. На какое-то мгновение в черных угольках глаз отразилась печаль о былом. Но скоро опять засветились глаза, снова в них загорелась радость. Он развел руками, словно собираясь обнять ими весь этот обширный край.
Спустившись к реке, к своим, сказал:
– Извиняйте, расчувствовался. – И попросил: – У кого есть махра? Ох, и затянусь!
– А чего ты, дядь Петь? – не понимая, спросил курносый Пронька, самый молодой сплавщик, новичок.
– Праздник у меня сегодня. Праздник! – повторил он. – Пять лет назад я по той дороге приехал к вам. И больше – никуда. Понимаешь теперь или нет, что это такое?
* * *
…Было так. После долгого кочевья цыганский табор приехал на Лунгу. Место понравилось. За лугами – поля, деревни, а в нескольких километрах – старинный город. Вроде бы есть где «поцыганить». Пока старшой, коренастый чернобородый человек лет пятидесяти, думал, кого куда послать, кого какой обложить «данью», из одной кибитки вышел высокий, стройный цыган с молодой женой и остроглазой худенькой девочкой в грязном, истрепанном платьишке.
Пошли к реке. Цыган был хмур, задумчив. Больше месяца ехали сюда из вятских мест. Старшой обещал там легкую жизнь. Мужиков посылал с лошадьми на шабашки, женщин – на гадания и прочие занятия. Строг был Игнат – так звали старшого, – не раз пускал в ход и плетку, требуя щедрых приношений. Но доходы были невелики, особенно у женщин. Мало оказывалось охотников на гадания. Мальцы готовы были за мизерную подачку плясать на животе, целовать землю, но охочих зрителей не находилось. Так с пустыми карманами и пришлось ехать в новое кочевье.
«А даст ли что-нибудь Лунга?» – думал молодой цыган. Не раз он ловил себя на мысли, что пора кончать со старыми порядками, с кочевой жизнью, цыганской вольностью. Какая же это вольность, когда человек не расставался с нуждой, стоял на грани дикости, бескультурья, когда настоящая жизнь проходила мимо!
Однако груз старого все еще не давал ему решиться на что-то серьезное. Да он пока и не знал, где бы мог пригодиться. Умел только на лошади работать, а теперь везде техника, поспорь-ка с ней на лошаденке! Но когда он увидел сплавную реку, неожиданно оживился, и глаза засветились. Жена, шагавшая рядом, спросила:
– Ты что?
Он указал на людей в брезентовых робах, с баграми в руках, на катер, что тянул кошель до середине реки.
– Туда бы, к ним!
– Так и примут, держи карман шире…
Но он все же пошел к сплавщикам. Спустившись с берега, оглянулся. Увидел: жена, выжидаючи, стояла у кибитки, не сводя взгляда с него, а поодаль стоял еще молодой цыган, Василек, первейший танцор в таборе, не раз жаловавшийся, что для него нет тут простора. Петр помахал им рукой и ускорил шаг. Через несколько минут он уже разговаривал с начальником сплавучастка.
– Из табора? А не сбежишь? Мы работникам рады, но чтоб без обмана! – предупредил его начальник.
А на другой день в списке сплавщиков прибавилось новое имя: Петр Алексеевич Федотов.
Об этом немедленно узнал старшой. Вздернув на затылок картуз и поигрывая плеткой, он рявкнул:
– Продался? Своим изменил? Винись, пока не поздно!
– Нет! – отрезал Петр.
Первый раз в жизни он не послушался старшого.
Тотчас же над ним просвистела плетка и больно ожгла шею и плечо. Игнат замахнулся было и второй раз, но, увидев, как сурово насупился Петр, отступил назад, к кибиткам.
Когда Петр пришел на берег, сплавщики заметили, как треплет его нервная дрожь, и протянули ему кисеты.
– Покури, да и начнешь…
В этот день его поставили вместе с чернявым, хмурым на вид мужчиной и рыжим баламутистым малым на протоку, забитую лесом. Еще пока он шел к протоке, рыжий толкал чернявого:
– Гли-ко, как багор-то держит – за рогульку. Работничка взяли!
До позднего вечера пришлось выводить лес из протоки. С непривычки новый работник «нахватал» руки, набил волдырей. Усталым вернулся в избушку, где собрались люди на ужин. И задумался: «Может, зря я ушел от своих, может, не за свое дело взялся?»
– Петро, ты чего? Бери ложку, подкрепляйся! – сказал ему старый, степенный сплотчик Ефим.
Поужинав, Петр прикорнул в уголке. «Может, – продолжал он размышлять, – в темноте и податься к своим? Не выйдет же у меня тут ничего. Вон руки-то…» Но тут же вспомнил о старой жизни. Нет, обратный путь отрезан. Да и нечего жалеть. Только вот это неумение. Неужто так-таки ничего и не выйдет?
На память пришел давний случай. Вот так же впервые послали его, тогда еще безусого паренька, в деревню к одному безлошаднику вспахать заросшую бурьяном полоску. А лошадь дали слабенькую. Никак не тянула, хоть все бросай. Но он нашел выход: сам впрягся в пристяжные и вспахал все-таки полосу. Тяжело было, руки-ноги подгибались, но выдюжил. А сейчас, при теперешнем новом деле?
Он взглянул на сплавщиков, еще сидевших за столом; они неторопливо разговаривали, дымя цигарками. В разговор о сплаве вплетались и житейские дела – о предстоящих свадьбах, о том, кто куда из сыновей и дочек собирается ехать учиться, кто явится сюда, к отцам, на подмогу. Какая же это согласная, дружная семья! И Петр закивал сам себе: уж если тогда я один не отступил, то теперь, в такой артели, и сам бог велел. Обязан ты, Петро, выдюжить!
С этой мыслью он и заснул, не смог и в кибитку свою заглянуть. А она стояла уже отдельно от табора – старшой распорядился «изгнать изменщиков». Ночью рыжий толкнул Петра в бок:
– Вставай, работничек!
Открыл глаза: в раскрытую дверь избушки доносился свист ветра, шум ливня; сплавщики один за другим выскакивали в темень бушующей ночи. Петр тоже вскочил и, накинув на плечи пиджак, бросился вон, под дождь и ветер. Кто-то сунул ему в руки багор, да так неаккуратно, что лопнули волдыри. Он поморщился от боли, но не остановился, вместе со всеми бежал по берегу, еще не зная куда именно.
Только миновав первый изворот реки, все остановились, и Петр увидел, какую беду принесла буря. В устье протоки прорвало кошель с лесом. Древесина хлынула в Лунгу и, подгоняемая волнами, густо пошла вниз. Всю ее грозило разнести, погубить.
Петр не запомнил, кто его толкнул в лодку и подал канат, только услышал:
– Быстро на ту сторону!
Вместе с ним опять оказался рыжий. Вдвоем они быстро пересекли реку и закрепили канат на мертвяке. Потом ринулись вниз, вдогонку уплывающему лесу. На середине реки лодку зажало бревнами и перевернуло. Петр сумел ухватиться за борт, но напарник растерялся, не успел ни за что зацепиться, его немедленно потянуло вглубь. Раза два вскрикнув, он погрузился с головой. Петр нырнул и выволок его на бревна. Но бревна были такими скользкими, вертячими, что то и дело сбрасывали с себя и Петра и его перепуганного напарника. С большим трудом удалось Петру вытащить его на мель.
К утру весь лес был прижат к берегу и намертво закреплен тросами.
Буря затихла. Сплавщики разожгли большой костер на берегу и стали обсушиваться. К Петру, сидевшему у огня и отжимавшему портянки, подошел рыжий:
– Закури, дорогуша. Я сухонького из избушки принес. – Сам он и цигарку свернул. А когда тот жадно затянулся, закивал: – Кури, кури, я еще привесу.
Должно быть, по-другому он не умел благодарить. Но тут подошел к Петру старый Ефим.
– Похвально ты, Лексеич, сплавное крещение принял. – И прикрикнул на рыжего: – А ты еще ворчал!
– Не брани его, добрая душа. Я и сам вначале всего побаивался. А теперь…
Глаза его заискрились. Он поверил в свои силы и доброту новых товарищей.
Через несколько дней табор снялся. С тех пор Петр Федотов ни разу больше не виделся с грозным старшим. Но иногда он вспоминал его. По-прежнему он представлялся ему человеком дерзким и властным, не терпящим ослушания. Но, как и всякий труженик, он ценил в нем и то, что шло от умельства. А умел Игнат немало. И, наверное, поэтому стал вожаком в таборе. Мог он и добротно коня подковать, и приготовить живительное снадобье для больных – травы какие-то находил в лесу, и утихомирить любого буяна жеребца. Норовистых трехлеток объезжал только он. Сколько бы ни бесился жеребец, а Игната сбросить не мог. Как клещами, впивался он кривыми ногами в бока коня и бил его плеткой до тех пор, пока тот не полетит что есть духу.
Да, плеткой он умел орудовать. При воспоминании о ней Петр и сейчас еще как бы ощущал боль в плече и на шее. Где он, Игнат, теперь кочует? Сейчас ему уже за пятьдесят. Небось в курчавую бороду вплелась седина. Норовистых лошадей он мог укрощать, а укротил ли свой норов? Неужели не расстался со своей плеткой? И неужто не надоело ему кочевать? Эх, Игнат, Игнат…
Вспоминал он и Василька. Все виделись его задумчивые глаза, когда Василек глядел на него тогда с берега. И корил себя за то, что не позвал с собой. Авось бы и он стал плотогоном. Здесь, на реке, хватило бы простора, о котором он тосковал.
Сам Петр Алексеевич все эти годы будто по лестнице поднимался. Плотогоны не только дали ему работу, но позаботились и о жилье. В палатке прожил лишь до осени, тогда сам начальник вручил ему ключи от новой квартиры в центральном поселке, что вытянулся вдоль крутого берега реки. Осенью дочь пошла в школу. Нашлось дело и жене – ей доверили охрану плотбища.
Сегодня Петру Федотову вспоминалось все. И то, как он впервые взял в руки багор, и как поехал на лодке сопровождать молевую древесину, и как связывал первый многотонный пучок бревен на воде, и как под началом Ефима Кряжева встал на формировку первого плота. Спасибо старому: научил на славу мастерить плоты. Он же, Ефим, благословил его и на бригадирство. Так и сказал:
– Способно прошел ты, Петро, все сплавные науки. И в хватке тебе не откажешь. А потому и вставай во главе бригады.
И даже обнял его и расцеловал по русскому обычаю – троекратно.
Нет, не ошибся он, что ушел из табора и стал плотогоном. Полюбились ему лунгенские сплавщики. Полюбилась и река своей буйностью в короткое время водополья, степенностью в тихие лета – качествами, которыми обладал и он сам.
Сегодня он вновь вспомнил о старшом, Игнате, и мысленно спорил с ним: «Не прав ты, старина, что цыганам дороже всего вольное кочевье, сладость его дыма. Знаю я эту сладость!»
И все же он удивлялся: как могла пробудиться в нем жажда к труду, кто ее разбудил? Конечно же, они, русские друзья, они научили его любить труд и вдохнули в его душу уверенность, что человек все может.
* * *
Человек! Это слово Петру Алексеевичу хочется повторять много раз. Здесь, на Лунге, он, цыган, и стал человеком. Вот какой у него сегодня юбилей! Он еще раз оглядывает реку:
– Ого, опять густо пошел. А ну, за багры!..
Вечером в его доме зажглись огни. К возвращению мужа маленькая черноокая жена напекла пирогов. Послышались голоса девочек. Это к дочери, пятикласснице Гале, пришли подруги. А скоро придут в гости и его товарищи, вся бригада. Раздеваясь, он еще прислушивался к шуму улицы и приречных агрегатов. Работа не останавливалась на реке круглые сутки. Ведь Лунга – река лесная, река-труженица. Интересно, сколько же бригада сплавила леса? Да, сколько? В юбилей надо хорошо знать этот итог.
Он вслух принялся считать. И громко произнес:
– Миллион!
Сказал, засмеялся.
– Маша, золотко, слышишь, – обратился к жене, – поздравляй: я – миллионер!
– Совсем с ума сошел, – с укоризной покачала та головой, не ведая, какие миллионы он считает.
– С ума сходил Игнат, когда хвалился таборной жизнью, – ответил Петр и недоуменно развел руками: почему он сегодня из головы нейдет?
Когда пришли друзья и сели за стол, он опять подумал об Игнате и провел рукой по шее.
– Замечаю: чтой-то все гладишь ты шею, парень? – справился у него старый Кряжев.







