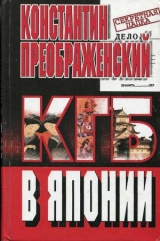
Текст книги "КГБ в Японии. Шпион, который любил Токио"
Автор книги: Константин Преображенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 24 страниц)
Примерно так же относилось начальство в резидентурах к тем из нас, кто спрашивал, как следует себя вести в случае ареста вражеской контрразведкой. Этот вопрос почему-то вызывал злобу.
«Так неужели в разведке не велась разъяснительная работа по этому вполне злободневному поводу?» – спросите вы.
Конечно велась, но только в одностороннем порядке и дозированно. Вешало начальство, а подчиненным полагалось внимать, и стоило разведчику задать какой-нибудь вопрос, как начальство начинало хмуриться и подозрительно поглядывать на непонятливого подчиненного и строить предположения о том, что этот самый подчиненный, скорее всего, однажды уже был арестован контрразведкой, но затем выпущен в обмен на предательство и сейчас вырабатывает линию поведения. А такие случаи и в самом деле бывали.
Я тоже задал однажды такой вопрос, начальник просто-таки изменился в лице и стал бормотать что-то о родине, которая, мол, меня никогда не выдаст, и о трусости, которая нашему разведчику не к лицу. А через неделю меня отозвали в Москву, якобы в отпуск, но все решили, что это не так: ведь даже заместитель резидента по научно-технической разведке не счел возможным со мной попрощаться.
В тяжелом настроении я ехал на встречу с родной страной, перебирая в памяти все возможные прегрешения, но об упомянутом выше разговоре даже не вспоминал, считая, что задавать начальству интересующий тебя вопрос естественно. Оказалось же, что причиной вызова послужил именно этот злополучный вопрос. Начальник тут же поведал о своих подозрениях резиденту, а тот шифрованной телеграммой сообщил в Москву, докладывая, что я «занервничал». Там было решено вызвать меня, провести проверочные беседы и по их итогам решить, стоит ли пускать назад в Токио.
Беседы, к счастью, оказались несложными.
– Вы занервничали? – спрашивали московские начальники, глядя на меня в упор.
– Нет! – твердо отвечал я, подтверждая это веселой улыбкой.
Поскольку каждый досрочный отзыв разведчика из-за границы требует от начальства письменных объяснений перед еще более высоким руководством и свидетельствует о кадровых промашках, было решено отпустить меня восвояси. Окрыленный, возвратился я в Токио, ставший мне за эти годы родным и близким. А когда через год меня и в самом деле задержала японская контрразведка, то о недавнем вызове в Москву никто и не вспоминал…
Впрочем, захваты и аресты наших разведчиков в Японии все же редки. Обычно местные власти в резкой форме приказывают уехать, а на следующий день поднимают в газетах шум: «О, ужас! Шпиону удалось бежать!..»
В газетах появлялись фотографии разведчика, взятые, как правило, из его регистрационного дела в японском министерстве иностранных дел. Документальные же кадры шпионской деятельности обнародовались крайне редко, чтобы не давать нашей разведке повода для самоусовершенствования.
Ей, впрочем, было не до того. Начальники сидели в резидентуре с мрачными и перекошенными лицами и в ужасе ждали новых разоблачений. От просьбы дать интервью они с раздражением отмахивались. Иногда, впрочем, наоборот, собирали в посольском клубе особо доверенных наших журналистов и инструктировали их:
– Объясните иностранцам, что никакого шпионажа, конечно, нет и не может быть. Это грубая провокация. Особо подчеркните, что в посольстве нет никакой паники…
Разведчик же летел в самолете в Москву, не помня себя от страха.
«Что со мной теперь будет? Кем объявят меня – преступником или героем?..»
Это зависело исключительно от начальства. Оно тщательно, не торопясь, вырабатывало свою точку зрения, исходя из того, что к работе разведчика вообще отношения не имело: общую картину деятельности резидентуры, личные связи начальника отдела и отношение к нему руководителя разведки: желает он его возвысить или свалить. Так очень часто бедный чекист оказывался жертвой случайных обстоятельств. Но все задавали ему один и тот же вопрос:
– Где же ты прокололся, дружок? Откуда японцы узнали, что ты разведчик?..
Краснея, неудачник-шпион бормотал что-то неясное, стараясь разгадать замыслы руководства. Ни слова не говорил он о глупых дежурствах в резидентуре, о полуночных собраниях под наблюдением контрразведки, о ненадежной машине, перешедшей к нему от скомпрометированного предшественника. Вместо этого он упирал на коварство японских спецслужб, слабость агентуры и собственные недоработки. Не трогал он лишь начальство. Оно же после небольшого разбирательства определяло судьбу разведчика, объявляя его или вконец расшифрованным, подходящим лишь для работы в архиве, или, наоборот, абсолютно невиновным, пригодным для дальнейшей работы за рубежом. Многостраничный документ, подготавливаемый по итогам проверки, так и назывался: «Заключение о степени расшифровки разведчика». V японцев подобное заключение лишь вызвало бы смех. Похоже, так иногда и бывало…
V
Когда у нашего разведчика истекал очередной год работы в Японии, он без конца задавался вопросом: продлит ему на сей раз полиция визу или нет? Хотя формально ее выдает консульский отдел министерства иностранных дел, все знали, что этим занимаются спецслужбы. Церемония выдачи визы становится для разведчика критическим этапом, сулящим либо еще год увлекательной шпионской работы, либо бесславный ее конец. Поэтому с тяжелым сердцем он садился за руль автомобиля и ехал к заветному небоскребу, в котором среди множества разных контор приютились офисы по выдаче виз.
Для обычных иностранцев продление визы не представляет никакой сложности. Заполнив анкету, они передают ее в соответствующее окошко вместе с паспортом и немедленно получают штамп. Мы же тщательно продумываем вопросы анкеты, пишем ответы аккуратными иероглифами или по-английски и с замиранием сердца подходим к определенному окошку.
Чиновник в ярко-синем мундире перелистывает паспорт, на минуту отлучается в соседнюю комнату, где, видимо, имеется картотека шпионов, и просит заехать через неделю. И начинается неделя мучительных терзаний А когда через неделю обращаемся к тому же чиновнику, он встречает вас с лукавой улыбкой.
– Вашу визу решили не продлевать! – сообщает он. – А если у вас есть вопросы, позвоните в отдел общественной безопасности полковнику Танаке вот по этому телефону!..
«О нет, только не это!» – бормочете вы и, взяв паспорт, чуть ли не бегом направляетесь к выходу…
«Ведь дело еще можно замять! – судорожно размышлял разведчик. – Если быстро уехать в Москву, сделав вид, что командировка закончилась по плану, и тихо переждать, если к тому же в японских газетах не появится разоблачительных публикаций, тогда через несколько лет можно снова подать документы на визу, и тот же полковник Танака, саркастически рассмеявшись, прикажет:
– Выдать!..»
Но бывает и по-другому.
– Ах, это вы? – рассмеялся чиновник, перелистав однажды мой паспорт, и тут же поставил в нем штамп о продлении визы, не дожидаясь истечения положенного недельного срока. Обрадованный, я поспешил в торгпредство, чтобы похвастаться перед товарищами по резидентуре.
– Смотри никому не проболтайся об этом! – предостерегающе поднял палец заместитель резидента.
– Никому из японцев? – на всякий случай уточнил я.
– При чем здесь японцы?! – вспылил он. – Ведь не они подписывают заключение о степени твоей расшифровки! Это делают наши генералы…
На них же вся эта сложнейшая суета совершенно не распространялась. Они запросто ездили по всему миру, совершая инспекционные объезды резидентур. Очень часто местная пресса реагировала на их визиты язвительными статьями, в которых резала правду-матку, но эти публикации, губительные для рядового разведчика, на карьере генералов абсолютно не отражались, и те запрашивали очередные визы в иностранных посольствах. Считалось, что генералам расшифровка не страшна, поскольку они не занимаются оперативной работой. Но истинная причина состояла в другом: руководители разведки были уверены, что их коллеги в другой, пусть и враждебной, стране должны относиться к ним более лояльно, чем к рядовым чекистам, проявляя некую международную солидарность руководящих работников. Когда же этого не происходило, наши генералы обижались до глубины души.
Помню, каком вой поднялся в руководстве советской разведки, когда американцы отказали во въездной визе одному из заместителей Крючкова, возглавлявшему промышленный шпионаж, генералу Л. Эта информация была тотчас засекречено от рядовых чекистов. А его распаленные гневом помощники советовали принять ответные меры, vтолько из-за очередного шпионского скандала эта история отошла на второй план. Генерал же Л., разумеется, выезжал за границу еще множество раз и никто не ставил вопрос о его расшифровке перед противником.
Только изредка, когда опасность нешуточной расшифровки вставала перед генералами слишком явно, они начинали быстро принимать меры по собственному спасению. После того как из Токио бежал советский разведчик Станислав Левченко, все его коллеги затаились в страхе, втянув головы в плечи, а у одного из них даже случился сердечный приступ. Ведь теперь всех, по правилам КГБ, должны были признать расшифрованными и закрыть им выезд за границу. Для разведчика это – конец карьеры. И только начальник Левченко, будущий генерал В., более всех причастный к его побегу, ходил по высоким кабинетам и задорно предлагал:
– А пошлите-ка меня на неделю в Таиланд! Увидите, ничего со мной не случится! Козни Левченко мне не повредят!..
Просьба В. была уважена. Он быстро съездил в Бангкок, и с ним действительно ничего не случилось, как не случилось бы этого и ни с кем из его младших коллег, известных Левченко по совместной работе в резидентуре. Да вот загвоздка: их никто и не думал посылать в Таиланд, а если бы они посмели заикнуться об этом, как В., это было бы воспринято с неодобрением и укором – как стремление любой ценой вырваться за границу, а может быть, и убежать туда вслед за Левченко. Некоторых из них, правда, все же стали выпускать через несколько лет за рубеж, но иные застряли в Москве навечно.
В. же продолжал ездить в заграничные командировки как ни в чем не бывало. Разоблачительные и злые статьи Левченко в журналах, разошедшиеся по всему миру, генералу нисколько не повредили.
Глава 11
Прощай, Лубянка!
I
Это случилось…
«Такого мои родители не переживут!» Это было первое, о чем я подумал, когда поздней ночью 15 июля 1985 гола в парке Сэндзоку под проливным дождем из зарослей кустарника вышла группа мужчин в светлых плащах и направила на меня луч прожектора. Где-то рядом застрекотала видеокамера. Их появление оказалось полной неожиданностью для меня, потому что я-то ждал завербованного мною китайского агента по фамилии Кан.
– Мы желаем побеседовать о господине Кане. Прошу проехать с нами в полицейский участок! – сказал один из них довольно холодным тоном.
Эх, если бы я знал, что именно сегодня после длительного периода отчуждения в советско-китайских отношениях в Москву с официальным визитом прибывает высокопоставленный представитель китайского правительства, заместитель премьера Госсовета Юй Цюли! Тогда бы я сразу сообразил, что японская контрразведка вполне может воспользоваться моей встречей с Каном, чтобы заявить на весь мир: «Советский Союз с одной стороны дружит с Китаем, а с другой – вербует у нас в Японии китайских ученых!» Тогда очередной контакт с агентом можно было бы и пропустить. Не случилось бы ничего страшного, если бы он, прождав меня положенный час, ушел бы восвояси, в студенческую общагу, сожалея, может быть, об утраченной возможности наесться до отвала в роскошнейшем ресторане. Но через пару дней я отловил бы его на улице и, в порядке компенсации, повел бы в сверхдорогой ресторан, где официанты в черных фраках тотчас устремляются к вам и разве что не бухаются перед вами на колени.
Однако о визите Юй Цюли в Москву я и понятия не имел, хотя и был корреспондентом ТАСС, обязанным находиться в курсе событий. Но на самом-то деле я никаким корреспондентом ТАСС не был! И у меня не было времени вникать во всю эту информационную шумиху, к которой разведка отношения не имела. Похоже, не знало об этом и руководство токийской резидентуры КГБ, хотя в ее штате имелся сотрудник, отслеживающий всю информацию о Китае, содержащуюся как в японских газетах, так и в информационных сообщениях, добытых нами, разведчиками. На их основе он составлял ежедневно несколько шифротелеграмм в ЦК КПСС.
Он был отличным китаистом и подолгу рассказывал мне, как работал в Пекине в годы культурной революции в советском посольстве. Однажды беснующаяся толпа хунвэйбинов окружила его машину и не давала ей двинуться с места в течение чуть ли не целых суток. С ним вместе в машине находилось несколько его коллег. Все они мужественно переносили эту попытку. Достоинство советских дипломатов не позволяло им просить хунвэйбинов хотя бы на несколько минут выпустить их из машины. За все это они получили ордена «Знак Почета».
Разумеется, этот человек знал о предстоящем визите Юй Цюли в Москву и даже наверняка просил моих коллег, работающих по линии политической разведки, собрать отклики на него в японском МИД среди журналистов и в первую очередь среди наших агентов – парламентариев и иных крупных политических деятелей.
Беда была в том, что он и сам принадлежал к линии политической разведки. В соответствии с принципом конспирации, регламентирующим деятельность разведки, всякий обмен информацией внутри ее запрещен. Не только между крупными линиями разведки, но и внутри каждого отдела, управления и, наконец, в каждом кабинете, где сидят двое-трое разведчиков. Я, например, и понятия не имел, чем занимаются мои напарники из разведки по ТАСС, а спросив, сразу записал бы себя в агенты американской или японской разведок.
Поэтому моему старшему коллеге, с которым у меня сложились хорошие личные отношения, и в голову не пришло посвятить меня в подробности предстоящего визита Юй Цюли в Москву: дружба дружбой, а служба службой…
К тому времени я почти уже не бывал в ТАСС, потому что оброс множеством китайских агентов. Их у меня было около двадцати, среди них – пять кандидатов на вербовку. О каждом приходилось писать уйму бумаг, и на это уходило несколько часов ежедневно. Заведующий отделением ТАСС перестал со мной разговаривать. Товарищи по ТАСС тоже махнули на меня рукой, я на них – тоже, потому что никакими товарищами они мне никогда не были, а скорее кандидатами на вербовку. Я сознательно сделал этот выбор, намереваясь во что бы то ни стало прослыть одним из лучших вербовщиков китайцев во всей советской разведке. Год назад, когда я находился в отпуске в Москве, мне было поручено сделать доклад о работе против Китая на конференции, которая состоялась в огромном актовом зале в Ясеневе. Открывал конференцию сам Крючков. Затем выступили ответственные сотрудники ведущих отделов разведки, поделившиеся с сидящей в зале тысячью чекистов своим опытом втягивания китайцев в сотрудничество с нашей разведкой. Среди них был и я, представлявший один все управление «Т» – научно-техническую разведку. Я был невероятно горд этим!..
Полицейские не хватали меня за руки, не заталкивали в машину, как это нередко делают наши контрразведчики в КГБ, арестовывая американских шпионов. Прикрывшись от проливного дождя прозрачными зонтиками, они стояли рядком в полутора метрах от меня и ждали ответа на вопрос: согласен ли я поехать в полицию?
Меня это удивило.
«Как же так, дорогие японские чекисты? – мысленно вопрошал я. – Неужели вы не знаете, что советский разведчик, попав в плен, не имеет права произнести хоть одно слово! Тем более, что вы снимаете его. А среди вас самих вполне может быть человек, завербованный нашей резидентурой. И разве есть гарантия, что кассета не попадет в руки управления «К»? Что оно скажет, если я произнесу «да, согласен!»? Но даже если я скажу «нет!», это тоже будет означать некий контакт с врагом. А помните, как у нас поступали с такими контактерами в годы войны? И сейчас, между прочим, ничего по сравнению с тем временем не изменилось!.. Вы же работаете против КГБ! Почему же не изучили наших правил?!»
Тем временем за моей спиной прошуршал шинами автомобиль и остановился. Вообще-то в парковую зону въезжать нельзя, но для полицейских автомобилей принято делать исключение. Впрочем, автомобиль не имел никаких знаков принадлежности к полиции. Это была «тойота» среднего класса, которые во множестве движутся по узким японским улицам, ничем особенно не отличаясь друг от друга, кроме ярких, а порой и причудливых расцветок. Этот же автомобиль был темно-синий, с трудом различимый в ночной тьме.
Когда распахнулась задняя дверца, я нырнул внутрь, словно спасаясь от дождя. Не драться же мне с двадцатью полицейскими в самом деле? Это ведь только в ЦРУ поощряется, когда американский разведчик боксирует с превосходящими силами чекистов, а потом с подбитым глазом, в разорванном пиджаке гордо позирует перед камерами в надежде, что начальство это оценит. У нас же в КГБ все наоборот: генералы не любят скандалов. Ведь задержание разведчика уже само по себе огромная неприятность, а тут еще и драка. Неизвестно, к каким осложнениям она может привести.
Когда после окончания Института стран Азии и Африки я поступал на службу в разведку, меня не хотели принимать из-за плохого зрения. Но поскольку мой отец был заместителем командующего пограничными войсками КГБ, я автоматически входил в число членов семей высшей комитетской элиты. И поэтому вопрос о моих очках должен был решаться только на уровне руководства КГБ. Тем более, что сам Андропов, которому служба наружного наблюдения докладывала о положении в семьях всех генералов КГБ начиная с заместителей начальников главков, сказал обо мне так: «Этот культурный, воспитанный мальчик отличается от других детей руководства КГБ. Мы его имеем в виду…»
Медицинское заключение о моей близорукости легло на стол заместителя Председателя КГБ по кадрам генерал-полковника Пирожкова. Сам он, подобно большинству высших руководителей КГБ, включая Андропова, никогда в жизни оперативной работой не занимался, а был секретарем одного из провинциальных обкомов КПСС. Представление о работе разведки он черпал из кинофильмов. «Что же он будет делать там, в Японии, если ему очки разобьют?! Как он сможет защищать интересы своей Родины?!» – воскликнул Пирожков, гневно отшвырнув бумажку с заключением окулиста.
В разведку я все-таки попал. Приятели моею отца в управлении кадров КГБ обманули Пирожкова, проведя меня через минскую школу контрразведки, для поступления в которую его санкция не требовалась» даже если эти абитуриенты и были сыновьями генералов КГБ.
«Если уж высший руководитель КГБ не знает, что наши разведчики за границей не дерутся, то что же говорить о более низких звеньях? Вот он, истинный уровень руководства КГБ!» – смекнул я. И вот теперь, впервые и единственный раз за время моей не такой уж долгой пятнадцатилетней карьеры в разведке, мне представился случай подраться. Разумеется, я им не воспользовался. На следующий день в своем отчете, адресованном ни много ни мало Председателю КГБ Чебрикову, я написал, что полицейские силой затолкали меня в машину…
Строго говоря, так оно и было.
Двое полицейских уселись по бокам, деликатно сдвинув меня на середину сиденья. Впервые в жизни я оказался зажатым между мускулистыми блюстителями порядка, хотя в кино конечно же много раз видел эту сцену. Если бы я был шпионом из кинофильма, вроде легендарного Штирлица, то, наморщив лоб, сейчас размышлял бы о том, как получилось, что меня захватила полиция. Виноват ли в этом я сам, не заметив, как попал на одной из десятков предшествующих ресторанных бесед с Каном под наружное наблюдение? Или Кан обратился к японскую полицию и чистосердечно все рассказал? Или его вынудило сделать это министерство государственной безопасности Китая? Или оно само попросило японцев организовать мой захват, а бедного интеллигентного Кана, хлебнувшего немало горя во время культурной революции, поставило к стенке за двурушничество? Или перед этим оно еще и подвергло его изощренным китайским пыткам?..
Но я был реальным разведчиком, не из кинофильма, более-менее подробно знал шпионскую кухню КГБ, и потому все эти вопросы меня больше не интересовали.
Они остались в прошлой жизни, так неожиданно и несправедливо прервавшейся. Жизнь эта была прекрасной, и не только с материальной точки зрения, с каждым днем я все глубже познавал Японию. Как много для меня значили прогулки по улочкам Токио, несущим на себе печать прежних эпох; общение с известными писателями, певцами, музыкантами; с крупными политиками, имена которых у всех на слуху, хотя интервью с ними не доставляли мне удовольствия из-за свойственного им цинизма. Оказывалось, что сами политики ничего не знают или не помнят, мои вопросы немедленно переадресовывались помощнику, сидящему рядом. При этом они с удовольствием принимали деньги от советской разведки на свою предвыборную кампанию.
Жизнь моя, во многом интересная и привлекательная, была в то же время греховной, полной лжи, искушения и обмана. Когда я звонил тому или иному японцу и говорил, что хотел бы взять у него интервью, я тем самым создавал ему возможность через пару лет быть арестованным за шпионаж. Косные, непригодные к исполнению правила КГБ вынуждали меня обманывать и начальников, и товарищей, и вообще всех людей, с которыми я общался. Ведь даже одни только слова «я – корреспондент ТАСС» были ложью. Поэтому я понимал, что Господь наказует меня не без вины. Обижало только одно: почему это произошло так стремительно? И почему выбор пал именно на меня? Ведь я, кажется, был единственным из советских корреспондентов в Японии той поры, который не подвергал ее лицемерному бичеванию, как требовал Отдел пропаганды ЦК КПСС. В ТАСС я избрал своей темой культуру и рассказывал в основном о премьерах Большого театра, о японском хоре русской песни, о новых японских фильмах, сугубо художественных, не политических. Другие же мои коллеги-журналисты, среди которых было немало разведчиков, поносили в своих статьях Японию на чем свет стоит, что, впрочем, ни в коей мере не мешало им выполнять шпионские задания. Потом, уже уйдя из КГБ, я узнал от приезжающих в Москву японцев, что они с особой опаской относятся к иностранным исследователям, слишком глубоко вникающим в японскую жизнь, считая их шпионами.
Те же журналисты-разведчики, что бичевали Японию со всей яростью партийного слова, сами сужали круг общения в этой стране, а значит, возможность причинения ей ущерба…
…Было темно. Из парка мы выехали на узкую, ярко освещенную улицу и пристроились в хвост вереницы машин – движение им затруднял дождь, почти тропический, обильный и теплый, обрушивавшийся мощным потоком на боковые стекла.
И тем не менее полицейский, сидевший справа от меня, углядел, что шофер, с трудом маневрировавший рядом с нами, заехал одним колесом на тротуар, и строго постучал ему в стекло костяшками пальцев. Шофер той машины, несмотря на дождь и на то, что не мог слышать этого стука, сразу сообразил, что эта машина полицейская, и испуганно отвел взгляд.
В Японии контрразведка принадлежит полицейскому ведомству, и многие контрразведчики не забыли, как боролись с бандитами, хулиганами и нарушителями дорожных правил до того, как за примерное поведение и служебное рвение их направили в школу контрразведки.
Ей отводится несколько комнат в каждом полицейском участке Японии. В районном же полицейском управлении, куда меня привезли, контрразведке принадлежит весь верхний этаж. Она занимается не только иностранными шпионами, но и ультралевыми террористами. Официально она именуется «Отдел общественной безопасности Токийского полицейского управления».
У входа здесь, как и всюду у полицейских зданий, стоял человек в штатском, опираясь на высокий, по плечо, деревянный посох. Японские полицейские крайне ограничены законом в применении оружия (в наших, российских, условиях они бы работать не смогли) и потому вынуждены прибегать к подручным средствам. Палка в руках полицейского – тоже оружие. Недаром в Японии так высоко развит спорт бодзюцу – искусство фехтования палкой, победителями на всеяпонских соревнованиях по которому неизменно выступают офицеры полиции. Палкой можно помочь разъехаться двум автомобилям, застрявшим в узком переулке, если просунуть ее между их притертыми друг к другу боками. Той же палкой можно выбить пистолет из рук чокнутого ультралевого террориста, помешанного на теориях Бакунина и Троцкого, которые до сих пор пользуются популярностью среди некоторой части японской молодежи.
Бодзюцу – древний вид спорта, вроде каратэ или джиу-джитсу (дзю-дзюцу, если говорить правильно). Все они культивировались в рядах самураев, средневекового воинского сословия Японии, ее дворянства. То, что бодзюцу популярно в полиции по сей день, не случайно: ведь полиция генетически восходит к самурайскому сословию, как и армия, а также и мафия, известная во всем мире под названием якудза. Начало ей тоже положили самураи, правда, не добропорядочные, а бродячие, обнищавшие, или деклассированные, как говорили у нас в годы советской власти. Но все равно духовные связи, общая психология, воспитание и система ценностей у всех самураев – даже у бродяг, были одинаковыми, и может быть, именно поэтому мафия и полиция в нынешней Японии так мир но сосуществуют друг с другом.
Почему-то момент, когда мы вышли из машины и поднялись на четвертый этаж, не запечатлелся в моей памяти. Должно быть, потому, что никто не подталкивал меня в спину и не кричал. «Позор шпионам из КГБ!» А еще потому, что мне и раньше неоднократно приходилось бывать в полиции, и очередной приход в нее не вызвал у меня никакого шока.
Прежде меня вызывали туда из-за мелких нарушений правил уличного движения. Один раз я был даже лишен шоферских прав на два месяца, и для того, чтобы их вернуть, должен был пройти унизительную учебу в Школе нерадивого автолюбителя.
– В какой группе вам предпочтительнее заниматься – в английской или японской? У нас есть два варианта школ! – объяснила, заполняя анкету, девушка-полицейский в темно-синем мундире, похожем на военно-морской.
– Конечно же на японском! – воскликнул я, предвкушая возможность получить уникальный журналистский материал.
Я не ошибся Учеба в школе оказалась легче легкого, а вдобавок я смог убедиться в том, что японцы ни во что не ставят технику, хотя она так неправдоподобно высоко развита в их стране. Главное внимание они уделяют человеку, его духовному миру, и поэтому лекции, которые нам читали добродушные пожилые полицейские, повторяли одно и то же:
– Главное в вождении автомобиля – это вовсе не знание правил и внутреннего его устройства. Это – добросердие, то есть готовность уступить всем дорогу, помочь слабому, даже если это не предусмотрено правилами, извиниться перед человеком, на которого наехал…
И действительно – полиция, прибывшая на место дорожно-транспортного происшествия, первым делом спрашивает у жертв, если они в состоянии говорить: «Перед вами извинились?!»
И положительный, и отрицательный ответы имеют принципиально важное значение для судебного разбирательства. Тот водитель, который пренебрег извинением, наверняка получит более долгий тюремный срок.
Я дважды попадал в аварии, и всегда по своей вине. Первый раз, в середине семидесятых годов, когда, будучи студентом, я стажировался в университете Токай и ехал на велосипеде по горной дороге, меня сбил автомобиль. У моего старенького велосипеда отказали тормоза, но и автомобиль ехал медленно, осторожно, и потому удар оказался совсем не сильным. Впрочем, дорогую замшевую куртку автомобиль мне все же основательно испортил, ведь я угодил под него словно нарочно!
– Все ли у вас нормально? – осведомился водитель с оттенком некоторой неприязни. Выйдя из машины, он помог поставить велосипед на колеса, еще раз внимательно оглядел меня и только после этого укатил, хотя виноват во всем был именно я.
Второй раз это случилось почти через десять лет, когда у нас в токийском отделении ТАСС ввели ночные дежурства. Нормальные журналисты после них отсыпались целый день, мы же, разведчики, шастали, как обычно, по городу.
Одуревший от бессонной ночи и мечтавший только о том, чтобы как можно скорее нырнуть в постель, я остановился в одном из узких переулков и, не посмотрев назад, распахнул дверцу. Вмиг дверца была оторвана ехавшей сзади машиной, а моя рука – испачкана в черном машинном масле. Почему – я не успел сообразить.
Пожилой шофер, вылезший из машины, испуганно поглядел на меня. Ведь перед ним сидел уже не студент, а солидный мужчина, к тому же иностранец, который вполне может затаскать его по судам. Он начал униженно кланяться, повторяя:
– Извините, извините..
– Нет, нет, это я виноват! – отвечал я традиционной японской фразой, что явно удивило шофера. Тем не менее он проворно достал из-под сиденья белоснежную матерчатую салфетку, вытер ею мне руку, а потом, еще раз восемь поклонившись, с облегчением укатил. Я же решительно поставил перед руководством резидентуры вопрос о том, чтобы нас, разведчиков, от ночных дежурств в ТАСС освободили. И, как ни странно, это произошло. Очевидно, начальство КГБ опасалось новых аварий, о которых в Москве полагалось докладывать высшему руководству разведки, и решило, что проще уломать заведующего отделением ТАСС в Токио…
По окончании Школы нерадивого водителя предстояло сдавать выпускной экзамен. Каждый получал лист, содержащий пятьдесят вопросов, с двумя возможными вариантами ответа. Неправильный нужно было зачеркнуть. Первый вопрос был такой: «Что важнее для водителя – знание правил или добросердие?»
Но в контрразведке добросердия не было…
На четвертом этаже, куда меня привели, было абсолютно то же самое, что и на первом: большая комната с зеленоватыми, как во всех официальных учреждениях Японии, стенами была уставлена казенной, но в то же время красивой, изящной мебелью: стульями и креслами из блестящих алюминиевых трубок с синими дерматиновыми сиденьями и спинками. В углу возвышался серовато-зеленый стол, похожий на учительский, и вообще все помещение очень напоминало школьный класс.
За этот стол сели трое из моих сопровождающих – по-видимому начальство, остальные расселись по стульям, некоторые же остались стоять у двери. Не потому, разумеется, что стерегли меня: просто их чин пока не позволял им сидеть в присутствии старших.
Несколько минут начальники громко совещались, абсолютно не смущаясь моим присутствием. Потом дверь открылась, и вошли четверо полицейских в особых водонепроницаемых костюмах, которых никогда прежде я не видел. Это были просторные штаны и куртки из прозрачного пластика, надевавшиеся поверх пиджаков и брюк. Ни слова не говоря, они, облегченно вздыхая, сняли дождевую амуницию, свалили ее на пол, где тотчас образовалась лужа, и тоже разместились поодаль, среди равных по званию. Очевидно, они находились в засаде среди кустов, пол дождем, на тот случай, если я попытаюсь бежать.








