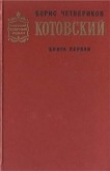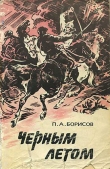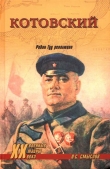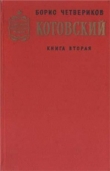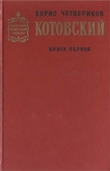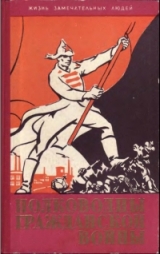
Текст книги "Полководцы гражданской войны"
Автор книги: Константин Паустовский
Соавторы: Сергей Голубов,Леон Островер,Николай Кондратьев,Михаил Палант,Гайра Веселая,Иван Обертас,Анатолий Мельчин,Иван Мухоперец,Кирилл Еремин,Александр Тодорский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
И вот 17 сентября в станице Дондуковской произошла долгожданная встреча. Вынесшие невероятные, нечеловеческие трудности, многие бойцы плакали– вспоминая погибших в боях, от переполнявших чувств. Состоялся грандиозный митинг. Единодушно и не раз неслось могучее: «Да здравствует советская власть!»
«В этот знаменательный день, – рассказывал Е. И. Ковтюх, – произошло соединение 40-тысячной массы рабочих и крестьян, которые не отдались на позорное рабство, издевательство, избиение и насилие врагам трудового народа, перенесли все трудности и, потеряв все, что имели у себя дома, достигли своей цели, пробились и влились в общую семью рабочих и крестьян РСФСР».
Вечером 19 сентября, преодолев упорнейшее сопротивление офицеров корниловской и марковской дивизий, защищавших на баррикадах каждую улицу, таманцы освободили Армавир.
Отсюда Ковтюх послал главнокомандующему Сорокину телеграфное сообщение о прибытии и получил ответный приказ остановиться в Армавире, чтобы прикрыть переформирование основательно потрепанных и уставших за время долгого отступления главных сил.
Прикрывая другие части, переформировывались и сами таманцы. Силы всех трех колонн приказом Реввоенсовета Северного Кавказа в конце сентября слились в одну Таманскую армию численностью в 30 тысяч штыков и 5 тысяч сабель при 32 орудиях. Командующим армией был назначен Ковтюх, начальником штаба – Батурин, комиссаром – Ивницкий.
Г. Н. Батурин, участник похода таманцев, писал: «В 1-й колонне Ковтюх пользовался громадным доверием и популярностью, во 2-й и 3-й колоннах тоже слышали и знали о нем, знали также, что Ковтюх шел авангардом армии, памятны были его победы у Архипо-Осиповской, Михайловский перевал и Армавир… Боевые отличия Ковтюха и его популярность вполне соответствовали такому назначению».
Став командиром, Епифан Иович по-прежнему сталкивался с большими трудностями в снабжении своих частей: не хватало патронов, обмундирования, почти половина бойцов ходила раздетой и разутой. И все же боевой дух таманцев, ряды которых цементировали коммунисты, был необыкновенно высок. Армия отбила попытки корниловцев и марковцев, поддержанных алексеевскими и дроздовскими частями, снова вернуть Армавир и сама перешла в наступление на Ставрополь. 25–28 октября развернулись бои за город. Лежа в цепи, бойцы дрожали от холода и прижимались друг к другу, чтобы согреться. Почти не было патронов. Но Ковтюх мастерски разработал план операции: умело проведенная артиллерийская подготовка и внезапная атака принесли успех. Захватив богатые трофеи, таманцы под звуки оркестра вступили в город. За героическое взятие Ставрополя ВЦИК наградил Таманскую армию Красным знаменем.
Последний день боев за Ставрополь Ковтюх с трудом перенес на ногах: начался брюшной тиф. Больного командира перевезли на лечение в Пятигорск.
Как раз в дни болезни Епифана Иовича произошла ликвидация сорокинщины.
Главком северокавказских войск Сорокин не использовал всех возможностей, открывшихся с подходом таманцев. Эсер, авантюрист и властолюбец, он мечтал о личной диктатуре и постепенно убирал всех, кто мог ему помешать. По его настоянию был расстрелян выборный начальник таманских колонн Матвеев за то, что протестовал против гибельного плана Сорокина отходить на Астрахань и предлагал более правильный план движения на Царицын. Вскоре Сорокин расстрелял и руководителей ЦИКа и крайкома Кубано-Черноморской Советской республики, объявив их «изменниками». Новые злодеяния переполнили бойцов гневом. На втором фронтовом съезде в Невинномысской Сорокин был объявлен вне закона и бежал, но был схвачен таманцами и расстрелян. В записной книжке предателя были, кроме убитых Матвеева и секретаря крайкома В. Крайнего, намечены и другие жертвы, в том числе крупнейшие командиры Северного Кавказа: Ковтюх, Федько, Балахонов, Кочергин…
Желая видеть на посту главнокомандующего талантливого командира и преданного революции человека, Реввоенсовет Северного Кавказа предложил этот пост Ковтюху, но он был еще настолько слаб после болезни, что отказался. К тому же Епифан Иович считал себя слишком неподготовленным для поста главкома.
Смятение, вызванное провокациями и изменой Сорокина, имело тяжелые последствия для фронта. Был сдан Армавир, а Таманская армия, которой временно командовал помощник Ковтюха М. В. Смирнов, оказалась окруженной в районе Ставрополя. Тут, несмотря ни на какую слабость, Ковтюх поднялся с постели и выехал командовать Северным фронтом, куда входила прорвавшаяся с большими потерями из окружения Таманская армия. Епифану Иовичу удалось несколько стабилизовать положение на фронте и даже организовать переход таманцев в контрнаступление, но силы покинули его. Еще не оправившись от тифа, он заболел в середине декабря воспалением легких.
Январь 1919 года был тяжелым временем для советских войск Северного Кавказа, объединенных в XI армию. Под напором превосходящих сил деникинцев XI армия отступила от Святого Креста на Астрахань через калмыцкие степи. Сильные метели заносили бредущие по безлюдной степи колонны.
Ели лошадей, которых варили на кострах из повозок. Тиф, цинга и черная оспа косили людей тысячами. Обозы, где раненые и больные лежали вперемежку с умершими, едва ползли по бездорожью, отмечая каждую версту новыми трупами. На одной из таких телег лежал то и дело терявший сознание Ковтюх. Верные таманцы, насколько это было в их силах, выхаживали больного командира. В Астрахань Епифана Иовича удалось доставить живым.
Долго пролежал Ковтюх на госпитальной койке. После выздоровления его вызвали в Москву, в Реввоенсовет республики, для доклада о боевых делах таманцев. Это было в сентябре 1919 года, в то трудное время, когда враг подошел к Орлу и угрожал Москве. В докладе Реввоенсовету Епифан Иович просил разрешения возродить отдельное соединение таманцев (все части, отступившие в начале 1919 года в Астрахань, были переформированы). Приказом РВСР от 9 сентября Е. И. Ковтюху поручалось сформировать
Таманскую дивизию, которой передавались славные боевые знамена бывшей Таманской армии. Ядром дивизии должны были стать пехотная бригада и два кавполка. Кроме того, Ковтюху было разрешено обратиться ко всем таманцам и кубанцам с призывом собираться в Вольске, где был центр формирования. Со всех фронтов сначала одиночками, а потом группами стали собираться в Вольске ветераны.
В конце октября новые формирования Ковтюха были слиты с частями 50-й стрелковой дивизии в одну 50-ю Таманскую дивизию, насчитывавшую до 10 тысяч штыков и сабель. Дивизии под командованием Ковтюха совместно с дивизией под командованием Павла Дыбенко было приказано отбить у белых занятый ими с лета 1919 года Царицын.
В ту зиму Волга долго не замерзала. По реке плыли, цепляясь одна за другую и с хрустом ломаясь, льдины.
Епифан Иович внимательно разглядывал с левого берега реки раскинувшийся перед ними город, и он понимал, что взять Царицын, защищаемый двумя белыми дивизиями, можно будет только с помощью точно рассчитанного и внезапного удара.
– Как только Волга станет, надо будет начинать переправу, – решил Ковтюх. – А так как лед будет еще недостаточно прочен, сделаем заранее переносные мостки через неокрепшие места и «лыжи» из бревен для артиллерии.
С помощью рабочих царицынского артиллерийского завода в город проникли разведчики, которые установили расположение белых сил, узнали, где враг заложил фугасы.
Наконец Волга стала. Поздно вечером 2 января 1920 года по орудийному выстрелу началась переправа. Ворвавшиеся в город пехотинцы в жестоком рукопашном бою выбили белых из Царицына, а бойцы кавбригады перерезали железную дорогу на Тихорецкую. В результате таманцы захватили 60 эшелонов с войсками и имуществом. За героическое взятие Царицына московский пролетариат прислал Таманской дивизии Красное знамя.
Для преследования отступавшего противника был создан сводный кавкорпус из всех кавалерийских частей XI армии во главе с Ковтюхом. За 20 дней, несмотря на бездорожье и отсутствие продуктов, корпус с боями прошел около 270 километров и, уничтожив две белые дивизии, достиг реки Маныч.
В начале марта соединения получили приказ взять Тихорецкую – важный железнодорожный узел и последний серьезный рубеж обороны белых на Северном Кавказе. Таманцы, ослабленные передачей почти всей кавалерии другим частям, подошли к Тихорецкой днем 7 марта. До вечера Ковтюх ждал подхода других соединений, но их почему-то не было. И хотя в Тихорецкой стоял конный корпус генерала Попова в 7 тысяч сабель, а у Ковтюха было не больше 4 тысяч бойцов, Епифан Иович решил выполнять приказ своими силами.
Стояла непролазная грязь; чтобы тащить пушки, пришлось припрягать по 10–12 пар волов. Бойцы оставили при себе только боеприпасы. С трудом пробираясь по хляби, таманцы прошли за ночь на 8 марта 13 километров и достигли станицы Тихорецкой. Сторожевое охранение белых, положившись на погоду, спокойно отдыхало в домах и не заметило, как таманцы окружили станицу. На рассвете, поддержанные энергичным артиллерийским огнем, бойцы Ковтюха ворвались в Тихорецкую. В панике белые бежали на станцию под защиту своих трех бронепоездов. Но и они не помогли: к вечеру станция также была взята.
После падения Тихорецкой белые части покатились к морю. Преследуя их, таманцы дошли до Екатеринодара. В это время Епифан Иович заболел возвратным тифом. Уже без него дивизия прошла до Туапсе, а оттуда к Сочи, где вместе с 34-й дивизией заставила в начале мая капитулировать остатки белых сил. Так закончился замечательный, полный беспримерного героизма двухтысячеверстный победоносный поход красных таманцев от Кубани до Волги и обратно.
Но гражданская война не закончилась. В Крыму укреплялась белая армия генерала Врангеля. Рассчитывая поднять, на Кубани новую волну антисоветских мятежей, 14 августа 1920 года Врангель высадил близ станицы Приморско-Ахтарской десант численностью около 8 тысяч солдат во главе с генералом Улагаем. Надежды белых на массовые восстания провалились, но все же врангелевский десант представлял собой серьезную угрозу. Требовалось быстро и решительно покончить с ним. Реввоенсовет Кавказского фронта поручил Ковтюху, бывшему в то время комендантом Екатеринодарского укрепленного района, организовать контрдесант, который на пароходах и баржах должен был скрытно пробраться по рекам Кубани и Протоке в глубокий тыл врангелевцев – к станице Ново-Нижнестеблиевской, где находились их штабы, и нанести неожиданный и сокрушительный удар.
В распоряжении Ковтюха было очень мало войск, и он обратился с призывом к таманцам снова собраться под боевые знамена. Таманцы и кубанская беднота сразу откликнулись на зов своего командира. Был усилен екатеринодарский гарнизон и в станице Славянской сформирована Таманская пехотная бригада. Кроме того, в станицах прифронтовой полосы таманцы объединились в отдельные станичные гарнизоны.
В 4 часа дня 26 августа вниз по Кубани без гудков и свистков отошли пароходы «Илья Пророк», «Благодетель» и «Гайдамак» с четырьмя баржами. На них плыли специально отобранные Ковтюхом красные десантники. В их рядах было много коммунистов, а комиссаром десанта шел бывший комиссар Чапаевской дивизии Дмитрий Андреевич Фурманов.
Пароходы были старые, изношенные. 130 километров до станицы Славянской шли полдня и всю ночь. Здесь десант пополнился бойцами Таманской бригады и вырос до 1 050 штыков, 155 сабель при 15 пулеметах и 4 орудиях.
Перед отплытием из Славянской Ковтюх созвал совещание командиров и политработников. Машинально покручивая рыжие усы, Епифан Иович говорил:
– От Славянской до Ново-Нижнестеблиевской шестьдесят верст. Река узкая, мелкая, кругом болота да камыши. Поставят беляки пару пулеметов – и всем нам конец. Надо послать разведку по берегам.
Начальником разведки Ковтюх назначил отлично знавшего местность храброго командира сотни Кондру. Тот переодел своих хлопцев в белоказацкую форму, сам нацепил погоны войскового старшины 44
Казачий чин в старой армии, соответствовавший подполковнику.
[Закрыть] и отправился в путь. За ночь его разведчики тихо, без выстрела сняли белые дозоры.
А по реке плыл десант. Никто не спал: после пересечения линии фронта бойцам было объявлено о цели экспедиции, раньше об этом знали только Ковтюх и Фурманов.
Люди напряженно вглядывались в залитые лунным светом камыши, им казалось, что там виднеются штыки, всадники, слышится лязг оружия. Каждый десантник не раз бывал в боях, но потом все говорили, что такого напряжения, как в эту ночь, не испытывали даже под самым страшным огнем.
На рассвете 28 августа красный десант подошел к Ново-Нижнестеблиевской. Здесь расположился штаб белого десанта, юнкера Николаевского и Алексеевского училищ и несколько формировавшихся частей. В общем белых было намного больше, чем красноармейцев. В 5 часов 30 минут утра под прикрытием артиллерийского огня части Ковтюха бросились в атаку на станицу.
Ожесточенный бой развернулся на улицах, растянувшихся вдоль реки на 6–7 километров. У десанта не хватало сил занять всю станицу сразу, это дало возможность белому штабу прийти в себя и организовать оборону с помощью бронемашины. Красная пехота вынуждена была залечь. Наступил критический момент боя.
Ковтюх понимал, что дело решают минуты.
«Эх, хотя бы эскадрон!» – подумал он, зная, что резервов нет. Под рукой было только три десятка конников.
– За мной! Ура! – закричал во всю свою богатырскую силу командир. Дав шпоры коню, взмахнул над головой блеснувшим на утреннем солнце клинком. Три десятка всадников помчались вслед за Ковтюхом прямо на броневик. Как один человек, поднялись залегшие было пехотинцы…
К полудню все было кончено. Белые потеряли несколько сотен убитыми, в плен сдалось до 1 500, среди них 40 офицеров и генералов. Было захвачено 9 штабов (в том числе и главный штаб белого десанта во главе с генералом Караваевым), много трофеев. Потери красных: 19 убитых и 63 раненых.
Задержка в ходе боя позволила взлететь находившемуся в станице аэроплану, летчик которого сообщил белым частям на фронте о разгроме их штабов. Одна за другой покинули они свои позиции и устремились к Ачуеву, где стояли корабли белого десанта. Но дорога на Ачуев была одна – через Ново-Нижнестеблиевскую. И вот красному десанту, утомленному первым боем, почти израсходовавшему боеприпасы, пришлось вести новый, еще более жестокий бой с противником в десять раз многочисленнее, чьи силы подогревались отчаянием.
Главные начальники белых – генералы Бабиев, Казанович и другие – сами руководили атаками. После 8 часов невероятно напряженной схватки левый фланг красных должен был немного отойти, очистив две северные улицы станицы. Белые хлынули по этим улицам, торопясь прорваться в Ачуев.
Ковтюх не мог примириться с этим. Он приказал нескольким храбрецам проникнуть в часть станицы, отбитую врагом, поджечь там несколько домов и скирд, бросить ручные гранаты в гущу врангелевцев. Когда это было выполнено и у белых поднялась паника, красный десант пошел в атаку. Бойцы бежали, озаренные пожаром, со штыками наперевес, под громкое «ура».
Положение было восстановлено, путь на Ачуев снова закрыт. Белые начали сдаваться. Самые упорные пытались идти в обход, по камышам. Там их ждали засады.
Десант вернулся в Славянскую, сдал пленных и трофеи, пополнился частями 2-й Таманской бригады и вместе с другими частями приступил к очистке побережья от остатков врангелевцев. 7 сентября под огнем уплывавших пароходов белых ковтюховцы вошли в Ачуев.
Комиссар Фурманов дал Ковтюху следующую характеристику:
«За время совместной с ним боевой работы я все время наблюдал его исключительную энергию, мужество и преданность советской власти. Я был военным комиссаром того десантного отряда, который под руководством тов. Ковтюха ходил в тыл врангелевскому десанту, и могу засвидетельствовать, что удачный исход нашей операции в значительной части следует отнести на долю личного руководства, распорядительности и предусмотрительности тов. Ковтюха. Под жестоким огнем неприятеля он так же спокойно и уверенно отдает свои приказания, как и в мирной обстановке».
Кончилась гражданская война. Пламенный коммунист и боевой командир, трижды краснознаменец Епифан Ковтюх поступил в Военную академию. После окончания академии командовал стрелковым корпусом.
Необычайно яркая и цельная натура Ковтюха привлекала к нему внимание людей. На Кубани его называли не иначе, как «наш батько», складывали вокруг его имени легенды, где смешивались быль и вымысел.
В 1921 году с Ковтюхом встретился писатель Серафимович. Рассказ Епифана Иовича о походе таманцев в 1918 году потряс писателя – так было положено начало знаменитому «Железному потоку», в котором Ковтюх выведен «под фамилией Кожух.
Епифан Иович был также описан Дм. Фурмановым в повести «Красный десант» и очерке «Епифан Ковтюх», Алексеем Толстым – во второй книге трилогии «Хождение по мукам», тоже под фамилией Кожух.
Когда «Железный поток» печатался в 1928 году в газете французской компартии «Юманите», рабочий-металлист с завода «Рено» прислал письмо:
«Неужели действительно жил такой Кожух? Неужели могли быть такие герои? Не верится, хотя и хочется поверить…»
А когда Ковтюх послал ответное письмо, в котором подтвердил документальную основу «Железного потока», французский рабочий заявил, что теперь он понял, «как такие люди, как вы, создают подобные чудеса».
Ковтюх и сам взялся за перо, написав книгу «От Кубани до Волги и обратно» (1926 г.), во втором и третьем изданиях она называлась «Железный поток» в военном изложении». В ней он почти ничего не писал о себе, а все о своих любимых таманцах.
Ковтюха уже нет в живых. Но разве забудутся подвиги людей, подобных ему, народных героев того неповторимого времени, когда, говоря словами любимой песни Ковтюха, «как ветер, как песни, как шумный прибой, лились эскадроны железной волной»…
К. Еремин
ВАСИЛИЙ КИКВИДЗЕ

…Это было в Кутаисе. Шел 1907 год. Вышколенный и бравый генерал, командир казачьего Хоперского полка, расквартированного в Кутаисе для усмирения бунтовщиков-революционеров, в прекрасном настроении возвращался из театра домой.
Скинув в прихожей шинель на руки всегда готового к услугам денщика, генерал направился было в комнаты, да вспомнил, что портсигар с папиросами остался в шинели.
Возвратившись в прихожую, он опустил руку в карман и обнаружил там небольшой, вчетверо сложенный листок бумаги. Развернув его, генерал быстро пробежал глазами первые строчки. Через секунду лицо его побагровело, срывающимся, голосом он закричал:
– Немедленно дежурный взвод и дежурного офицера!
Всю ночь у квартиры генерала стоял пост из казаков-хоперцев. Только утром охрана была снята. Причиной этого переполоха явилась ловко подсунутая в карман генеральской шинели революционная прокламация.
Узнав о случившемся, подпольщики от души хохотали над очередной выдумкой Васо. Это мог сделать только он!
А в это время черноглазый мальчонка лет двенадцати, долговязый и длиннорукий, незаметно изловчившись, прикрепил прокламацию к хвосту лошади жандармского офицера. Это был, конечно, Васо!
Но на этот раз его проделку видел шпик и поспешил донести по начальству. Вслед за «крамольником» немедленно ринулись жандармы.
Васо был уже на мосту через Риони, когда заметил погоню. Первая мысль – убежать! Да не тут-то было: на противоположной стороне стеной преградили дорогу казаки.
Выход только один – сдаться на милость преследователей. Но это для кого-нибудь другого! А Васо…
Жандармы только ахнули от удивления, когда на их глазах он ласточкой кинулся с высокого моста в бурные и глубокие воды Риони.
Подскакавший вахмистр выхватил наган и хотел было выстрелить, но, заметив плывшую по реке шапку беглеца, засунул оружие обратно в кобуру, сплюнул и процедил сквозь зубы: «Одной сволочью меньше!..» Стоявший невдалеке старый казак снял папаху и перекрестился.
А «утопленник» тем временем ухватился руками за одну из опор моста. Наружу торчали только рот и нос, тело от холодной воды сводила судорога. Но Васо упорно ждал, пока уйдут с моста жандармы и казаки.
Вечером, согревшись и обсушившись, он весело смеялся вместе с друзьями над своими приключениями.
…Васо Киквидзе родился в Кутаисе 28 февраля 1895 года. Отец его умер, когда мальчику было 7 лет. Мать вышла замуж вторично. Большая семья жила на маленький заработок отчима – мелкого служащего. Жили буквально впроголодь. С детства пришлось Васо познать нужду и познакомиться с трудом. Отчим его был честным человеком с передовыми взглядами; Он мечтал о лучшей жизни для своих детей. Несмотря на бедность, родители постарались отправить Васо в школу.
Мальчик был очень способен. Он жадно тянулся ко всему новому. Не по годам серьезный и сдержанный, Васо скоро опередил сверстников в развитии. Свободное от учебы и работы по дому время он любил проводить за книгой. Уже в эти годы все симпатии мальчика были на стороне бедняков. Он с гордостью носил свой старенький, потертый костюм. Насмешникам Васо отвечал: «Мой папа честен, поэтому честен и мой костюм».
Сдав экзамен в городской школе, Васо Киквидзе поступает в подготовительный класс мужской классической гимназии. Эта гимназия в Кутаисе славилась крамольным духом. Нередко у ее ворот выставлялись казачьи посты.
В гимназии был организован кружок, которым руководил Кутаисский комитет РСДРП. На собраниях молодежь говорила о нищете грузинского крестьянства, о бесправии рабочих, о дикой эксплуатации. На одно из таких собраний попал и Васо.
С этого момента он становится одним из активнейших участников кружка.
Здесь выполняет он первые партийные поручения: распространяет листовки и прокламации.
А вскоре о его ловкости и отваге стали ходить рассказы. Васо посылали туда, где другой не мог справиться, где необходима была особая выдумка и находчивость.
В 1910 году из-за большой материальной нужды Васо Киквидзе оказался вынужден оставить гимназию. Семья не имела средств к жизни. Мать сама просила гимназическое начальство отчислить Васо из четвертого класса. Ее просьбу удовлетворили, однако юноше разрешили сдавать экстерном экзамен за остальные классы.
Васо устраивается рабочим на кирпичный завод и с головой уходит в революционную жизнь.
На кирпичном заводе он хранит оружие, а в подвале дома одного из офицеров жандармского управления – запрещенную литературу. В этом же подвале собирались на совещания руководители революционной группы молодежи.
Так из ловкого мальчонки – расклейщика листовок и прокламаций вырабатывался стойкий, осторожный, находчивый, несгибаемый революционер.
В 1915 году Васо Киквидзе призывают на военную службу. К этому времени он экстерном сдает экзамены за полный курс гимназии и попадает в армию как вольноопределяющийся.
Служба в царских войсках, муштра, казенщина противоречили убеждениям В. Киквидзе. Он не хотел воевать за царя. Поэтому Васо пытается симулировать сердечную болезнь, напившись накануне медицинского осмотра крепкозаваренной махорки.
Но на его богатырском организме эта «процедура» совершенно не отразилась, и Васо вынужден вместе со всеми грузинами, призывавшимися в Кутаисе, отправиться в город Кирсанов. Здесь новобранцев готовили к военной жизни, а затем отправляли на фронт – в 6-ю кавалерийскую дивизию 7-го корпуса Юго-Западного фронта.
Прежде чем Киквидзе успел явиться на место службы, в Кирсанов прибыло особое сообщение из жандармского управления Кутаиса. Привез его специально посланный тамбовской жандармерией ротмистр Подлясский. В обязанности ротмистра входило встретить этого «важного государственного преступника», установить за ним слежку и обыскать.
У Подлясского к встрече Киквидзе все было готово, подкупленные шпики должны были не спускать с подопечного глаз.
И вот, наконец, эшелон с грузинами прибыл. Браво размахивая сундучком, выделяясь среди новобранцев богатырским сложением, Васо одним из первых шел в строю.
Лицо его было спокойно, казалось, ничто не тревожит юношу. А между тем наметанным взглядом подпольщика Васо сразу заметил, что за ним установлена слежка. Лихорадочно работает мысль: до казарм осталось всего несколько сот метров, там непременно ждет обыск, а в сундучке – запрещенная литература.
Ловко, одним движением он обменивается сундучком со своим другом Мдивани.
– Непременно сохрани и постарайся поскорей передать на хранение кому-нибудь из местных рабочих, – успел незаметно шепнуть Васо товарищу.
Как и предполагал Васо, в казарме его вещи подвергли тщательному осмотру. Но напрасно старался ротмистр Подлясский. На сей раз он опоздал. Ни обыск, ни строгая слежка за Киквидзе не помогли.
В этот же день Мдивани передал литературу в надежные руки. А на другое утро Подлясскому пришлось рапортовать начальству, что содержимое сундучка драгуна Киквидзе, за которым они так охотились, пропало бесследно.
Для Киквидзе жизнь в казармах с первого же дня сделалась невыносимой. Начальство явно придиралось к нему. Особенно усердствовал один из вахмистров. Нередко во время занятий на манеже он с размаху опускал свой хлыст вместо крупа лошади на спину или голову Васо. Делалось это с целью вызвать Киквидзе на грубость, а затем посадить на гауптвахту. Здесь он был для начальства безопаснее.
Морщась от боли, сжимая в гневе кулаки, Васо едва сдерживал себя.
«Спокойно!» – говорил он себе в такие минуты.
Его останавливало то, что привезенная им в Кирсанов литература еще не распространена.
Вскоре после прибытия Киквидзе в полк среди солдат начали появляться революционные прокламации. Командир полка немедленно сообщил об этом ротмистру Подлясскому, который незамедлительно приехал в Кирсанов.
Теперь после истории с сундучком ротмистр знал, с каким опытным противником он имеет дело. Не желая опять попасть впросак, Подлясский ночью явился в казармы, чтобы арестовать Киквидзе.
Но место на нарах, где спал Васо, оказалось пустым. Напрасно жандармы обыскивали казармы, напрасно выставили оцепление по всему городу и железнодорожной станции. Киквидзе исчез бесследно.
Во все концы полетели депеши с описанием примет особо важного политического преступника. На железных дорогах хватали и тащили в жандармское управление каждого, кто хоть отдаленно напоминал бежавшего грузина. А Васо в это время спокойно плыл на одном из плотов по матушке Волге.
Осенью 1916 года Киквидзе, наконец, попадает в Баку, где устраивается рабочим на промыслах. Однако среди промысловиков нашелся предатель, выдавший Киквидзе полиции.
И пошел Васо отсчитывать этапные версты, возвращаясь под конвоем в полк. Отсидев положенное на гауптвахте, он снова направляется в строй. Жизнь становится совсем невыносимой. Ни на секунду не покидает его мысль о новом побеге.
В январе 1917 года новобранцев отправляют с маршевым эскадроном на позицию. Воспользовавшись царившей во время отправки неразберихой, Киквидзе бежит на этот раз в район Кутаиса. Здесь, в одном из горных аулов, у своего родственника, Васо рассчитывал найти надежное убежище.
Но шпики выследили его. Киквидзе арестовывают и отправляют в Кутаис на военную гауптвахту. Через несколько дней военно-полевой суд кутаисского гарнизона за «измену» и неоднократные побеги из армии присуждает Васо Киквидзе к смертной казни.
Царские палачи хотели немедленно расправиться с молодым революционером. Ночь на 27 февраля должна была стать последней в его жизни. Но враги жестоко просчитались. Этой ночью никто не пришел за Киквидзе, а утром дежурный по гауптвахте, широко раскрыв дверь камеры, крикнул:
– Можешь отправляться домой. В Питере сбросили царя. Ты свободен!
В первую минуту Васо подумал, что это очередная провокация. Он не решался переступить порог камеры. И только когда дежурный несколько раз повторил все снова, Васо, пошатываясь, направился к выходу. Выйдя за ворота тюрьмы, он опустился прямо на землю…
А через несколько часов, снова подтянутый, энергичный, готовый выполнить любое задание, Васо Киквидзе уже был в Тифлисе, в скромной квартире своего старого знакомого, большевика Филиппа Махарадзе. Долго в этот вечер беседовали друзья. Старший рассказывал, младший слушал. Слушал, стараясь запомнить каждое слово. Уходя от Махарадзе, Васо твердо знал, что его место сейчас в армии. Он горел желанием вместе с большевиками подготавливать свою, социалистическую революцию, к которой призывал Ленин.
1 марта 1917 года, получив от Махарадзе пропагандистскую литературу, Васо Киквидзе выехал в действующую армию, на этот раз добровольно.
И снова Киквидзе в Кирсанове.
Он выступает с пламенной речью перед солдатами 3-го запасного кавалерийского полка. Полковому начальству стало явно не по себе, когда над солдатскими головами поднялась статная, широкоплечая фигура Васо, которого они давно зачислили «в расход».
В полку еще не был обнародован знаменитый приказ № 1 по армии.
Киквидзе зачитывает этот приказ. Горячими аплодисментами приветствуют его солдаты. Вверх полетели шапки, новобранцы целовали друг друга.
Вдруг сквозь общий гул голосов прорвался злобный крик помощника командира полка полковника Антандилова:
– Солдаты! Кого вы слушаете? Вон с трибуны, арестант! Крамольник! Мы тебе покажем приказ номер один! Веревка по тебе плачет!
Грозный, протестующий ропот прошел по рядам. Солдаты бросились на офицеров. В этой схватке полковник Антандилов был убит.
На следующий день Киквидзе уже мчался на попутном товарняке, догоняя маршевый батальон, а 15 марта прибыл в 6-ю кавалерийскую дивизию 7-го корпуса.
Юго-Западный фронт бушевал в революционной буре. Керенский и Временное правительство со всех концов страны стягивали сюда все новые и новые батальоны. Отсюда они рассчитывали повести новое наступление на немецко-австрийские войска и тем самым выслужиться перед капиталистами Антанты и своей собственной буржуазией.
Юго-Западный фронт старой армии в тот период считался самым антибольшевистским и до ноября 1917 года находился целиком в политической власти исполнительного комитета фронта, который насчитывал в своем составе все партии, за исключением большевиков.
Вот почему именно на этом участке рассчитывал Керенский начать новое наступление.
18 марта дивизия отправлялась в карательную экспедицию против взбунтовавшегося Туркестанского корпуса. Солдаты перед выступлением собрались на митинг.
Радостно заволновались ряды, когда председательствующий объявил:
– Слово предоставляется вольноопределяющемуся Киквидзе.
Со всех сторон раздавались возгласы:
– Даешь Васо! Даешь Киквидзе»!
И вот он, высокий, широкоплечий, со сверкающими решимостью глазами, поднялся на трибуну. По кавказскому обычаю, Васо снял и поцеловал свою шапку в знак того, что он целует всех присутствующих. Покрывая гул голосов, он начал: