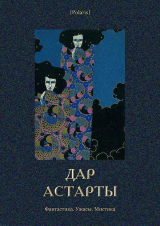
Текст книги "Дар Астарты: Фантастика. Ужасы. Мистика (Большая книга)"
Автор книги: Коллектив авторов
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 43 страниц)
Еще дальше, за обрамляющими площадь высокими деревьями, тревожно колыхалась и шумела толпа любопытных, простоявших всю ночь, чтобы не упустить потрясающего зрелища. На крышах и в окнах гостиниц и кафе виднелись женщины в помятых шелковых платьях, с бледными, истомленными бессонницей лицами; некоторые из них еще держали в руках бокалы с шампанским. Около них толпились такие же помятые мужчины в вечерних костюмах; все они жадно высовывались вперед, не сводя взора с ужасного зрелища.
В чистом утреннем воздухе купались ласточки, шумно проносясь над людскими головами.
Черный силуэт гильотины резко вырисовывался на горизонте; между его как бы с угрозой распростертыми перекладинами сверкала последняя звезда.
При страшном виде эшафота осужденный содрогнулся, но тотчас преодолел свое волнение и твердыми шагами приблизился к машине. Спокойно поднялся он по ступеням, ведущим к помосту. Ужасный треугольный нож в черной раме затмевал своим блеском мерцание заходящей звезды. Приблизившись к гильотине, де ла Поммере приложился к распятию и поцеловал прядь своих собственных волос, поднесенную ему аббатом Крозе.
– Для нее! – прошептал он.
Очертания пяти находившихся на эшафоте лиц обрисовывались с полной отчетливостью. На площади в это мгновение водворилась столь напряженная тишина, что до печальной группы донеслись треск сука, подломившегося под тяжестью одного из любопытных зрителей, и взрыв гнусного хохота.
Часы, последнего удара которых Эдмону де ла Поммере не суждено было услышать, начали выбивать шесть; взор осужденного встретился с пристально устремленными на него глазами хирурга Вельпо, стоявшего прямо напротив и опиравшегося одной рукою на помост. Де ла Поммере напряг свою волю и закрыл глаза.
Быстро сдвинулся рычаг, затвор отскочил, нож ринулся вниз. Страшный удар заколебал помост. Лошади жандармов взвились на дыбы. Эхо ужасного удара не успело еще перестать вибрировать в воздухе, как голова казненного очутилась уже в беспощадных руках хирурга, заливая кровью его руки, манжеты и платье.
На Вельпо смотрело мрачное, необычайно бледное лицо с грозно наморщенным лбом, вытаращенными глазами и раскрытым ртом. Нижняя часть подбородка была повреждена ударом.
Вельпо торопливо наклонился к голове и громко произнес в правое ухо условленный вопрос. Как ни закален был этот человек, лоб его невольно оросился холодным потом, когда веко правого глаза казненного стало опускаться, в то время как широко раскрытый левый глаз продолжал смотреть на хирурга.
– Ради Бога, – воскликнул Вельпо, – повторите еще дважды этот знак!
Ресницы дрожали, точно от чудовищного напряжения, но веко не поднялось вторично. Через несколько секунд маска казненного застыла, стала холодной и неподвижной.
Все было кончено.
Доктор Вельпо передал мертвую голову обратно в руки палача, который, как установлено обычаем, положил ее между ногами казненного.
Знаменитый хирург вымыл свои руки в одном из больших чанов с водой, приготовленных для обмывания эшафота. Окружающая толпа стала расходиться, не узнав его и не обратив на него внимания. Молча осушил он свои руки.
Затем, медленными шагами, глубоко задумавшись, Вельпо приблизился к своему экипажу, ожидавшему у входа в тюрьму. Поднимаясь в карету, он заметил бедные черные дроги, быстро покатившиеся по направлению к Монпарнасскому кладбищу.
З. Лионель
ИСПОВЕДЬ
Клянусь вам, господа, вы ошибаетесь, глубоко ошибаетесь, предполагая, что я «умственно расстроен». Вы ищете причины, побудившие меня совершить это преступление, но, не находя их, говорите, что я «ненормален», хотите оправдать меня, дарить мне жизнь. Но я говорю вам, господа, что мне жить – невозможно; одна мысль о моей будущей жизни холодит во мне кровь; я зову, я жажду смерти, так как только смерть – для меня успокоение.
Я последовательно расскажу вам все подробности этого страшного преступления, и тогда, я думаю, вы вполне убедитесь, что перед вами глубоко несчастный, но далеко не сумасшедший человек.
Вы знаете, что несчастный Альваро был моим лучшим другом; он был мне предан, как брат.
Благодаря своей необыкновенной, из ряда выходящей, непреклонной энергии и страшной силе воли, ему почти всегда удавалось достигнуть всего, чего он желал.
Я же был прямая противоположность моему другу. Отсутствие всякой воли, ужасная бесхарактерность по отношению к себе и окружающим, наклонность к фантазерству – это я.
Однажды вечером сидел я у Альваро. Этот-то вечер и положил начало первому звену роковой цепи последующих событий.
Альваро показывал мне редкую античную вазу, которой я очень интересовался, как вдруг – вследствие ли быстрой перемены температуры – верхняя часть ее бесшумно отделилась и, упав на пол, разбилась вдребезги.
– Удивительно, – сказал Альваро, – ты заметил, как странно отделилась эта часть, будто сбитая невидимым ударом?
– Да, – ответил я. – Мое больное воображение начало уже рисовать мне ужасные картины. – Она отделилась, как голова преступника, ловким ударом палача отделяемая от туловища.
– Довольно странная иллюстрация, – возразил Альваро. – Но, – прибавил он после некоторой паузы, – твоя метафора напомнила мне кое-что. Я читал об этом в одном журнале и думаю, что тебя это заинтересует; ведь ты такой страстный физиолог!
Был диспут между двумя знаменитыми профессорами, посвященный вопросу: сохраняют ли у обезглавленного человека разъединенные части хоть на мгновение сознание, сохраняется ли воля, и способен ли мозг мыслить еще некоторое время, или же все функции прекращаются с того момента, когда опускается гильотина, и голова отделяется от тела. Один из споривших, насколько я помню, утверждал, что тут не может быть никакого сомнения, потому что в одно мгновение только что сознательно двигавшиеся члены, только что работавший мозг не могут остановиться моментально. Второй же смеялся над этой теорией, говоря, что мозг, даже сохранив сознание на некоторое время (что, впрочем, еще не доказано), да и то такое мизерное, которое не поддастся даже измерению, остальной, отделенной части тела сознательных движений передавать не может. Мое же личное мнение таково: последний сознательный момент в очень сильной степени зависит от жизненной энергии и силы воли казненного и быстроты, с которой совершается казнь… Но я вижу, что тебя слишком возбуждает этот разговор. Оставим его.
Он, вероятно, сейчас же забыл об этом разговоре, но я никогда не мог забыть его, не мог освободиться от мыслей, навеянных на меня этим рассказом.
Тому способствовали две причины: во-первых, большое воображение, которое не могло упустить такую благодарную для себя тему, и, во-вторых, моя страсть к физиологии, как науке, занятие которой всегда доставляло мне величайшее наслаждение, но которая теперь превратилась чуть ли не в пункт моего помешательства, почти ideé fixe[15]15
Идея фикс, навязчивая мысль (фр.).
[Закрыть].
Я боролся со страстным, непреоборимым, до сих пор в такой силе мне еще незнакомым желанием убедиться во что бы то ни стало, может ли обезглавленный человек, сейчас же после совершения над ним казни, думать хоть одну секунду?
И вот, не будучи в силах бороться с этим желанием, я начал обдумывать это дело, строить планы, делать приготовления.
Я приобрел себе длинную, узкую шпагу, которую постоянным оттачиванием довел до остроты самой тончайшей бритвы, положил ее в непроницаемые для воздуха ножны и запер в шкаф. Я порылся в своих вещах и вынул оттуда роскошную шкатулку из орехового дерева, на крышке которой мой давнишний товарищ нарисовал прекрасный вид на море; я приставил ее к стене, смерил вышину и отметил. Несколько выше я прикрепил маленькую кнопку, которую крышка шкатулки при поднятии должна была вдавить внутрь стены. Я вынул из обшивки стены несколько квадратиков, и потом… но нужно ли рассказывать так подробно обо всех этих приготовлениях? Я думаю, достаточно будет, если я вам скажу, что через несколько дней, в течение которых я занимался своими приготовлениями, насколько мне позволяло время, – приблизительно на расстоянии 18-ти дюймов над шкатулкой образовалась горизонтальная щель, оклеенная, под цвет обшивки, бумагой. И в этой узкой щели была теперь прикреплена моя острая шпага, готовая выскочить при первом нажиме кнопки. Шпага придерживалась теперь рычагом, но, освободившись от него, находящаяся под шпагой другая пружина гнала шпагу вперед и заставляла быстро описать полукруг над шкатулкой.
Я отстранил тяжелые драпри, чтоб они не попадались шпаге по дороге, а шкатулку обложил подушками так, что ее не было видно, подушки же были положены туда как будто нечаянно.
Теперь мне ничего не оставалось, как заманить свою жертву в эту комнату, заставить ее пригнуться к шкатулке и открыть, чтобы пустить в ход эту адскую машинку. Острое лезвие выскочит, исполнит свое назначение, и голова тихо упадет на подушки, которые и лежали для того, чтобы заглушить стук падения. Я буду близко стоять, буду следить за головой во время ее падения, не спущу глаз с моей жертвы, и тогда я сумею убедиться, какой из споривших профессоров был прав, – сохраняется ли у обезглавленного сознание, и в продолжение какого времени.
Теперь явился важный вопрос – кого я могу избрать своей жертвой? Я был убежден, что последний сознательный момент зависит от силы воли жертвы и ее желания жить.
Кто же из моих знакомых обладал всеми этими качествами?
Альваро…
Дрожь пробежала по моему телу при этом ответе.
Но все-таки это было так. Отрицать этого нельзя было. Только он в состоянии дать верный ответ на такой важный вопрос. Если его воля не переживет этой казни – теория падает.
Но Альваро! Это было ужасно!
Этот страшный эксперимент я должен был произвести над своим лучшим другом, над человеком, который был для меня лучше брата, который так любил меня!
Я почувствовал страх и отвращение при этой мысли. Но это не был страх за себя, за могущее постигнуть меня возмездие в этой или загробной жизни. Об этом я не думал. Убить близкого мне человека, который многие годы был моим единственным другом, который не сделал мне никогда ничего дурного, который верил в меня, как в самого себя, – эта моя собственная мысль пугала меня. Как низко пал я нравственно, что мог так легко решиться посягнуть на его жизнь! Вот что, главное, пугало меня, моя собственная совесть, к самому себе питал я отвращение.
Задумался ли бы я в выборе, если бы в моем распоряжении была другая жертва, способная дать ответ – хотя и не такой определенный – на этот мучительный вопрос? Конечно, нет!
Но что я мог сделать?
Я не мог предостеречь его от самого себя, потому что не мог сообщить ему о существовании ужаснейшего вопроса, на который он должен ответить своей жизнью. Хотел, должен был, – но не мог!
И, наконец, я решил: «Я должен поскорее покончить с этим делом. Мне нужен покой! Я не могу жить, не решив этого вопроса! II прекрасно! Я его решу, но иным путем: умру – я! И изобретенная мною машина сослужит свою службу».
С этим намерением я подошел к шкатулке и положил обе руки на ее крышку. Когда я хотел приподнять ее, я услыхал в комнате, смежной с моей, шаги. Это были знакомые мне шаги…
Я быстро встал на ноги и в дверях встретил Альваро, в сопровождении его любимой и не отходившей от него обезьянки – Жанны.
Он был в хорошем расположении духа, говорил много, весело и громко, и вовсе не замечал моей холодности и рассеянности.
Он заметил подушки на полу и добродушно стал вышучивать мою неряшливость. Он подошел поближе и тут в первый раз увидел прелестную шкатулку с прекрасно нарисованным на ее крышке видом.
– Чья это работа? – спросил он. – Я его, вероятно, знаю и постараюсь по рисунку узнать имя художника.
И он немного нагнулся.
У меня на лбу выступили крупные капли пота.
– Это… – глухим голосом, заикаясь, начал я с намерением предупредить его не открывать шкатулки. – Это… это… я так себе поставил… Крышка… не дотрагивайся до нее…
– Что? – спросил Альваро. – Это ты, должно быть, рисовал? Ну, сознайся же, Карл, это – твоя работа?
Он быстро пригнулся к шкатулке и стал на одно колено.
От ужаса все у меня в голове перемешалось. Я не мог тронуться с места, не мог говорить. Я смутно слышал, больше видел, что Альваро говорил мне что-то, но слов я не разобрал. Ко мне донесся только шум, и он казался мне почему-то похожим на встревоженный шепот отдаленной толпы.
Но видел я прекрасно и, о ужас! с какой ясностью! Я не мог оторвать от него глаз. Я видел, как его руки легли на шкатулку, видел, как Альваро взялся ими за края крышки…
И меня со всей страшной силой охватило прежнее желание. Оно меня пересилило, и я ждал – мне секунды казались часами – ждал разрешения сатанинской проблемы.
Ах, этот ужас ожидания! Я не дышал, кровь остановилась в моих жилах, глаза, казалось, хотели выскочить из своих орбит.
Руки Альваро стали медленно поднимать крышку шкатулки…
А я стоял, как пригвожденный…
Я хотел крикнуть ему, хотел подбежать и оттащить его от этой смертоносной игрушки, но я не мог сделать ни того, ни другого. Я стоял, точно внезапно разбитый параличом, не мог двинуть ни одним членом, и только глаза… глаза… ими я владел свободно, даже слишком свободно.
Выше и выше поднимается крышка, вот она уже почти касается стены…
Боже мой! Неужели мой механизм не действует? Отчего это так медленно происходит?
Наконец, я услышал шум – страшный свистящий шум, который я, вернее, не услышал, а почувствовал.
– Вур-р-р-ш…
Кривая сабля описывала свой роковой полукруг.
Я видел, как голова плавно и без шума упала на подушки, и постарался заглянуть ей в глаза. Наши взгляды встретились…
По гневному блеску его глаз, по выражению вопроса, который светился в них, я при первом же взгляде убедился, что в этом уродливом предмете – окровавленной, отделенной от туловища голове – живет сознание, воля…
Первое выражение было вопросительное, но оно сейчас же исчезло, без сомнения, от вида моих далеко уже не испуганных глаз. С вопроса оно перешло на гнев. Глаза горели, метали молнии, расширялись и, наконец, устремили на меня полный немого упрека взгляд.
Но тут произошло нечто ужасное.
Тело осталось на том же месте, но силой удара его немножко опрокинуло в сторону, так что оно находилось почти в сидячем положении.
Глаза головы с меня перешли на тело, и я, стараясь проследить их взгляд, посмотрел по тому же направлению. И меня вдруг охватил такой ужас, для выражения которого я не могу подыскать подходящих слов.
Я увидел следующее.
Правая рука окровавленного, обезглавленного тела вдруг начала подниматься!
Я весь задрожал и, не будучи в состоянии стоять на ногах, бессознательно опустился на колени, но глаза мои не отрывались от руки, которая медленно, но уверенно поднималась.
И когда она поднялась, эта длинная, белая рука с ярко блестевшим бриллиантом на мизинце, когда она поднялась в уровень с моим лицом, указательный палец отделился и указал на меня – указал прямо в мое страшное, искаженное от ужаса лицо…
Безглавое тело указывало на своего убийцу!
Сколько времени рука оставалась в этом положении, – прямая, неподвижная, угрожающая, – я не знаю, для меня это время показалось вечностью.
И когда она, наконец, опустилась, я почувствовал не только облегчение, но как бы счастье, как будто я избавился от грозящей мне опасности, как будто освободился от лежавшей на мне неимоверной тяжести.
Я посмотрел на голову – глаза были закрыты. Сознание, очевидно, умерло в ней. Предо мной лежали мертвая голова и мертвое тело.
Через несколько мгновений я, ослабев от пережитого волнения, в изнеможении опустился на пол и впал в глубокий обморок.
Уже начало светать, когда я очнулся.
Я быстро вскочил и испуганно начал оглядываться, чтобы убедиться, не было ли все это дурным сном. Окровавленные подушки и лежавшие на них предметы свидетельствовали об ужасной действительности.
Я сел на софу и задумался.
Вопрос, который раньше так мучил меня и который теперь уже отошел на задний план, был решен. Сознание, воля и работа мысли не только не утрачиваются мозгом после отделения головы от туловища, но он на некоторое время сохраняет даже власть над отделенной от него частью.
Дело сделано, теория блестяще доказана… Что же дальше? Мне оставалось лишь одно: уничтожить все следы мертвого тела и отвлечь от себя все подозрения.
Для этого у меня уже давно все было готово: я обладал средством, с помощью которого можно было уничтожить тело, не оставив от него ни малейшего следа, посредством химического процесса, известного весьма немногим, без каких-либо горючих материалов, без огня и даже без остатка золы, которая могла бы меня выдать.
Я приготовил кислоты и все прочее, что к этому требовалось, подавил в себе чувства отвращения и ужаса, которые меня охватили, и принялся за работу.
Подушки, забрызганные кровью, я сжег. Тело, для того, чтобы не осталось от него никаких остатков, я должен был разрезать на несколько частей. Голова же могла быть уничтожена целиком, что и было сделано мной в несколько минут.
Я вздохнул спокойнее, когда ее не стало. Лицо мертвеца страшно действует на убийцу. Главное было сделано: головы уже не было, а уничтожить остальное не представляло для меня особенной трудности.
Я приступил к телу, отрезал правую руку и уже хотел положить ее в приготовленный состав, как вспомнил, что раньше нужно снять платье. Мой состав обладал свойством растворять только мясо и кости, а всякие посторонние вещества только мешали правильному ходу процесса. Огонь уже потухал, и я должен был спешить.
Наконец, все было сожжено, и я, нервный, возбужденный и страшно усталый, опять вернулся к телу. Я совсем ослабел и душой, и телом и, чтобы отогнать нахлынувшие ужасные мысли, постарался увлечься работой и пошел за отрезанной раньше рукой. Но я ее не видел. Где я мог ее оставить? Неужели уже уничтожил? Я не мог вспомнить. Да, вероятно, это так. И я взялся за остальные части.
Но я не буду вас вводить во все подробности моей бесчеловечной работы. Скажу вам только, что мне все удалось сделать. Ни малейшего следа не осталось от этого молодого, цветущего, благородного человека. «Ни малейшего следа!» – думал я с дикой радостью.
И с каким удовольствием я, наконец, открыл дверь! Как приятно было чувствовать прикосновение холодного воздуха к моему лихорадочно горящему лицу, как успокоительно действовало это ровным, спокойным сиянием светящее солнце!
Но когда я совсем раскрыл дверь, что-то быстро пробежало мимо меня.
Это был какой-то зверек. Да, это была маленькая обезьяна Жанна, которая всегда так боялась меня. Ее присутствия я не заметил или забыл.
Жанна, которая теперь больше, чем всегда, боялась меня, быстро проскользнула и, как стрела, пустилась бежать к дому своего умершего господина.
Господа, больше, кажется, мне нечего вам рассказывать. Вы из следствия знаете, как с этого времени я стал бояться одиночества и, мучимый угрызениями совести, стал постоянно искать общества своих знакомых: вы знаете, что в тот злосчастный день, когда я сидел с моими приятелями и вместе с ними выражал свои догадки и предположения по поводу внезапного исчезновения нашего общего приятеля Альваро, на стол вдруг, с оскаленными зубами, вскочила обезьяна, держа перед моими глазами страшный предмет, при виде которого мы все остолбенели. Но, мне кажется, никто из остальных не мог пережить и десятой доли того ужаса, какой в этот момент пережил я.
Предмет, который она держала, была рука – рука с надетым на мизинце кольцом Альваро.
Не все ли я вам рассказал? Не все ли объяснил? Вы молчите, вы немы от ужаса, – но думаете ли вы еще и теперь, что я действовал не в своем уме? Вы не отвечаете… вы меня пугаетесь… вы не можете взглянуть на меня! Но скажите мне, по крайней мере, – разве я не заслуживаю смерти?..
[Без подписи]
КРОВАВЫЙ ГАЛСТУК
На морском берегу, во время купаний, я познакомился с молодым человеком, носившим знаменитое имя, полное славных воспоминаний, полуитальянское, полуиспанское – Рамирес де Овио-Эсфорция. Но все называли его между собой сокращенно – Фабри. Странный контраст представляло громкое и героическое имя Фабри с его особой. Это был жалкий, слабый, малокровный субъект с женственной наружностью, со светлыми и прозрачными, как вода, глазами, с удивительно нежным характером. Врачи советовали ему жить на морском берегу, дышать здоровым воздухом, насыщаться морскими солями. Фабри тщательно следовал этим советам и повторял: «Что вы хотите, господа! Я сирота, никого не имею, кто бы обо мне заботился, и должен заботиться о себе сам».
Молодой аристократ мне очень понравился, и мы вместе с ним купались, завтракали и гуляли. Я заметил в Фабри одну странность, которая пробудила мой инстинкт наблюдателя. Раздеваясь, чтобы войти в воду, он ни на одну минуту не открывал шеи и обвязывал ее всегда широким белым платком, который он с величайшей осторожностью заменял другим, когда выходил из воды. Крахмальные воротнички его сорочек поднимались до ушей и, хотя некоторые считали это особым шиком, но я ставил это в связь с платком, подозревая, что он желает скрыть следы золотухи. Съедаемый любопытством, я однажды под предлогом завернуть его в простыню устроил так, что платок остался в моих руках и открыл шею моего приятеля…
Он испустил стон, точно я дотронулся до открытой раны, а я с трудом удержал восклицание – так страшно было то, что я увидел! На фоне мертвенно-бледных плеч и груди резко обозначалась вокруг шеи широкая кровавая полоса с неровными краями, похожими на след, который мог бы оставить нож, отделяя голову от туловища. Казалось, что после удара голову опять приставили и при малейшем движении она упадет на землю. Я не мог себе отдать отчета в том, что это такое, и остолбенел при виде этого ужасного знака. Фабри закрывался дрожащими руками, а я все еще оставался недвижим – ужас сковал мне язык. Наконец, я обрел вновь дар слова и рассыпался в столь искренних и сердечных извинениях, что бедный юноша мог на них только ответит дружескими объятиями.
Вслед за этим Фабри рассказал мне все, потому что сердцу нелегко переносить тягость некоторых тайн. Вечером мы сидели на береговом утесе в одинокой и дикой местности, и к зловещему шуму прибоя примешивался голос Фабри, рассказывавшего мне повесть кровавого знака.
– После пяти лет бездетного супружества, – начал он, – родители мои потеряли надежду иметь детей. Врачи приписывали это сложению моей матери, болезненной, нервной и экзальтированно-впечатлительной. Они советовали ей для укрепления <здоровья> побольше пожить в деревне, вставать рано, ложиться с петухами, много есть, ходить пешком и избегать всякого рода волнений. Опаснее всего для нее были волнения! Чтобы предоставить ей полнейшее спокойствие, мой отец решил не сопутствовать ей в имение Кастильбермехо, которое было избрано для ее местопребывания вследствие красоты местоположения и целительных свойств воздуха, а также и потому, что семья управляющего, – люди честные и преданные, – должна была заботиться о синьоре и служить ей.
– Мне нравится Кастильбермехо, – предупредил отец, – потому что, хотя в XV и XVI веках это была крепость, но после перестройки она превратилась в большой, удобный и мирный дом. Там не осталось и следа жестоких времен, кроме разве истории о голове, которую я считаю простой выдумкой.
– О голове? – спросила моя мать с любопытством. – Какой голове?
– Да это сказка, – поспешил сказать отец, уже раскаиваясь, – я был в Кастильбермехо в раннем детстве и почти не помню ее.
Она настаивала, и мой отец нехотя рассказал ей некоторые подробности.
– Говорят, что в доме находится сундук из красной кожи, в котором лежит голова одного из наших предков – Эсфорци, обезглавленного в Италии в XVI веке за то, что отравил свою собственную мать – Бланку Висконти. Глупости, болтовня! Вот ты уж и побледнела, голубка. О такой ерунде нечего говорить!..
Она успокоилась. Все забыли про это, и мать моя уехала, наконец, в Кастильбермехо. Она почувствовала себя удивительно хорошо уже в первые дни пребывания там. Впоследствии бедняжка признавалась, что под влиянием деревенского покоя она совсем не думала о голове предка, хотя рассказ отца гвоздем засел в ее горячем воображении. Свежий воздух, солнце, мир и тишина местности, парное молоко, плоды и спокойный сон, заботливость и ласковая приветливость семьи управляющего так хорошо на нее подействовали, что лицо ее приобрело румянец, она начала чувствовать аппетит и к ней вернулась прежняя веселость. Вместе с тем, под влиянием одиночества и отсутствия забот, занятий и развлечений, в возбужденном воображении матери снова зародилась мысль об отрезанной голове и неотступно стала занимать ее днем и ночью, особенно ночью. Она видела эту голову во сне истекающей кровью и, дрожа, просыпалась, точно привидение ее трогало холодной рукой. Сознавая, как женщина благоразумная, что призраков не существует, она ни слова не говорила об этом окружающим и не спрашивала про кожаный сундук, чтобы не выдать своих сомнений и тревог. Были минуты, когда она была уверена, что все это – смешная сказка. Наконец, она решила перерыть весь дом, чтобы или подтвердить, или рассеять свои страхи.
Она сама не знала, желала ли она или боялась найти голову. Может быть, для нее было бы разочарованием не найти сундука…
Под предлогом генеральной уборки она перевернула дом сверху донизу, перерывая чердаки, подвалы и даже винные погреба, но сундук не находился. Когда она, наконец, устала от бесплодных поисков, она получила письмо от отца, извещавшего ее, что он приедет в деревню на неделю. Мать повеселела, забыла тотчас же все свои страхи и начала устраивать и переставлять мебель в громадной комнате, служившей ей спальней. Она принесла из сада цветы и принялась убирать стенные шкафы, занимавшие одну сторону комнаты. На нижних полках лежали различные предметы, покрытые плесенью и сыростью, охотничьи фляжки, старинное оружие, пожелтевшие бумаги. Дочь управляющего, вскарабкавшись на лестницу, вытаскивала сверху разную старинную посуду и вдруг воскликнула:
– Здесь еще что-то вроде ящика. Снять его?
– Снимите, – приказала мать моя, протягивая руки и бережно принимая довольно большой ящик, ободранный, потемневший, окованный ржавым железом. Крышка ящика еле держалась на петлях, сдвинулась и открыла внутри предмет отвратительный и ужасный – отрезанную голову, совершенно высохшую, но сохранившую часть волос и все зубы.
Вы можете себя представить то нервное потрясение, которое испытала моя мать. Загадку, которую она искала по всему дому, она нашла вблизи себя, в своей комнате, в двух шагах от постели, в единственном месте, которое она еще не успела осмотреть! Когда мой отец приехал, он застал се в сильнейшем нервном припадке. Ценой неусыпных и нежных забот он достиг того, что она немного поправилась, и он смог ее увезти из Кастильбермехо. Через десять месяцев родился я с тем знаком, который вы видели.
Фабри умолк, а я его спросил с состраданием:
– А мать ваша?
– От нее не могли скрыть этого знака. Это стало ее гибелью, потрясло ее мозг… Она умерла в доме умалишенных…








