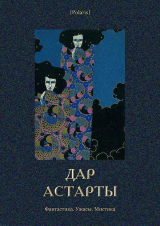
Текст книги "Дар Астарты: Фантастика. Ужасы. Мистика (Большая книга)"
Автор книги: Коллектив авторов
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 43 страниц)

ДАР АСТАРТЫ
Фантастика. Ужасы. Мистика


КРОВАВЫЙ РУБИН
Рене Гибо
ЧУДОВИЩЕ ВОЗДУХА
Когда я узнал из вечерней газеты о несчастье, приключившемся с моим другом Марселем Ривьером, я немедленно вскочил в такси и велел везти себя в клинику Св. Марты. Шофер сочувственно поглядел на мою растерянную физиономию и пустил машину полным ходом. Свежий ветер, захлеставший меня по лицу, вернул мне спокойствие, и я, развернув газетный лист, более внимательно прочел столь взволновавшее меня сообщение.
На первой странице, под жирными заголовками, было напечатано известие о том, что знаменитый авиатор Ривьер, поднявшийся с аэродрома Бурже с целью побить мировой рекорд высоты, по неизвестной причине вывалился из сиденья и с огромной высоты камнем ринулся вниз. Бывший на нем парашют раскрылся лишь на расстоянии 500 метров от земли; летчик, упав на вспаханное поле, отделался легкими контузиями, но, под влиянием пережитого потрясения, впал в бредовое состояние. Врачи клиники Св. Марты, куда его спешно перевезли, опасаются мозговой горячки…
Покуда шофер, ворча и ругаясь, пробирался сквозь сутолоку парижских улиц, я воскрешал в памяти все этапы моей долголетней дружбы с Марселем. Начало ей было положено еще на школьной скамье, где я успел полюбить Ривьера за его открытый нрав, ум и несомненную храбрость, проявлявшуюся уже в детских играх. Юношей, Ривьер увлекся авиацией и быстро стал одним из самых выдающихся французских летчиков: в его активе числились несколько исключительных по смелости рейдов, две попытки перелета через океан и ряд рекордов, – в том числе, рекорд высоты. При попытке улучшить его, мой друг и стал жертвой несчастного случая.
После томительной поездки автомобиль остановился, наконец, у ворот клиники. Дежурный врач проводил меня в большую светлую комнату, где на единственной постели лежал мой бедный друг. Черты его лица были искажены; глаза, затуманенные лихорадкой, глядели на меня, не узнавая. Время от времени он хриплым голосом произносил несвязные слова.
– Бредит, – сказал шепотом врач.
Через широко раскрытое окно в палату вливалась прохлада весеннего вечера и чуть приметный запах цветов. От волнения у меня сжалось горло, и я молча вышел в длинный больничный коридор…
* * *
Как того и опасались врачи, Марсель заболел воспалением мозга. Пятнадцать дней он провел между жизнью и смертью, не приходя ей на минуту в сознание и непрерывно бредя. Он говорил о чем-то большом, скользком, отбивался от невидимой опасности и несколько раз порывался соскочить с постели. Два служителя с трудом удерживали его на месте…
Наконец, в одно прекрасное утро врач встретил меня радостной вестью: в состоянии больного произошел перелом, и он находится на пути к выздоровлению. Я бросился к двери палаты, но врач удержал меня за рукав:
– Куда вы? Раньше двух недель к нему нельзя…
Две недели спустя я увозил Марселя, исхудавшего, остриженного, изменившегося до неузнаваемости, на мою летнюю дачу на берегу Марны. Он вдыхал полной грудью теплый воздух, сладко ежился под лучами солнца и видимо наслаждался жизнью. Но когда я неосторожно попросил его рассказать, каким образом приключилось несчастье с его аппаратом, он заволновался, заметался на сиденье автомобиля и произнес страдальческим голосом:
– Не теперь… Не нужно спрашивать… Я еще слаб. Я сам расскажу… потом…
* * *
Однажды мы сидели на террасе моей виллы, Марсель и я, и молча глядели на зеркальную гладь Марны. Наступали летние сумерки, и косые лучи заходящего солнца золотили тонкую пыль над проезжей дорогой. Неожиданно Марсель сказал:
– Как тихо вокруг… и какой ужас сжимает подчас мое сердце!
Я взглянул на него со страхом и участием:
– Ты болен, Марсель? Дать тебе чего-нибудь?
Он криво усмехнулся:
– Я не болен и не сошел с ума. Я не могу забыть, что я видел там.
Предчувствуя, что я нахожусь на пороге какой-то страшной тайны, я спросил:
– Где «там», Марсель?
– Там. Наверху. На высоте восемнадцати километров над землей.
И, закрыв глаза ладонью, как бы отгоняя страшное видение, он простонал:
– Какой ужас!
* * *
Вот тот невероятный, потрясающий, дикий рассказ, который мне довелось выслушать этим памятным вечером от Марселя Ривьера, – человека, каждому слову которого я привык верить, как святыне. Никогда не забуду его полулежачей позы, его закрытых глаз, которые он как бы боялся раскрыть, чтобы вновь не увидать страшное явление…
– Происшедшее со мной столь чудовищно, столь необычно, что начну рассказ по порядку, с самого начала. Ты должен убедиться, что я все время был в здравом уме и памяти.
Я поднялся с аэродрома 25 апреля, в 10 часов утра. Мотор работал великолепно, я забирал высоту безо всяких затруднений, и вскоре земной пейзаж слился для меня в единую одноцветную поверхность.
Шесть тысяч метров! Все шло так хорошо, что я замурлыкал песенку, уверенный в успехе моей попытки. Я воображал себя средневековым рыцарем, мчащимся на турнир: кожаная каска казалась мне шлемом, непромокаемое одеяние авиатора – латами, а кожаные петли, в которые я упирался ногами для большей устойчивости – стременами. Дышать было легко благодаря притоку живительного кислорода из резервуара, а холода, царящего на этих высотах, я не чувствовал, ибо меня согревал электрический радиатор.
Когда большой барограф показал 15 километров, мой предыдущий рекорд был побит, и я мог бы спокойно начать спуск. Но опьянение пространством, высотой и движением было так сильно, что я налег на руль и начал забираться выше.
Медленно, как бы во сне, передо мной разворачивалась пелена молочно-белого тумана. Местами в нем появлялись странные темные пятна, отливавшие то синеватым, то желтым цветом: это напоминало гигантский калейдоскоп. Время от времени в этих пятнах возникало какое-то трепетание: можно было подумать, что там таится жизнь…
Я взглянул на регистрационные аппараты: они показывали высоту 18 километров. Затерянный в безбрежном океане тумана, окруженный загадочными цветными массами, я почувствовал в груди жало страха. Вот слева от меня появилось гигантское желтое пятно: мне показалось, что оно движется на меня. Определить тебе в точности мои чувства в этот момент невозможно. Сильнее всего во мне было, вероятно, любопытство; мне хотелось во что бы то ни стало разглядеть поближе таинственное явление, проникнуть в его тайну. Пытаясь мысленно подыскать ему объяснение, я подумал о неведомой нам фантастической флоре, возникающей в высоких слоях атмосферы под влиянием солнечного света и невидимой с земли: возможно, что цветные массы являлись чем-то вроде гигантских грибов, плавающих в разреженном воздухе, подобно пуху одуванчика…
Через несколько минут мой аппарат поравнялся с желтой массой. Я врезался как бы в мокрую вату. И в этот момент – о, ужас! – я заметил, что все пространство вокруг меня кишит какими-то личинками. То, что я принял за цветы, было на самом деле животными!.. Эти омерзительные существа напоминали прозрачные пузыри, метавшиеся из стороны в сторону, как стая мышей, застигнутых водой. Пропеллеры моего аэроплана с воем врезались в эту гадость… Бррр…
Первое чувство гадливости вскоре сменилось страхом. Я понял, что высшие слои атмосферы, которые мы на земле считаем мертвыми и пустынными, на самом деле заселены особой фауной. Что это за животные? Ограничивается ли население этой зоны теми слизняками, которых я видел, или же мне угрожает опасность иных, более страшных встреч?
Не успел я поставить себе эти вопросы, как кровь в моих жилах застыла от непередаваемого ужаса. Мой аппарат проник в темное пространство, и в этот момент я увидал прямо перед собой два глаза, горевших нездешней злобой. Эти глаза жили в отвратительном слизистом теле, расплывчатые очертания которого напоминали гигантских океанских спрутов. Потом рядом со мной – слева, справа, сверху – появились новые глаза, новые студенистые массы! Со всех сторон к аппарату потянулись щупальцы. Фиолетовые и желтые тени свивались и развивались в омерзительный клубок… Я выпустил из рук рычаги… Аппарат пошатнулся… Помню только стремительное падение, нестерпимую боль в сердце, свист воздуха в ушах… потом – ничего…
* * *
Я был потрясен рассказом Марселя. Я не сомневался, что это приключение – плод галлюцинации, нервного напряжения, результат продолжительного дыхания кислородом. Быль может, мой друг на мгновение потерял сознание и видел все в кошмаре.
Мой скептицизм привел Марселя в состояние раздражения:
– Говорю тебе, что я отдаю себе прекрасно отчет во всем, что со мной случилось! Я видел этих животных так же ясно, как вижу теперь тебя. Поверь мне – там, наверху, в эфире, таится жизнь, о существовании которой мы здесь даже не подозреваем…
И, заметив на моем лице остатки скептицизма, он добавил:
– Разве тебе не известно, что обломки моего аппарата, свалившегося с высоты восемнадцати километров, были покрыты черным налетом и что эксперты не могли определить природу этой загадочной слизи? Но я знаю, что это… Когда я врезался на всем лету в студенистую массу воздушного спрута, пропеллеры отрывали куски его омерзительного тела… Какой ужас!
Я замолчал. Наверху, в вечернем небе, незримо собиралась темнота. Я взглянул туда, в бездонную глубину лазури, и меня охватила невольная дрожь…
Артур Конан Дойль
УЖАС ВЫСОТ
(С включением рукописи, известной под названием «Отрывок из отчета Джойса-Армстронга»)

I
Мысль о том, что необыкновенный рассказ, так называемый «отрывок из отчета Джойса-Армстронга» – ловкая шутка, сыгранная кем-то неизвестным и порожденная фантастическим и мрачным юмором, теперь вполне оставлена людьми, рассмотревшими этот вопрос. Самый зловещий, мрачный и одаренный живым воображением шутник не стал бы связывать своих болезненных фантазий с теми несомненными и трагическими событиями, которые придают силу его словам. Правда, рассказанное в «отрывке» изумительно, даже чудовищно; тем не менее, утверждения автора рукописи против воли овладевают нашим мозгом и заставляют нас думать, что нам необходимо настроить ум согласно с новыми взглядами. Начинает казаться, будто мир, в котором мы живем, отделен только легкой и ненадежной преградой от самых необыкновенных и неожиданных опасностей. Постараюсь в своем рассказе, воспроизводящем упомянутый документ, в по необходимости отрывочной форме, развернуть перед читателем последние события, а в виде предисловия скажу, что, если кто-нибудь еще сомневается в достоверности слов Джойса-Армстронга, то факты, касающиеся лейтенанта Миртля (из Королевского флота) и м-ра Хея Коннора, действительно погибших ниже описанным образом, – бесспорны.
Отрывок из рукописи Джойса-Армстронга был найден на поле, называемом Нижний Хенкок, на милю к востоку от деревни Вайтигам на границе Кента и Суссекса. Пятнадцатого числа прошедшего сентября Джемс Флип, работник фермера Мэтью Додда с фермы Чоунтри, заметил черешневую трубку, лежавшую близ пешеходной тропинки, которая бежит вдоль живой изгороди поля. Через несколько шагов он поднял разбитый бинокль; наконец, среди густой крапивы в канаве увидел плоскую тетрадь с полотняным корешком, оказавшуюся записной книжкой с отрывными листками; многие из них отделились и разлетелись вдоль изгороди. Он собрал их; но некоторые, в том числе первый, не были найдены; это образовало прискорбный пробел в до крайности важном документе. Работник отнес записную книжку в своему хозяину, а тот, в свою очередь, показал ее д-ру Асертону из Хартфильда. Этот джентльмен сразу понял, что рукопись необходимо отдать на рассмотрение сведущих людей – и книжка была отправлена в лондонский аэроклуб, где она и находится в настоящее время.
Двух первых страниц не хватает. В конце рассказа также вырвана одна; однако, это не нарушает общей стройности отчета. Предполагают, что исчезнувшее начало касается авиаторской деятельности м-ра Джойса-Армстронга, которая известна из других источников, причем знающие люди находят, что ни один из европейских воздушных пилотов не превзошел его в этом отношении.
В течение многих лет он считался одним из самых смелых и самых развитых летчиков; эти два качества дали ему возможность изобрести и подвергнуть испытанию несколько новых усовершенствований, в том числе гироскопический аппарат, известный под его именем и примененный им к летательным машинам. Большая часть страниц книжки исписана четким почерком и чернилами, но несколько строк в конце набросаны карандашом и так беспорядочно, что их трудно разбирать; кажется, будто они были нацарапаны поспешно на сиденье летящего аэроплана. Надо прибавить, что на последней странице и на переплете книжки виднеются темные пятна; эксперты признали их следами крови, вероятно, человеческой и несомненно принадлежавшей млекопитающему. Тот факт, что нечто, в высшей степени похожее на бациллы малярии, было найдено в этой крови и что Джойс-Армстронг, как известно, давно страдал перемежающейся лихорадкой, – составляет замечательный пример новых орудий, которые современная наука дала в руки наших сыщиков.
Теперь несколько слов о личности автора отчета, который, вероятно, создаст новую эпоху. По словам немногих друзей Джойса-Армстронга, действительно знавших его характер, он был не только изобретателем и механиком, но также поэтом и мечтателем. Человек очень богатый, он истратил большие деньги, стараясь осуществить свою идею. В сараях-ангарах Джойса-Армстронга близ Девайса стояли четыре аэроплана, и говорят, что в течение прошлого года он поднимался не менее ста семидесяти раз. Это был сдержанный человек, который по временам впадал в мрачное уныние и в таком настроении избегал общества. Капитан Денгерфильд, знавший Джойса-Армстронга лучше, чем кто-либо другой, говорит, что порой его эксцентричность грозила перейти во что-нибудь более серьезное. Например, Джойс всегда брал с собой на аэроплан свое ружье, заряжавшееся картечью.
Другим доказательством справедливости слов Денгерфильда служит то болезненное впечатление, которое произвело на Джойса-Армстронга падение лейтенанта Миртля. Миртль пытался побить рекорд высоты, упал приблизительно с тридцати тысяч футов. Страшно сказать: его голова была совершенно уничтожена, хотя тело, руки и ноги сохранились вполне. По словам Денгерфильда, на каждом собрании летчиков Джойс-Армстронг с загадочной улыбкой спрашивал:
– А где, скажите пожалуйста, голова Миртля?
Однажды, после обеда в столовой школы авиаторов в долине Сальсберн, он поднял вопрос о том, «что со временем сделается самой обычной опасностью для воздушных пилотов». Было сказано много различных предположений. Один говорили о так называемых «воздушных мешках», другие о погрешности конструкции, о перегрузке. Он выслушал всех, пожал плечами и отказался изложить свои собственные взгляды, однако по выражению лица Джойса-Армстронга можно было понять, что его идея совершенно не сходилась с мнениями его товарищей.
Необходимо заметить, что после окончательного исчезновения Джойса-Армстронга, его частные дела оказались в таком доведенном до совершенства порядке, который говорил, что он предвидел несчастье. После этих существенных объяснений я дословно приведу рассказ Джойса-Армстронга, начав с третьей страницы пропитанной кровью записной книжки.
II
«…Тем не менее, обедая в Реймсе с Козелли и Густавом Реймондом, я понял, что ни тот, ни другой не знали об особенной опасности высших слоев атмосферы. Я не открыл им своих истинных предположений, однако, подошел к сущности вопроса так близко, что, шевелись в их умах какая-либо соответствующая мысль, они непременно выразили бы ее. Но это пустые, тщеславные малые; они желают только видеть свои глупые фамилии в газетах. Интересно отметить, что ни один из них никогда не был значительно выше двадцати тысяч футов над землей. Правда, многие поднимались выше этого и на воздушных шарах, и при восхождении на горы, но, без сомнения, аэроплан попадает в опасный пояс значительно дальше этой черты, – если допустить справедливость моих предположений.
Вот уже более двадцати лет занимаемся мы авиацией и, конечно, можно спросить: почему опасность сказывается только в наши дни? Ответ очевиден. В эпоху слабых машин, когда «Гном» или «Грим» в сто лошадиных сил считался вполне достаточным двигателем во всех случаях, полеты были в высшей степени ограничены. Теперь же, когда мотор в триста лошадиных сил является скорее правилом, нежели исключением, посещать высшие слои атмосферы удобнее и проще. Некоторые из нас помнят, как во дни нашей юности Гарро заслужил мировую славу, достигнув девятнадцатитысячной высоты, а перелет через Альпы считался замечательным подвигом. В настоящее время наши требования увеличились неизмеримо; в один лишь последний сезон насчитывается двадцать высоких полетов. Многие из них были совершены безнаказанно. Некоторые поднимались на тридцать тысяч футов над уровнем моря, не испытывая никаких затруднений, кроме холода и астмы. Что же это доказывает? Путешественник может спуститься на нашу планету тысячу раз и не увидеть тигра; однако, тигры водятся на земле и, если бы ему случилось упасть в джунгли, зверь мог бы его растерзать. В высших слоях воздуха существуют джунгли, в которых обитает нечто похуже тигров. Я думаю, со временем такие воздушные заросли будут точно занесены на небесные карты. Даже теперь я мог бы назвать две из них. Одна лежит над областью По-Биарриц, другая приходится как раз над моей головой, когда я сижу и пишу у себя дома в Уильтшайре. Я сильно предполагаю, что есть еще и третья зона над областью Гамбург-Висбаден.
Исчезновения летчиков заставили меня пораздумать. Все говорили, что они упали в море, но такое объяснение совершенно не удовлетворило меня. Во-первых, Верье во Франции: его машину нашли близ Байонны, но тела никогда не отыскали. А потом Бакстер! Он исчез, хотя остатки его аппарата были найдены в лесу Лейчестершайра. В последнем случае д-р Мадльтон из Амсбери следил в телескоп за полетом и после несчастья заявил, что перед тем, как тучи затемнили для него поле зрения, машина, находившаяся на громадной высоте, внезапно сделала несколько скачков и поднялась по вертикальной линии, приняв положение, которое до тех пор он считал невозможным… Больше Бакстера не видали. В газетах появились корреспонденции, но они ни к чему не повели. Произошло еще несколько подобных случаев. Наконец, мы видим смерть Коннора. Какая болтовня поднялась вследствие неразрешенной тайны воздуха, сколько появилось столбцов в грошовых листках и как мало было сделано для раскрытия сущности вопроса! Невероятным «vol-plané»[1]1
Планирующий полет (фр.). (Здесь и далее прим. сост.).
[Закрыть] он спустился с неведомых высот и… не сошел со своей машины – умер на пилотском месте. Умер от чего? «Болезнь сердца», – определили доктора. Вздор! Сердце Коннора было так же здорово, как мое. Что сказал Венеблс? Венеблс – единственный человек, бывший подле него в минуту его смерти. Он заявил, что Коннор весь дрожал и осматривался взглядом жестоко испуганного человека. «Он умер от страха», – сказал Венеблс, но не мог себе представить, что испугало его. Коннор прошептал Венеблсу только одно слово, слово, похожее на «чудовища». Делая расследования, никто ничего не понял. Но я кое-что соображаю. «Чудовища!» Вот последнее слово бедного Гарри Коннора! Он действительно умер от ужаса, как и предположил Венеблс.
Потом, голова Миртля! Неужели вы действительно думаете, – неужели кто-нибудь действительно думает, – будто сила падения способна вдавить голову человека в его тело? Да, может быть, это и мыслимо, однако я никогда не верил, чтобы с Миртлем случилась подобная вещь. А сало на его платье? «Весь скользкий от сала», – сказал один из производивших освидетельствование. Удивительно, что никто не подумал об этом. Но я-то думал. Я давно думаю. Я поднимался трижды (до чего Денгерфильд насмехался над моим ружьем!), но никогда не был достаточно высоко. Теперь, благодаря новой легкой машине системы Поля Веронье с двигателем Робур в сто семьдесят пять сил, я завтра без труда достигну тридцати тысяч футов. Постараюсь побить рекорд. Может быть, добьюсь и чего-нибудь другого. Понятно, это опасно. Но если человек желает избегать опасности, ему лучше всего совсем не летать, а просто надеть фланелевые туфли и халат. Завтра я попаду в воздушные джунгли и, если в них есть что-нибудь, я это узнаю. Придется мне вернуться – я сделаюсь знаменитостью. Если я не вернусь, эта тетрадь объяснит, что я пытался открыть и каким образом я погиб. Но, пожалуйста, без болтовни о случайностях или необъяснимых тайнах. Для своей цели я выбираю моноплан Поля Веронье. Когда предстоит настоящее дело, ничто не сравнится с монопланом. Еще в давние дни это нашел Бомон. Главное, – моноплан не боится сырости и непогоды. Этот прекрасный маленький аппарат слушается моей руки, как мягкоуздая лошадь. Мотор – десятицилиндровый вращающийся Робур – развивает до ста семидесяти пяти сил. В моноплане все современные усовершенствования, включая опускные шасси, тормоза, гироскопические уравнители, он имеет также три быстроты, достигаемые изменением угла планов. Я взял с собой ружье и дюжину заряженных картечью патронов. Посмотрели бы вы на лицо моего старого механика Перкинса, когда я попросил его положить их в машину! Я оделся, как арктический исследователь: две фуфайки под теплым костюмом; толстые носки, стеганые сапоги, штурмовая фуражка с наушниками и тальковые очки. В ангарах было душно, но ведь я направлялся, так сказать, на вершины Гималаев, и мне следовало одеться соответственно. Перкинс понимал, что предстоит что-то особенное, и умолял меня взять его с собой. Может быть, я согласился бы, если бы выбрал биплан; моноплан же – для одного, если желаешь извлечь из него каждый фут подъема. Понятно, я захватил с собой подушку с кислородом: человек, желающий достигнуть наибольшей высоты без запаса кислорода, или замерзнет, или задохнется, или и то, и другое вместе.
Раньше, чем ступить на моноплан, я внимательно осмотрел его крылья, руль направления и руль высоты. Насколько я мог видеть, все было в порядке. Я привел в действие мою машину; она шла хорошо, ровно. Когда аппарат отпустили, он, двигаясь с наименьшей скоростью, почти сразу поднялся. Я сделал два круга над моим лужком, чтобы разогреть двигатель, потом, махнув рукой Перкинсу и остальным, выпрямил крылья и поставил рычаг на самый скорый ход. Минут восемь-десять моноплан летел по ветру, точно ласточка, но я повернул его, слегка поднял его переднюю часть, и он широкой спиралью двинулся к гряде туч, висевшей надо мной. В высшей степени важно подниматься медленно, применяясь к давлению.
III
Стоял душный, жаркий день, и в воздухе чувствовалось тяжелое затишье, как перед дождем. С юго-запада по временам налетали порывы ветра; один из них был так силен и неожидан, что заставил мой аппарат сделать полуоборот. Я вспомнил те времена, в которые шквалы, вихри и «воздушные мешки» служили опасностями, то есть эпоху, когда люди еще не умели вкладывать в свои машины мощь, превозмогающую такие затруднения. Когда я уже достигал туч и альтиметр – высотомер, – показывал три тысячи, начался дождь. О, как он лил! Капли барабанили по моим крыльям, бичевали мне лицо, туманили очки, так что я с трудом смотрел вперед. Я уменьшил скорость машины, потому что было тяжело двигаться против ливня. Выше дождь превратился в град, и мне пришлось обратить к нему хвост моноплана. Один из цилиндров перестал работать, – вероятно, вследствие загрязнившегося воспламенителя; тем не менее, я все же поднимался достаточно хорошо. Через несколько времени неприятность, что бы ни вызывало ее, устранилась, и я услышал полное, глубокое жужжание: десять цилиндров пели, как один. В таких случаях сказывается вся прелесть наших современных умерителей звука. Мы можем слухом контролировать действие машин. До чего они пищат, визжат и рыдают, когда в них что-нибудь портится! В былое время эти призывы на помощь пропадали даром: их всецело поглощал чудовищный грохот машины. Если бы только первые авиаторы могли воскреснуть и увидеть купленное ценой их жизней совершенство механизмов!
Около половины десятого я приблизился к тучам. Подо мной расстилалось стушеванное и затемненное дождем широкое пространство сальсберийской низменности. С полдюжииы летательных машин работали на высоте тысячи футов; на фоне зеленого поля они казались маленькими черными ласточками. Полагаю, авиаторы спрашивали себя: что я делаю в стране туч? Внезапно передо мной выросла серая завеса, и влажные клубы тумана обвили мое лицо. Неприятное ощущение чего-то холодного и липкого… Но я выбрался из полосы града и, значит, все-таки достиг кое-какой выгоды. Туча была темна и густа, как лондонский туман. Стремясь выбраться из сырой гряды, я поднял нос аэроплана, да так сильно, что зазвенел автоматический тревожный звонок; я стал скользить назад. Промокшие крылья моноплана, с которых падали капли, сделали его вес тяжелее, чем я думал, но скоро я очутился в более легком облаке, а потом и совсем вышел из первого слоя туч. Дальше был второй – нежный, цвета опала; он висел высоко над моей головой. Белый сплошной потолок вверху, темный сплошной пол внизу, а между ними моноплан, который, описывая спирали, пролагал себе путь в высотах. В этих пространствах между облаками чувствуешь себя убийственно одиноким. Раз большая стая каких-то мелких водяных птиц пронеслась мимо меня, быстро направляясь к западу. Шелест их крыльев и их музыкальный крик показались моему слуху веселыми звуками. Кажется, это были чирки, но я плохой зоолог. Теперь, когда мы, люди, стали птицами, нам следовало бы научиться распознавать наших собратьев по внешнему виду.
Внизу подо мной крутился ветер и колебал просторную облачную пелену. Однажды в ней образовался как бы водоворот из тумана, и, точно глядя в воронку, я на мгновение разглядел отдаленную землю. Глубоко подо мной пролетел большой белый биплан; я думаю, утренний почтовый – между Бристолем и Лондоном. Потом серые клубы снова сомкнулись, и я опять очутился в воздушной пустыне.
В начале одиннадцатого я коснулся нижней окраины второго слоя облаков. Он состоял из тонкого прозрачного тумана, быстро плывшего с запада. Все это время ветер постоянно усиливался и теперь дул резко, судя по моему индикатору, двадцать восемь в час. Было уже очень холодно, хотя мой высотомер показывал лишь девять тысяч. Машины работали прекрасно, и мы поднимались. Высокая гряда облаков оказалась гуще, чем и ожидал, но, наконец, она превратилась в золотистую дымку, и через мгновение я вылетел из нее; надо мной раскинулось безоблачное небо и заблистало яркое солнце. Вверху были только лазурь и золото; внизу только блестящее серебро, насколько хватало мое зрение – одна сверкающая облачная равнина. Часы показывали четверть одиннадцатого, а стрелка барографа стояла на цифре двенадцать тысяч восемьсот. Я все шел вверх и вверх; мой слух сосредоточивался на глубоком жужжании мотора, глаза наблюдали за часами, за индикатором наклонов, за рычагом бензина и за масляным насосом. Немудрено, что авиаторов считают бесстрашными. Мысли летчика заняты такими разнородными предметами, что ему некогда беспокоиться о себе! В эти минуты я заметил, до чего, на известном расстоянии от земли, буссоль ненадежна. О своем направлении я мог судить только по солнцу и ветру.
На большой высоте я надеялся достигнуть полосы вечного покоя, но с каждой новой тысячью футов шквалы делались все сильнее. Встречая их удары, моя машина стонала и дрожала во всех своих соединениях; на поворотах трепетала, как лист бумаги, а когда я ставил ее по ветру, несла меня, вероятно, с такой быстротой, какой еще никогда не испытывал ни один смертный. Мне приходилось постоянно делать новые повороты, потому что я стремился достигнуть не только наибольшей высоты. Судя по своим вычислениям, я полагал, что воздушные джунгли лежат над Уильтшайром, и все мои усилия пропали бы даром, достигни я высших слоев воздуха где-нибудь в другом пункте.
Когда я поднялся на двенадцать тысяч футов, – что случилось около полудня, – ветер стал так суров, что я тревожно поглядывал на тяжи машины и на ее крылья, ежеминутно ожидая, что они начнут полоскаться или ослабеют. Я даже отвязал парашют и прикрепил его крючок к кольцу моего кожаного пояса, приготовляясь к самому худшему случаю. Для меня наступала минута, в которую всякая небрежность механика оплачивается жизнью авиатора. Но машина выдержала искус. Каждая ее проволока, каждый болт жужжали и вибрировали, точно струны арфы, но мне было радостно видеть, что, несмотря на все удары и толчки, моноплан все же оставался победителем природы и господином неба. Конечно, в самом человеке есть что-то божественное, раз он превозмогает ограничения, которыми создание связывает его, превозмогает их именно с помощью такого несебялюбивого, героического самопожертвования, какое показали победы над воздухом. Говорите теперь о вырождении людей! Когда в летописях нашего рода был начертан такой рассказ, как этот?
IV
Вот какие мысли наполняли мой мозг, когда я поднимался по чудовищно крутой линии; ветер то был мне в лицо, то свистел мимо моих ушей, а страна туч подо мной ушла так далеко вниз, что ее серебряные складки и выпуклости сгладились и она превратилась в одну плоскую, блестящую низменность. Но вдруг я испытал страшное и новое ощущение. Я и раньше попадал в то, что наши соседи-французы называли tourbillon[2]2
Воздушный поток, турбулентность (фр.).
[Закрыть], но он никогда не крутил меня с такой силой. В громадной несущейся реке ветра, по-видимому, были свои водовороты, такие же чудовищные, как она сама. Мгновенно я очутился в самом сердце одного из них и минуты две кружился с такой быстротой, что почти потерял сознание; потом мой моноплан наклонился левым крылом, упал, как камень, и потерял около тысячи футов; на месте удержал меня только мой пояс. Еле дыша, потрясенный, я почти перевешивался через перила моего пилотского места. Но я способен на усилие. Это мое единственное большое авиаторское достоинство. Я осознал, что мы опускаемся медленнее. Очаг вихря составлял скорее конус, чем настоящую воронку, и теперь я достиг его вершины. Страшным толчком, перекинув всю тяжесть на одну сторону, я уравнял мои планы и повернул аппарат по ветру. В одно мгновение он вынырнул из полосы вихрей и понесся вниз. Потом, потрясенный, но победивший, я поднял «нос» моего моноплана и снова начал подниматься по спирали. Сделав большой круг, чтобы избежать опасного места, я вскоре был выше его. После часа я уже достиг двадцати одной тысячи футов над уровнем моря. К моей великой радости, моя летательная машина вышла из полосы бури. С каждой сотней футов воздух становился спокойнее. Но стало очень холодно, и я уже испытывал ту особую дурноту, которая возникает вместе с разрежением атмосферы. Я развинтил мою кислородную подушку и вдохнул живительный газ; точно подкрепляющий напиток, пробежал он по моим жилам, и я почувствовал ликование, почти опьянение. Поднимаясь в холодный, тихий, далекий мир, я кричал и пел.








