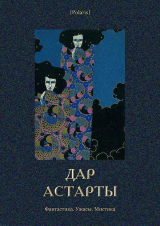
Текст книги "Дар Астарты: Фантастика. Ужасы. Мистика (Большая книга)"
Автор книги: Коллектив авторов
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 43 страниц)
– Мне кажется, я уже сообщил вам: барон фон X. располагает многими миллионами, – серьезно ответил Лезельизотт. – Поэтому он заставляет запирать других людей, если они ничего не имеют против этого.
– И в чем же состоит его навязчивая идея? – спросила Сусанна. – Я должна вам признаться, что нашла этого господина весьма привлекательным.
– Вы, вероятно, перемените мнение о нем, – возразил доктор и закурил папиросу.
Лучи рассвета проникли в комнату, пламя восковых свечей потускнело, огонь в камине догорел.
Мы были угнетены тем, что услышали, – точно на нас навалились Альпийские горы. Доктор Лезельизотт не был человеком, способным на мистификацию. Он сообщил нам одну только голую правду, столь же несомненную, как ужасная машина, которую сооружали на площади неподалеку от нас.
Он отхлебнул глоток мадеры и продолжал:
– Едва достигнув совершеннолетия, этот серьезно настроенный молодой человек отправился путешествовать. Он побывал в Индии, исколесил по всем направлениям Азию. В этих путешествиях надо искать причину его таинственного заболевания. Во время какого-то восстания на Дальнем Востоке, ему привелось присутствовать при одной из казней, которым подвергают, по суровым законам тех стран, бунтовщиков и преступников. Сначала он сделал это просто по некоторому, свойственному многим путешественникам любопытству.
Но вид казненных, как можно догадываться, пробудил в нем чувство жестокости, превзошедшее все известные ранее пределы, затуманившее его сознание, отравившее кровь и превратившее его, наконец, в того человека, которым он теперь сделался.
Представьте себе, что могло совершить всемогущество денег барона фон X. в старых тюрьмах главных городов Персии, Китая и Тибета! Сколько раз удавалось ему добиться от правителей ужасной милости – выполнить казнь вместо обычного палача! Вы знаете отвратительный эпизод с сорока фунтами вырванных глаз, поднесенных на двух золотых блюдах персидскому шаху Насср-Эддину в день торжественного въезда в один завоеванный город? Барон, в одежде туземца, потрудился усерднее всех при изготовлении этой страшной гекатомбы. Казнь двух зачинщиков восстания, пожалуй, была еще более жестокой. Согласно приговору, им должны были вырвать все зубы; затем эти зубы надлежало вбить молотком в гладко выбритые для этой цели черепа и притом так, чтобы зубы составили имя прославленного Фет-Али-шаха.
И опять-таки наш любитель, пустив в ход мешки с рупиями, добился разрешения осуществить эту пытку со всей свойственной ему преднамеренной неловкостью.
Можно задать себе вопрос, кто безумнее, – тот, кто предписывает такие казни или тот, кто их выполняет? Вы возмущены? А между тем, если вздумается такому индийскому властителю поехать в Париж, мы будем чувствовать себя польщенными! Мы будем жечь в его честь фейерверки, расцвечивать улицы флагами, расставлять солдат шпалерами…
Но не стоит больше говорить об этом! Если верить докладам капитанов Гоббси и Эджимсона, утонченная жестокость, которую проявлял в таких случаях барон фон X., превосходила все ужасы и гнусности Тиверия и Гелиогабала; ничего равного нельзя найти в летописях человечества.
Доктор Лезельизотт остановился и взглянул на каждого из нас с явно насмешливым видом.
Мы так внимательно слушали его, что наши папиросы погасли.
Доктор продолжал:
– Барон фон-Х. вернулся затем в Европу. Он чувствовал себя в некотором роде пресыщенным, так что почти можно было надеяться на его выздоровление. Но это продолжалось недолго; вскоре прежнее безумие овладело им вновь, зажигая в его крови как бы горячечный жар. Он имел лишь одно желание, преследовал лишь одну цель, но она была ужаснее и жестче самых изысканных измышлений маркиза де Сада. Он стремился, ни более ни менее, как к тому, чтобы подучить патент на звание генерального палача всех столиц Европы. Он предлагал принять во внимание, что может поручиться за добросовестность, искусное и даже художественное исполнение соединенных с таким званием обязанностей. Во многих прошениях, которые он писал, предлагая свои услуги, он обещал, – в случае, если власти удостоят его доверия, – извлечь из осужденных такие стоны, какие еще никогда не оглашали тюремных сводов!
Еще одна особенность! Когда в его присутствии говорят о Людовике XVI-ом, глаза его загораются безграничной ненавистью. Людовик XVI-й был первым монархом, в свое время заговорившим об отмене смертной казни; поэтому, вероятно, это – единственный человек, когда-либо возбуждавший ненависть в бароне фон X.
Прошения его, как и следовало ожидать, возвращали ему с отказом, и он обязан лишь ходатайствам своих наследников, что его не засадили, как бы следовало, в сумасшедший дом. В завещание его отца, покойного барона фон X., включены некоторые пункты, заставляющие семью оберегать сына от гражданской смерти во избежание огромных денежных убытков. Таким образом, человек этот продолжал скитаться на свободе! Он отлично ладит с исполнителями приговоров. Куда бы он ни приехал, всюду он первым делом наведывается к ним. Он имеет обыкновение платить им значительные суммы, когда палачи соглашаются уступить ему свое место при совершении казни, и я думаю, – добавил доктор, хитро подмигнув глазом, – что ему не раз удавалось добиться такой подмены и в Европе!
В одном отношении его безумие ограничено точными пределами: он интересуется лишь людьми, осужденными на смерть законно состоявшимся приговором. Если не принимать в соображение этого душевного расстройства, барон фон X. может быть признан и пользуется репутацией весьма развитого и любезного собеседника.
Однако, для немногих посвященных в его двусмысленном дружелюбии всегда сквозит ужасное безумие.
Он часто с увлечением говорит о Востоке, куда намерен возвратиться. Невозможность добиться диплома на звание всемирного генерального палача глубоко огорчила его. Ему мерещатся грезы Торквемады, Арбуэца, герцогов Альба или Йоркского. Мономания все больше овладевает всеми его помыслами. Где бы ни готовилась смертная казнь, он немедленно получает известие от своего тайного агента, и обыкновенно раньше, чем успевают узнать сами палачи. Он поспешает, летит туда и всегда находит занятым для себя место у самого подножия эшафота. И в настоящую минуту он там. Он не мог бы спокойно заснуть, если бы не уловил последнего взора осужденного. Вот каков, господа, человек, в обществе которого вы имели честь находиться в эту ночь! Я могу еще добавить, что, независимо от своих необычайных особенностей, он в светском обращении безупречен, находчив и остроумен, как собеседник, и…
– Довольно! перестаньте! – воскликнули Антони и белокурая Клио, на которых насмешливые слова доктора произвели чрезвычайно глубокое впечатление.
– Это поклонник гильотины, опьяняющийся муками ее жертв! – прошептала Сусанна.
– Положительно, если бы я не знал вас, любезный доктор, я бы…
– Вы не поверили бы мне, – перебил моего приятеля С. доктор Лезельизотт. – Я сам долго не верил. Но, если вы хотите, мы можем пойти туда проверить. У меня есть пропускные билеты. Несмотря на расставленные кордоном войска, нас туда пропустят беспрепятственно. Я попрошу вас только наблюдать за его лицом во время казни, – вот и все. После этого вы перестанете сомневаться в моих словах.
– Весьма благодарен вам за любезное приглашение! Я предпочитаю, в таком случае, на слово поверить всему, что вы рассказали, – как ни ужасны приведенные вами факты!
– Да, нечего сказать, славная штучка этот ваш господин барон, – сказал доктор, пододвигая к себе тарелку с крупными раками, каким-то чудом уцелевшими до него.
Заметив, что мы все притихли, он добавил:
– Напрасно вы принимаете так близко к сердцу мои слова. Столь потрясающее впечатление производит, в сущности, лишь необычайность этой мономании. Во всех других отношениях этот маньяк ничем не отличается от прочих сумасшедших. Вы могли бы узнать о почти столь же странных иных заболеваниях. Могу вам поклясться, что все мы, среди белого дня и в любое время, ничего не подозревая об этом, соприкасаемся с людьми, более или менее одержимыми безумными представлениями.
– Дорогой друг, – сказал С. после продолжительного молчания, – я должен откровенно сознаться, что меня нисколько не взволновало бы соприкосновение с таким человеком. Само собой разумеется, однако, что я не стал бы искать встречи с ним. Но если бы она произошла сама собой, я могу поручиться, – и Лезельизотт подтвердит мои слова, – что вид и даже сообщество человека, избравшего для заработка столь ужасную профессию, вовсе не произвели бы на меня отталкивающего впечатления. Я в этом отношении настроен весьма прозаично.
Но вид человека, столь низко павшего, что он приходит в отчаяние, потому что не может по праву выполнять такие обязанности, – да, это, действительно, производит на меня впечатление! И я не колеблясь признаю, что если есть духи, вырвавшиеся из преисподней, чтобы блуждать среди нас человеческими оборотнями, наш сегодняшний гость принадлежит к числу самых худших, каких только можно встретить. Вы называете его сумасшедшим, но это вовсе не оправдывает столь извращенной натуры. Настоящий палач не произвел бы на меня никакого впечатления, – этот же страшный сумасшедший поразил меня безграничным ужасом.
После этих слов водворилось тяжелое молчание. Казалось, точно сама смерть появилась среди нас.
– Я чувствую себя не совсем хорошо, – сказала белокурая Клио. Нервное возбуждение и холодок утренних сумерек придали ее голосу разбитый, тусклый звук. – Поедемте все в мою виллу. Попытаемся вместе забыть там это печальное приключение. Дорогие друзья, поедемте все со мной. Вы найдете приготовленными для себя ванны, удобные спальни, экипажи и лошадей. – Она сама едва понимала, что говорила. – Вилла посередине Булонского леса; не пройдет и двадцати минут, как мы будем там. Пожалуйста, поймите меня правильно: мысль об этом человеке делает меня больной; если бы мне пришлось остаться одной, я боялась бы, что он в любой момент войдет ко мне со свечой в руке и с приторной улыбкой на губах, от которой у меня пробегает дрожь по всему телу.
– Да, мы провели необычайную ночь, – сказала Сусанна Джексон.
Лезельизотт покончил со своими раками и с довольным видом вытирал губы. Мы позвонили. Явился Жозеф. Пока мы расплачивались, шотландка шепнула Антони:
– Маленькая Изольда! Не следует ли тебе кое-что сказать Жозефу?
– Да, – ответила красивая, совершенно бледная девушка, – ты отгадала мое намерение.
Затем она обратилась к старшему гарсону:
– Жозеф, возьмите себе это кольцо. Рубин в нем кажется мне слишком темным. Не правда ли, Сусанна? Он имеет такой вид, точно в эти бриллианты оправили каплю крови. Продайте кольцо и раздайте вырученную сумму бедным, которые будут проходить мимо ресторана.
Жозеф взял кольцо, низко поклонился и вышел распорядиться, чтобы подавали экипажи. Дамы стали приводить в порядок свои туалеты, накинули на себя длинные черные шелковые домино и снова надели свои маски.
Пробило шесть часов.
– Подождите немного, – сказал я и указал на стоячие часы. – Этот час делает всех нас несколько причастными безумию этого человека. Поэтому не откажем и ему в сострадании. Разве в это мгновение мы не проявляем почти столь же беспощадную жестокость?
После этих слов наступило глубокое безмолвие.
Сусанна посмотрела на меня, быстро повернулась и широко распахнула окно.
На всех колокольнях Парижа часы выбивали шесть.
После шестого удара мы все содрогнулись. Взор мой упал на голову бронзового демона с искаженными чертами, разделявшую на две половины кроваво-красную волну пурпурной драпировки.
Огюст Вилье де Лиль-Адан
ТАЙНА ЭШАФОТА
Состоявшиеся недавно смертные казни напоминают мне совершенно необычайный случай, который я сейчас опишу.
Вечером 5-го июня 1864 года, около семи часов, доктор Эдмон-Дезире Кути де ла Поммере, только что перевезенный из тюрьмы Консьержери в тюрьму Ла-Рокет, сидел в камере, предназначенной для приговоренных к смерти; на нем была надета смирительная куртка.
Безмолвно, устремив взор в пространство, откинулся он на спинку своего стула.
Стоящая на столе свеча освещала его бледное, точно застывшее лицо.
В двух шагах от него, прислонившись к стене и не сводя с него глаз, стоял часовой.
Почти все арестанты принуждены выполнять ежедневно работу, из скудной платы за которую тюремное управление вычитает стоимость савана, не включенного в список обязательных расходов. Только приговоренные к смерти освобождаются от этой обязанности.
Кути де ла Поммере не принадлежал к числу людей, выдающих внешним видом свои чувствования; взор его не обнаруживал ни страха, ни надежды.
Ему было около тридцати четырех лет; брюнет, среднего роста и стройного телосложения, он лишь за последнее время стал слегка седеть около висков. Глаза его имели нервное выражение и были наполовину прикрыты веками; у него был лоб мыслителя. Голос его звучал сухо и сдавленно. Руки были длинны и нервны. Лицо носило отпечаток некоторой самоуверенности. Манеры не были лишены известного заученного изящества. Такова была внешность приговоренного к смерти.
Знаменитому адвокату Ланю, при разбирательстве процесса доктора Кути де ла Поммере перед уголовным судом департамента Сены, не удалось рассеять тройного тягостного впечатления, произведенного на присяжных заседателей обвинительным актом, допросом свидетелей и речью прокурора, господина Оскара де Налле.
Доктор Эдмон Кути де ла Поммере обвинялся в том, что с целью обогащения и с полной предумышленностью отравил постепенно увеличиваемыми приемами растительного яда одну расположенную к нему даму, госпожу де Пов.
Присяжные заседатели признали его виновным и, на основании параграфов 301 и 302 кодекса Наполеона, он был приговорен к смертной казни через обезглавливание.
Вечером 5-го июня 1864 года он еще не знал, что его кассационная жалоба, равно как и ходатайство его родных об аудиенции у императора, на которой они хотели умолять о его помиловании, были бесповоротно отклонены. Защитник Кути де ла Поммере был счастливее, – ему удалось добиться доступа к императору. Но Луи-Наполеон выслушал его невнимательно. Даже почтенный аббат Крозе, поспешивший до казни посетить дворец Тюльери, чтобы испросить помилование приговоренному, принужден был удалиться, не получив никакого ответа.
Если бы даже при таких условиях не была применена смертная казнь, – не было ли бы это равносильно полной ее отмене? Необходимо было преподать устрашающий пример.
Так как, по мнению суда, не могло быть и речи о пересмотре процесса и следовало ожидать в любой момент подписания приказа о приведении приговора в исполнение, то палач был извещен, что девятого числа, в пять часов утра, осужденный будет передан в его руки.
Вдруг послышался стук ружейных прикладов, опущенных часовыми на каменные плиты ведущего к камере коридора. Ключ заскрипел в заржавленном замке. Дверь раскрылась; штыки блеснули в полумраке. На пороге появился директор тюрьмы Рокет, господин Бокен, сопровождаемый каким-то посетителем.
Кути де ла Поммере поднял голову и с первого же взгляда узнал в этом посетителе знаменитого хирурга Армана Вельпо.
По знаку директора тюрьмы, часовые удалились. Безмолвно представив заключенному гостя, вышел из камеры и господин Бокен.
Товарищи остались наедине. Они испытующе смотрели в глаза друг другу.
Де ла Поммере молча предложил хирургу свой стул, а сам сел на койку, сон на которой обыкновенно прерывается внезапно…
Так как было довольно темно, знаменитый врач близко наклонился к… больному, – чтобы можно было лучше наблюдать его и беседовать вполголоса.
Арману Вельпо в то время исполнилось уже шестьдесят лет. Слава его достигла своего зенита, он унаследовал академическое кресло Ларрея и был первым и самым выдающимся из профессоров хирургической клиники в Париже. Его сочинения отличались убедительной ясностью и живостью изложения; признанный, благодаря им, светилом патологической науки, он и в качестве практикующего врача считался одним из самых выдающихся авторитетов своего времени.
Прошло несколько мгновений удручающего безмолвия.
– Врачи между собой, – начал, наконец, говорить Вельпо, – должны избегать бесполезного сострадания. Кроме того, я сам страдаю неизлечимой болезнью желез, которая неизбежно через два, самое позднее – через два с половиной года должна свести меня в могилу. Таким образом, хотя роковой час может наступить для меня несколько позднее, тем не менее, я все-таки считаю себя приговоренным к смерти. Поэтому я хочу, без дальнейших оговорок, приступить к изложению того, что привело меня сюда.
– Судя по вашим словам, доктор, положение мое безнадежно? – перебил его де ла Поммере.
– Можно опасаться, – просто ответил Вельпо.
– Назначен ли день моей казни?..
– Я не знаю этого; но, так как пока ничего не известно относительно вашей участи, то вы можете еще с достоверностью рассчитывать на несколько дней.
Де ла Поммере отер рукавом смирительной куртки холодный пот со своего лысого лба.
– Ну, что ж! Я приготовился, я ожидал этого; чем скорее, тем лучше.
– Во всяком случае, так как доныне ничего в точности не известно относительно вашей участи, то предложение, ради которого я сюда явился, само собой разумеется, является лишь условным… Если вас помилуют, тем лучше!.. Если же нет…
Великий хирург не договорил своей мысли.
– Если же нет, то?.. – спросил де ла Поммере.
Вельпо, не отвечая, сунул руку в карман, вытащил небольшой футляр с хирургическими инструментами, открыл и, взяв ланцет, слегка надрезал рукав куртки де ла Поммере у сгиба левой руки; затем он пощупал пульс у приговоренного к казни.
– Господин де ла Поммере, – сказал он после этого, – ваш пульс показывает мне, что вы обладаете редким хладнокровием и твердостью духа. Сообщение, которое я хочу вам сделать и которое, во всяком случае, должно быть сохранено втайне, сводится к просьбе, которая может показаться не только неуместным, но, пожалуй, и преступным издевательством даже врачу с вашей энергией, столь глубоко проникшему в тайны науки и давно отделавшемуся от всякого страха перед смертью. Думается мне, однако, что мы знаем друг друга. Поэтому я рассчитываю, что вы подвергнете мои слова обстоятельному обсуждению, хотя бы они и произвели на вас сначала удручающее впечатление.
– Обещаю вам отнестись к ним с полным вниманием, – ответил де ла Поммере.
– Вы знаете, – продолжал Вельпо, – что современная физиология считает одной из своих интереснейших задач – установить, сохраняется ли какой-либо след памяти, восприимчивости или ощущения в мозгу человека, голову которого отделили от тела.
При этом неожиданном вступлении приговоренный к смерти содрогнулся всем телом; сдержав себя, однако, он произнес совершенно спокойным тоном:
– Когда вы вошли ко мне, доктор, я как раз был занят этою проблемой, – которая, как вы согласитесь, представляет именно для меня двойной интерес.
– Ознакомлены ли вы с написанными по этому вопросу новейшими работами Зеймеринга, Сю, де Седилло и де Биша?
– Да, конечно. Я даже присутствовал при вскрытии тела одного казненного.
– Ах, не будем больше говорить об этом! Имеете ли вы совершенно точное с хирургической точки зрения представление о гильотине и ее действии?
Де ла Поммере бросил долгий, испытующий взор на Вельпо и холодно ответил:
– Нет, доктор.
– Я не далее, как сегодня, самым научным и точным образом исследовал эту машину, – невозмутимо продолжал говорить Вельпо, – и я могу засвидетельствовать, что этот инструмент – само совершенство.
Ниспадающий нож-секира действует одновременно как серп и как молот, разрубая шею пациента в треть секунды. Обезглавливаемый столь же мало способен ощутить боль от молниеносно-быстрого, мощного удара, – как солдат на поле битвы, у которого ядро внезапно отрывает руку. Недостаток времени сводит к нулю, совершенно уничтожает всякое восприятие.
– Но, быть может, болевое ощущение возникает после операции? Остаются две зияющие на здоровом теле, свежие, большие раны. Кажется, Юлия Фортенель, приводя ряд доказательств, задается вопросом, не влечет ли за собой именно эта стремительность более болезненных последствий, чем казнь посредством меча или топора?
– И Берар высказывает такое же предположение, – ответил Вельпо. – Я же твердо убежден, опираясь на более чем сто случаев и собственные тщательные наблюдения, что всякое болевое ощущение исчезает в то же самое мгновение, как голова отделяется от туловища. Внезапное прекращение деятельности сердца, наступающее тотчас же вследствие потери от четырех до пяти литров крови, заливающей нередко на целый метр все окружающее пространство, должно было бы само по себе успокоить в этом отношении самых пугливых. Что касается бессознательных конвульсий тела, жизненные отправления которого были прекращены столь внезапно, то они вовсе не являются признаками продолжающегося болевого ощущения, – они столь же мало свидетельствуют о нем, как подергивания отрезанной ноги, нервы и мускулы которой сокращаются, не причиняя никакого ощущения. Я полагаю, что единственно ужасны и мучительны при этой церемонии лихорадочная нервность, сопряженная со страхом неведомого, торжественность роковых приготовлений и неожиданное пробуждение от утренней дремоты. Самой казни вовсе не чувствуют, предполагаемая боль есть не что иное, как призрак воображения! Если сильный удар по голове не только вовсе не ощущается, но даже не оставляет после себя ни малейшего воспоминания, если простое повреждение спинного хребта влечет за собой временную утрату чувствительности, неужели отделение головы, пересечение позвоночника, устранение органической связи между сердцем и мозгом недостаточны, чтобы лишить человеческое существо всякой восприимчивости, чтобы избавить его от малейшего ощущения боли? Иначе быть не может! И вы знаете это не хуже меня.
– Я надеюсь даже, что мне это еще лучше известно, – возразил де ла Поммере. – Поэтому меня пугает вовсе не сильная физическая боль, едва ощутимая при этой ужасной катастрофе и немедленно заглушаемая внезапно наступающей смертью. Нет, я боюсь совсем иного.
– Не попытаетесь ли вы пояснить, что именно внушает вам страх? – спросил Вельпо.
– Выслушайте же меня, – ответил де ла Поммере, немного помолчав. – Мы знаем, что органы памяти и воли, если они расположены в той же стороне головного мозга, как это установлено относительно, например, собак, вовсе не бывают затронуты перерубающим ножом.
Мне известен целый ряд сомнительных и в высшей степени тревожных случаев, которые доказывают, что обезглавленный, после казни, далеко не вполне утрачивает сознание. Существует легенда, что отделенная от позвоночника голова, если к ней обратятся после казни с вопросом, смотрит на спрашивающего. Неужели такое действие может быть подведено под понятие непроизвольного или так называемого рефлекторного нервного движения?
Вспомните тот случай в брестской клинике, когда голова матроса, через час с четвертью после того, как была отделена от шеи, крепко стиснув челюсти, перегрызла положенный между зубами карандаш? Но это лишь один пример из тысячи. Единственный вопрос, о котором в данном случае может быть речь, состоит в том, чтобы установить, может ли, после прекращения гематоза (кровевыделения), влиять на мускулы обескровленной головы то, что я назову индивидуальным самосознанием, т. е. «я» человека?
– «Я» живет лишь в совокупности нерасторгнутого человеческого тела, – сказал Вельпо.
– Хребетный мозг есть лишь продолжение малого мозга, – возразил де ла Поммере.
Где же пребывает человеческий дух? Кто дерзнет разоблачить эту тайну? Не пройдет и восьми дней, как я в точности узнаю это – и тотчас же забуду.
– Быть может, зависит от вас, чтобы человечество раз навсегда покончило с этим вопросом, – медленно ответил Вельпо, пристально смотря на осужденного. – Я именно за тем и пришел сюда, чтобы поговорить об этом.
Я послан к вам представителем наших наиболее выдающихся товарищей по парижскому медицинскому факультету. Вот подписанный императором приказ, благодаря которому мне предоставили свободный доступ к вам. Он дает весьма широкие полномочия, достаточные даже для того, чтобы, в случае необходимости, отсрочить вашу казнь.
– Изложите ваше намерение яснее, я перестал понимать вас, – ответил взволнованным голосом де ла Поммере.
– Я обращаюсь к вам, господин де ла Поммере, во имя науки, которая так безгранично дорога нам обоим, и мученики которой неисчислимы. Хотя мне самому представляется по меньшей мере сомнительным, чтобы возможно было осуществить предположенное соглашение с вами, тем не менее, я пришел сюда, чтобы испросить у вас величайшего проявления силы воли и мужества, которое доступно человеку. Если ваше ходатайство о помиловании будет отвергнуто, вам, как врачу, придется самому подвергнуться наиболее ужасной операции, какая вообще существует. Человеческое знание обогатится неоценимым приобретением, если такой человек, как вы, согласится попытаться дать нам сообщение после совершения казни, – хотя бы, как можно предполагать, с почти полной достоверностью, результат такого опыта оказался отрицательным.
Допустив, что подобная попытка не представляется вам в самом принципе своем нелепой, мы приобретем все-таки некоторый шанс почти чудесным образом осветить современную физиологию. Нельзя пренебречь возможностью сделать такой опыт, – и в случае, если бы оказалось, что вам удастся после казни обменяться с нами условленным проявлением сознательности, вы создадите себе столь громкое имя, перед научной славой которого совершенно померкнет воспоминание о вашем общественном проступке.
– Ах, – прошептал де ла Поммере, мертвенно побледнев и скорбно улыбаясь, – ах, я начинаю теперь понимать вас! В самом деле, Мишело учит нас, что посредством казней может быть разоблачена тайна обмена веществ! Итак, – какого же рода эксперимент вами надуман? Гальванические токи? Раздражение ресниц? Впрыскивания крови? Но все эти опыты малодоказательны.
– Само собой разумеется, что, как только печальная церемония будет закончена, ваши останки будут мирно преданы земле, – никакой из наших скальпелей не прикоснется к ним. Но в тот момент, когда нож машины упадет, я буду стоять прямо против вас. Палач как можно быстрее поспешит передать мне вашу голову. Тогда – опыт столь многозначителен именно по своей чрезвычайной несложности – я крикну вам на ухо: «Господин де ла Поммере, можете ли вы в это мгновение, согласно заключенному нами при вашей жизни условию, трижды поднять и снова опустить веко вашего правого глаза, оставляя другой глаз широко раскрытым?» Если, независимо от остальных возможных в этот момент конвульсий вашего лица, вы окажетесь в состоянии трижды произвольно мигнуть вашим глазом, чтобы доказать нам, что слышали и поняли мои слова, вы засвидетельствуете этим, что в силу своей энергии и памяти остались господином приводящих веко в движение мышц и нервов скуловой кости и соединительных покровов. Этим вы окажете огромную услугу науке и опровергнете все наши прежние наблюдения. И прошу вас не сомневаться, что я позабочусь о том, чтобы ваше имя сохранилось в потомстве не как имя преступника, а как имя героического подвижника науки!
Де ла Поммере, по-видимому, был глубоко потрясен необычайной просьбой; он сосредоточенно и с широко раскрытыми глазами смотрел на хирурга. Как бы оцепенев на несколько минут в недвижном безмолвии, он вдруг поднялся с койки и стал медленно шагать из угла в угол по камере, скорбно покачивая головой.
– Страшная сила удара лишит меня возможности исполнить ваше желание, – наконец, произнес он. – Мне кажется, что осуществление вашего плана превосходит человеческие силы. Кроме того, надо принять в соображение, что жизненная сила обезглавленных гильотиной не одинакова. Во всяком случае, придите еще раз в день казни. Только тогда я отвечу вам, готов ли я подвергнуться этому страшному и, быть может, обманчивому испытанию. Если я уклонюсь, то позволю себе рассчитывать на ваше молчание; и, не правда ли, вы позаботитесь о том, чтобы моя голова могла спокойно испустить всю свою кровь в предназначенное для этой цели жестяное ведро?
– До скорого свидания, господин де ла Поммере, – сказал Вельпо, также поднимаясь со своего места, – обдумайте наше предложение.
Они поклонились друг другу.
Мгновение спустя доктор Вельпо вышел из камеры, в которую вернулся сторож, а приговоренный к смерти тихо улегся на койку, – чтобы заснуть или погрузиться в размышления.
* * *
Четыре дня спустя, в 5 ½ часов утра, в камеру вошли директор тюрьмы Бокен, аббат Крозе и чиновники императорского судебного управления Клод и Потье.
Внезапно пробужденный от сна, де ла Поммере тотчас же понял, что роковой час настал; он поднялся очень бледный со своей койки и стал быстро одеваться.
Затем он тихо говорил в течение почти десяти минут с аббатом Крозе, уже многократно навешавшим его в тюрьме.
Этот святой человек, как известно, был воодушевлен проникновенной любовью к Богу и человечеству; ему удавалось поддерживать и утешать приговоренных к смерти в последние часы их жизни.
Увидев приближающегося доктора Вельпо, де ла Поммере обратился к нему и сказал:
– Я упражнялся и уже приобрел навык, – посмотрите.
И в то время, пока читали приговор, он держал правый глаз закрытым, пристально смотря на хирурга широко раскрытым левым глазом.
«Туалет» осужденного был закончен быстро. Присутствующие обратили внимание, что волосы де ла Поммере не поседели, как только к ним прикоснулись ножницы, – что наблюдалось обыкновенно при снаряжении других приговоренных к смертной казни.
Когда затем аббат прочел ему, понизив голос, прощальное письмо от жены, из глаз де ла Поммере брызнули горячие слезы. Сострадательный аббат нежно осушил их вырезанным из рубашки осужденного лоскутом.
Когда ему набросили на плечи плащ и он приготовился идти, зазвенели ручные кандалы. Де ла Поммере отказался от предложенного ему стакана водки, и печальная процессия двинулась в путь. Когда она достигла портала тюрьмы, осужденный отыскал глазами доктора Вельпо, поклонился ему и тихо произнес:
– До скорого свидания – и прощайте.
Железные ворота вдруг распахнулись и пропустили процессию.
В тюрьму повеяло холодным утренним ветром. Чуть брезжило; широко раскинувшийся двор тюрьмы был оцеплен двойным кордоном кавалерии. Напротив, на расстоянии десяти шагов, виднелись расположившиеся полумесяцем конные жандармы, при появлении печальной процессии выхватившие из ножен свои сабли. На заднем плане возвышался эшафот. В некотором отдалении стояли представители печати, почтительно обнажившие свои головы.








