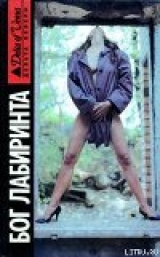
Текст книги "Бог лабиринта"
Автор книги: Колин Уилсон
Жанры:
Эротика и секс
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 24 страниц)
А теперь перейдем к следующему аспекту аргументации. Я уже отмечал, что Томас Манн и Олдос Хаксли также участвовали в этой борьбе между материальным миром и человеческим разумом, но они терпели поражение в этом извечном противоборстве, были пораженцами. Лично я нахожу Хаксли почти таким же унылым и наводящим тоску писателем, как, скажем, Грэм Грин, потому что в их произведениях победа почти всегда остается на стороне материального мира, хотя Г.Грин на словах говорит о жизнеутверждении, но этот тезис до конца никогда не проводится в его книгах. Его положительные герои всегда неприятные и глупые, его тонко чувствующие люди всегда слабые. То же самое относится и к Томасу Манну, но его «объективность» делает это менее гнетущим.
Отрицание жизни, являясь непременным и существенным элементом порнографии, не ограничено только ею. Естественно возникает проблема: насколько обратное утверждение истинно. Возможна ли порнография, в которой отсутствует отрицание жизни?
Эта проблема более важная, чем кажется на первый взгляд. Эта проблема нравственности и безнравственности, здоровья и упадка волнует человечество вот уже свыше столетия начиная со спора Золя с Ибсеном в 80-е годы XIX века. Аргументы с двух сторон, в общем, одинаковые. Еще в 1782 году Томас Джефферсон писал: «Те, кто трудится на земле, – истинные избранники Бога… Моральное разложение среди земледельцев – явление, не известное ни одному веку и ни одной нации». Подобное примитивное общество, как здоровое тело, автоматически не приемлет «разложения». Когда же появляются в обществе «сомневающиеся», нездоровые, испорченные люди, это означает, что наступает эпоха декаданса. Если мое физическое тело подвержено воздействию бацилл, я постараюсь вылечить его и изгнать микробы, и, конечно же, не восприму такое болезненное состояние как интересную вариацию скучной рутины быть здоровым человеком. Подобной точки зрения придерживался Макс Нордау в книге «Вырождение» (1893 год). Декаданс должен быть признан явлением крайне нежелательным и ненормальным. Против подобной точки зрения на декаданс выступал Шоу в статье «Святость искусства», имевшей подзаголовок «Разоблачение сегодняшней бессмыслицы, будто художники вырождаются». Вся аргументация Шоу сводится к короткой фразе: «не вырождение, а развитие». Томас Манн, выступивший в это время со своими первыми рассказами, занял менее позитивную позицию (которой он придерживался всю свою жизнь): становясь более утонченным, искусство развивается и вырождается; с его точки зрения, эволюция означает вырождение. То же самое утверждал и Шпенглер в своем фундаментальном труде «Закат Европы».
Шоу категорически не согласен с подобными взглядами. Он писал: «Конечно, эволюция может выражать вырождение, если чувствительность победит жизненность. Но это не обязательно». И тут выясняется другая сторона проблемы, которую мы подняли. Манн и Хаксли были писателями, у которых чувствительность опережает жизненную энергию, в этом случае возможно – теоретически – увеличить жизненную силу, чтобы она пришла в соответствие с чувствительностью. Но ни один из них не верил в возможность этого. Но разве такое действительно невозможно? Предположим, у меня очень поверхностный и упрощенный взгляд на какую-то проблему, что неизбежно приводит к лобовому столкновению с реальностью. Должен ли я все время оставаться в таком состоянии? Очевидно, нет. Я делаю мозговое усилие и усваиваю свой жизненный опыт, анализируя его, раздумывая над ним, пока не осмыслю его полностью. После этого ко мне вернется уверенность, и жизненные родники забьют с новой силой и энергией: в конечном счете, пока снова не начнет нормально функционировать моя «пищеварительная система», о которой я уже говорил в связи с порнографией.
Эта точка зрения представляет собой альтернативу позиции Джефферсона, утверждавшего, что простота, здоровье и стабильность сосуществуют в единстве. Если нарушена стабильность, то это неизбежно отрицательно скажется на простоте и здоровье, но благодаря определенным усилиям и соответствующему оптимизму они могут быть восстановлены в своем единстве на более высоком уровне и мы получим настоящую эволюцию, в противоположность замшелому консерватизму и легкомысленному декадансу.
Из этого следует не только то, что порнография существует, когда имеется отрицание жизни, но и то, что порнография перестает быть таковой, когда появляются жизнеутверждающие мотивы. Подобный вывод кому-то может показаться абстрактным, но не мне, потому что для меня он имеет непосредственный практический интерес. Когда я начал писать свой первый роман – тогда мне не было еще двадцати лет, – меня заинтересовала проблема: что заставило Джойса выбрать «Одиссею» в качестве организующей структуры для его хаотичного романа о современном Дублине. Суть этой проблемы метафорически сформулирована в трех строчках Йетса:
Шекспирова рыба свободно гуляла в открытом море, вдали от земли;
Романтическая рыба попала в сети, хоть руками ее бери;
Но что это за рыбы, что бьются, открывая рты, на берегу?
Если перевести эти метафоры на прозаический язык, то все это означает следующее. Искусство Шекспира держало зеркало перед Природой, или, пожалуй, увеличительное стекло. Его основным элементом был сюжет. Конечно, характер героя важен, но только внутри сюжета. В романтическом искусстве сам характер стал основой сюжета. Вертер Гете, Оберман Сенакура, Гиперион Гельдерлина – не взаимозаменяемы, как Гамлет и Лир, потому что они неотделимы от сюжета произведения. Увеличительное стекло придвинулось вплотную, и теперь уже основным элементом стал характер, а не сюжет.
Если у вас есть сюжет, он может быть пересказан. Но характер должен быть прожит автором. Гете необходимо было стать Вертером и Вильгельмом Мейстером, чтобы написать соответствующие романы, но Шекспиру совершенно необязательно для создания своих гениальных трагедий переживать жизнь Гамлета или Лира. Если личность автора сливается с характером героя, то события в литературном произведении развиваются естественно, как у Гете; Вильгельм неизбежно становится директором театральной труппы, а Фауст – общественным благодетелем.
Но характер у романтиков всегда ясно очерченный. С развитием романтизма характер героя и личность автора отдаляются друг от друга, и постепенно теряется определенность человеческой индивидуальности героя – Вертер уступает дорогу Стивену Дедалусу, Мальте Лоридис Бриггу Рильке, Рокетину Сартра, Мерсо Камю, а у Франца Кафки появляется уже совершенно статичный герой, не имеющий даже имени собственного и скрывающийся под инициалом К. У рыбы не только не хватает сил плавать, но даже трепыхаться, у Беккета она уже просто задыхается, еле трепеща хвостом, выброшенная на берег. Правда, на передний план выступают отдельные детали и подробности – увеличительное стекло искусства уже в дюйме от носа рыбы, и сюжет исчезает начисто. А разве возможен роман без сюжета?
Решение Джойса для всех неприемлемо. И в самом деле, насколько мне известно, он единственный романист в мире, который успешно попробовал применить «мифологический метод». Роман перестал ставить и решать проблемы, он регрессировал до самых ранних своих форм и утратил завоеванное им место в духовном мире.
Драма также пережила подобный кризис в двадцатом веке. Она сперва впала в субъективизм, символизм, экспрессионизм и даже в своего рода нарочитый, преднамеренный кошмар в театре жестокости Артода. Именно Брехт предпринял попытку возобновить контакты с корнями драмы, с истоками ее возникновения и дальнейшего развития. Драма начиналась как зрелище, как история, рассказанная аудитории, которая понимала, что показываемое на сцене не является реальностью. Поэтому совершенно ни к чему соревноваться с кинематографом. Почему бы не извлечь преимущества из ограниченных рамок театра и не использовать тот реальный разрыв между аудиторией и актерами-исполнителями? Йетс обыграл эту идею, разрабатывая жанр театра ритуала, но только гений Брехта способен был соединить театр ритуала с лекторской кафедрой, а мюзик-холл – с импровизированной трибуной.
Я написал уже несколько романов, прежде чем понял, что неосознанно пытаюсь применить эффект отчуждения Брехта к жанру романа. Мой первый роман «Ритуал в темноте» я построил на основе египетской «Книги мертвых», но потом осознал, что если я намереваюсь использовать структуру, органически вытекающую из внутренней сущности сюжета, то с таким же успехом я мог бы обратиться к форме, которая могла бы дойти до простых, рядовых читателей. Поэтому я выбрал тему убийц-потрошнтелей и структуру психологического триллера. И тем не менее, в своей основе это все еще был реалистический роман в традициях Достоевского. В последующих произведениях я все более осознанно опирался на «эффект отчуждения», выбирая традиционные, популярные формы и стараясь достигнуть эффекта, близкого к пародии. В «Случае в Сохо» я опирался на плутовской роман, в «Необходимых сомнениях» – на полицейский роман, в «Мире насилия» я использовал форму романа воспитания с комическими обертонами, в «Паразитах сознания» и «Философском камне» – научную фантастику, в «Черной комнате» – шпионский роман, а в «Стеклянной клетке» снова обратился к детективному жанру.
И вот теперь письмо читателя, защищавшего меня от обвинения в порнографии, остро поставило передо мной проблему: можно ли использовать традиционный порнографический роман в духе Клеланда или Аполлинера в качестве организующей структуры и достигнуть того же эффекта отчуждения? Я попытался сделать нечто подобное в романе «Человек без тени» (название которого без моего согласия издатели изменили на «Сексуальный дневник Джерарда Сорма»), и я заметил, что обращение к сексу разрушает эффект отчуждения, так как читатель слишком увлекается этой тематикой. Хотя «Сексуальный дневник», собственно говоря, использует форму скорей не порнографического романа, а исповедального дневника, и представляет собой роман идей, включающий секс только как отправную точку. Чисто порнографический роман более строго формализован, гораздо строже, чем любой другой тип романа, который приходит мне на ум, – в нем есть что-то от символической жесткости балета, и это усиливает эффект отчуждения. Гораздо более сложная задача – вдохнуть жизнь в эту жесткую структуру, так как традиционный порнографический роман – возьмем, например, «Жюстину» – не что иное, как серия застывших, статичных картинок, связанных произвольным повествованием, как отдельные арии в операх Монтеверди. Я же более заинтересован как раз в сюжете и в идеях, чем в этих пикантных картинках. Я должен признаться, что с формальной точки зрения «Бог лабиринта» не подчиняется правилам порнографического романа или детектива – в частности, такого рода детектива, который культивирует в России Ираклий Андроников, хотя он во многом напоминает такого вида литературу. «Секта Феникса» развилась из намека, подсказанного Хорхе Луисом Борхесом. И если «Паразиты сознания» или «Философский камень» построены на мифологии Г.Ф.Лавкрафта, то настоящая книга базируется на мифологии Борхеса.
Успех или провал этого романа у публики не будет окончательным приговором для применения эффекта отчуждения в жанре романа. Я убежден, что ответ на проблему «шекспировской рыбы» и «современной рыбы», выброшенной на берег, лежит именно в эффекте отчуждения, независимо от того, успешно или неудачно он применен в данном конкретном случае. Но если этот роман выполнит эту задачу, то я еще больше укреплюсь в своем мнении о верности подобного метода.
Наконец, есть еще одна проблема, которой я касаюсь с некоторыми сомнениями и колебаниями по вполне понятным причинам. Когда мы переходим из детства в мир взрослых, то сталкиваемся с новыми областями жизни, которые недоступны и нежелательны для ребенка, начиная с употребления алкоголя и курения до занятий альпинизмом. Секс стоит особняком среди других областей жизни, так как к нему относятся как к своего рода тайне, будто он считается каким-то табу. До сих пор это встречается среди некоторых сохранившихся до нашего времени примитивных племен и патриархальных обществ, но для современной цивилизации, основная цель которой (что бы там ни утверждали мрачные историки) – «радость бытия и просвещение», все эти запреты кажутся анахронизмом. Эволюция западной цивилизации – это эволюция, прежде всего, разума, отказ от догматических и авторитарных тенденций в религии, а также, я надеюсь, и в политике. Подобная эволюция не прекратилась ни тогда, когда в Англии отказались от владычества Папы, ни тогда, когда во Франции Вольтер отверг христианство. Даже Ньюмен и оксфордские апостолы должны рассматриваться в русле этого же развития, настойчивого стремления более глубокого, острого, проницательного проникновения разума в осмысление метафизических потребностей человека. Фрейд вынужден был вести все ту же борьбу, отвергая социальные табу и умалчивания, отстаивая необходимость открытости, искренности, откровенности, широты и непредубежденности в отношении к сексу. То же самое делал и Д.Г.Лоуренс. Концентрационные лагеря нацистов могут рассматриваться как попытка возвратиться к более примитивным – и менее сложным – формам общественной жизни, когда все проблемы разрешались с помощью силы и догм, а не разума.
Я думаю, что развитие западной цивилизации базируется на важном гуманистическом постулате, верность которого подтверждена историей: разного рода «запреты» не оправдывают себя, хотя иногда в ограниченном масштабе они и приносят относительную пользу. Возьмем к примеру сексуальные убийства. Они совершаются, как правило, не теми, кто откровенно думает или говорит о сексе без ограничений, но людьми, у которых расстройство возникает на почве болезненного интереса к сексу как к чему-то запретному, тайному и соблазнительно загадочному. Запреты нельзя путать с дисциплиной, которая способствует большей свободе, ведь вышколенная армия подобна хорошо смазанной машине, которая функционирует без трения отдельных ее частей.
Если все это истинно – трудно найти благоразумного человека, отрицавшего бы это, – то взрослые люди способны относиться к сексу так же, как они относятся к другим областям человеческой жизни – к искусству, науке, спорту, приключениям и т. п. Когда я читал в детстве Райдера Хаггарда, то испытывал как отчужденность, так и увлеченность. Беспристрастность вызывалась тем, что я удобно устраивался в кресле и читал книгу, а увлеченность проистекала от захватывающих приключений Алана Куотермана в кишащих змеями джунглях. Отчужденность и увлеченность – существенные качества цивилизованной жизни. Но там, где касается секса, дело обстоит несколько иначе. Некоторые полагают, что мы прямо или косвенно увлечены только в кровати с партнером, или же вообще отчуждены. В этом есть элемент абсурдности. Большинство взрослых читателей знакомы на опыте с тем, что описано Клеландом или Лоуренсом, но, в отличие от жестокости и преступления, этот опыт считается социально нежелательным. Но существует ли на самом деле непроходимая пропасть между сексом и такими литературными темами, как история, приключения, спорт? Есть ли какое-нибудь разумное объяснение, почему цивилизованные взрослые люди не могут читать о сексе отстраненно, или даже с юмором, или, возможно, с увлечением? Если вы определяете какую-нибудь книгу «шокирующей» – конечно, если она не безобразная или злая, то, на мой взгляд, нужно «шокировать» как можно большую аудиторию, и тогда все станут смотреть на подобную книгу спокойно и неискаженно. В действительно цивилизованном обществе – а мы находимся на пути к нему – не должно быть ни запрещенных книг, ни запрещенных идей.
Колин Уилсон








