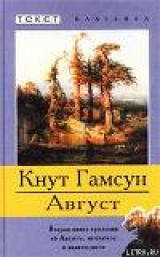
Текст книги "Август"
Автор книги: Кнут Гамсун
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 25 страниц)
Они настелили чердачные перекрытия, положили кровельное железо, и наконец-то перед ними стояло готовое здание, воздвигнутое с помощью угломеров и отвесов. Монумент в честь преодолённых трудностей.
А на дворе был май, светлые ночи и солнечные дни, зелёная трава и жёлтые одуванчики, молодая листва и птичий гомон, подножный корм для всей, недокормленной за зиму скотины.
Впрочем, в Поллене скотины почти не осталось. Правда, в лавке у Поулине до сих пор были развешаны по стенам всевозможные коровьи колокольчики, те, что она продавала полленцам, когда те ещё держали скот. А теперь лишь у старосты Йоакима осталось несколько коров, да в Новом Дворе, у Осии и Ездры, было целое стадо, но в самом Поллене – хоть шаром покати. Странно это выглядело и мрачно: на пастбище зелёная трава, а никто эту траву не ест. Везде, до самого Нижнего Поллена, где прежде весело звенели колокольчики, теперь не было слышно ни звука. Даже птицы и те больше не пели, потому что птицы всегда летали вслед за стадом и перекликались с колокольчиками, теперь же они улетели в другие края.
Для Эдеварта, который слоняется по воскресеньям без дела, это великая потеря. Он то посидит возле пяти осин, то опять начинает ходить. Тишина действует на него словно затычка в ухе, ему всё кажется, будто он что-то позабыл или будто время остановилось. Так странно, так пусто, забытая Богом местность.
Эдеварт, высокий и крепкий, из себя красивый и спокойный от полного равнодушия. Порой он мотает головой, будто задал самому себе какой-то вопрос и отрицательно на него ответил. В голове у него роится тысяча мыслей, но он не в силах понять их. Так он и ходит с каким-то душевным изъяном, и каждый вечер ложится в постель, и каждое утро встаёт с тем же изъяном, не пытаясь от него избавиться – настолько он отупел. Да что ж такого особенного с ним приключилось? Он подавлен, больше, собственно, по нему ничего не видно. Может, другой на его месте не изменился бы? Даже если все его жизненные устои зашатались, что с того? Он мог продолжать ту же жизнь, ведь живут же другие, те, что когда-то уехали из этой страны. Эка невидаль! И что ж тут такого, если человек лишился родины?
Итак, в голове у него роится тысяча мыслей, у него болит душа, но он ничего не может себе объяснить. Другие, те в полном ладу с самими собой, Август, к примеру, не может жить без какого-нибудь дела, у него есть тяга к жизни. Но он, Эдеварт, ничем не занят, нет для него такого дела, которое должно получиться, ему вообще на всё наплевать. Он вполне может сесть на холмик да так и сидеть безо всякого. Это ему по душе. Ему и вообще всё по душе, и хорошая погода и плохая, ему по душе тяжкая работа и праздность тоже, так же терпимо относится он и к людям, всё равно как к обеду, или к песне, или к прогулке в лес, терпимо – это значит равнодушно. Порой он улыбается – когда у него возникнет новая идея. Это он угадывает по собственному пульсу. Пульс бьётся. Он глядит на свои ногти, они стали такие длинные. Так что ж ему мешает жить? Разве он меняется в лице от какого-нибудь вопроса, или подарка, или новости? Вот как в тот раз, когда он вскрыл конверт, а там лежала двадцатидолларовая бумажка. Вот тогда он высоко поднял брови и прошептал что-то.
Возможно, он несколько раз шептал эти слова по ночам, а утром поднимался, и был такой же вялый, и ни о чём не тревожился, и даже не ответил на письмо, и даже не плюнул на себя самого.
Август с искренним и неизбывным интересом глядел на всё, что происходит в мире, для Эдеварта же гибель и процветание, смерть и жизнь были одинаково безразличны, ничто больше не имело смысла, и будьте здоровы.
Однажды он покинул страну и не вынес разлуки, не мог так же легко, как другие, относиться к резкому повороту судьбы. А воротясь в Поллен после своего пребывания за границей, он и здесь почувствовал себя таким же чужим.
Теперь у него наверняка родилась новая идея, потому что он улыбнулся, ещё раз глупо улыбнулся и прижал руку к сердцу. Бьётся, да-да, оно бьётся. Внутри, там, где сердце, тепло, от этого и рука становится тёплой, сердце – оно ведь не бывает холодное. Он вспоминает, как обходилось с ним это сердце давным-давно, в заброшенном местечке, которое зовётся Доппен. Это был такой зелёный залив, а на берегу маленькие домишки, и двое детей, и молодая женщина по имени Лувисе Магрете. Вспомнив это, он говорит: «Нет, нет» – и словно от боли качает головой. Он снова посылает туда свою любовь, он до сих пор не в состоянии до конца выбросить из головы это чудо, такое редкостное, проникающее до глубины души, где воедино смешались слёзы, и блаженство, и буйная сладость. Давным-давно это было, ах как давно! А сердце его бьётся до сих пор, оно тёплое, но любит оно только воспоминания.
И ладно. Если вдуматься, это была вполне обычная история, он и не считал её чем-то особенным, молча носил её в себе, ложился по вечерам, вставал на рассвете, а душевный изъян так и оставался при нём. В том, что с ним произошло, не было ничего особо примечательного.
Посидев долгое время и вроде как отдохнув, Эдеварт, всё такой же усталый, встал с места и отправился домой. Он наловчился избегать встреч с людьми, которые ходили в церковь послушать проповедь нового священника.
Вообще-то не играет особой роли, встретил он толпу прихожан или не встретил, но зато, избегая встреч, он избавляет себя от необходимости открывать рот для приветствия. Ему, пожалуй, следует пойти домой и пообедать, отчего же не пойти, но уж после обеда он засядет у себя в комнате и не будет заниматься решительно ничем. Вообще-то Август прав, когда говорит ему, что он умер, ну и что с того? А если Август очень даже живой что с того? Ни живому, ни мёртвому не принадлежит последнее слово...
За обеденным столом собрались все четверо. Йоаким побывал в Новом Дворе, Поулине – в церкви, каждый из них занят своими мыслями. Поулине прихватила с собой телеграмму от Августа, где речь идёт о станках дли фабрики, и как можно скорей, длинную, важную телеграмму насчёт габаритов и лошадиных сил, а к тому же – насчёт ещё одной, очень нужной машины, которая будет перерабатывать отходы производства в жир, рыбий жир. Август своими глазами видел такие машины на Нью-Фаундленде и поставил себе целью внедрять их всюду, где только можно, он возлагает на них большие надежды. Лишь бы машиностроительный завод понял смысл его телеграммы. Но вот ты, Поулине, ты ж её читала и всё поняла? Да, отвечает Поулине. Но между прочим, она так и не отправила телеграмму. Вернувшись домой, она сожгла её в печке.
Эдеварт сидит за столом молча.
– Ты где был? – спрашивает у него Поулине.
– Нигде, – отвечает он, – немножко погулял по выгону.
– Трава там, наверно, поднялась высоко-высоко.
– Да, но вот скотины там нет и колокольчиков тоже.
– Стыдобушка-то какая! Скотины, говоришь, нет?
– А стоит ли вообще держать скотину? – спрашивает Август.
Поулине, с внезапной яростью:
– Да уж лучше держать скотину, чем гноить траву!
– Всё равно не стоит, – утверждает Август, – вообще ничего не стоит, кроме заводов и фабрик.
– Было время, – говорит Поулине, – когда в Поллене слыхом не слыхали про голод. У нас все держали по нескольку коров, овец я уж и не считаю, а у некоторых, как, скажем, Каролус и Ане Мария, у тех и вовсе было четыре коровы. Но таких убогих семей, чтоб ни одной, – таких не было. Ну или, скажем, не корову, а четыре дойные козы. Было время, когда мы в Поллене не знали голода, а теперь...
В комнате воцарилась тишина, и дальше обед проходил в полном молчании. Йоаким хочет, чтоб ему передали миску с картофелем, но молчит, не просит, ждёт, когда кто-нибудь сам догадается.
На Поулине нахлынули приятные воспоминания.
– А ты помнишь, братец, как мы с тобой радовались в детстве, когда приходила мать и рассказывала, что корова отелилась?
Эдеварт:
– Помню.
– А ты, Йоаким, помнишь?
– Помню.
– Получался вроде как праздник. Мы тогда радовались куда больше, чем сейчас, хотя теперь у нас целых восемь коров и лошадей. Когда приходила мать и говорила нам про это. И на столе появлялись молоко и творог, и вообще молока для всех было сколько хочешь. А теперь похоже, что не так-то и важно, если у кого корова отелится. Уж и не пойму, но что-то здесь неладно.
Август:
– Если б всё это имело смысл, тогда бы на каждом дворе было много коров и можно было завести здесь и молочную ферму, и сыроварню, и сбивать масло, и вывозить молоко, масло и сыр. А всё остальное – это только чтобы набить собственную утробу, и вообще мелочь.
Поулине не сдаётся:
– Но в былые дни мы не знали нужды. У нас были и зерно, и картофель, и молоко, а во время путины мужчины выходили в море и привозили домой рыбу. Мы так хорошо жили, мы все, что не уставали каждый день благодарить Бога. А теперь!..
– Да-да, – говорит Август, – ты судишь на свой лад, каждый из нас судит на свой лад, а если, к примеру, взять меня, то я немножко больше повидал на этом свете, чем ты. И могу сказать тебе, что, если бы сюда приехал какой-нибудь иностранец, который побывал во многих странах, он бы только посмеялся, увидев, как вы тут сидите и доите двух своих коров или как вы прядёте пряжу из овечьей шерсти, вместо того чтобы сдать эту шерсть в факторию и получить взамен готовую ткань.
– Значит, твой иностранец посмеялся бы?
– Да ещё как!
– А мне надо о том горевать?
Август не сразу ответил. Но Поулине ничего не поняла, ни капельки. Она ещё пуще его раззадорила, продолжив свои речи:
– С чего это я стану думать о твоих иностранцах? Вот вы испугались бы его? – спрашивает она у братьев.
Йоаким хочет прекратить спор. Он уже и раньше слышал всё, что эти двое могут сказать друг другу.
– Ты не передашь мне миску с картофелем? – спрашивает он.
– Дело в том, – примирительно говорит Август, – что нам следует брать пример с заграницы. Другого пути нет. Мы должны брать пример, а не болтаться где-то в хвосте. Ты хочешь, чтоб мы были единственным народом, который ничему не может научиться?
– Мать научила меня прясть, – говорит Поулине, упрямо кивая головой.
Август:
– Ты говоришь точь-в-точь, как твоя сестра. Осия вот тоже сидит и ткёт материю на бельё. Это ж надо – будто ей больше делать нечего! Я ей посоветовал наведаться в лавку к родной сестре и купить готовое.
– А она что ответила?
– Ответила, что покупное бельё никуда не годится, и не ноское оно, и слишком много в нём бумажной пряжи.
– Это она правду говорит, – подхватывает Поулине, – я тоже вскорости натку тебе материи на бельё, слышишь, Эдеварт? Вот это будет материя так материя!
Эдеварт на мгновение поднимает голову и снова опускает её.
– Ничего мне не надо, – говорит он.
Август слоняется по всей округе. Делать ему особо нечего, но тем не менее он доволен собой, потому что фабрика уже готова. Правда, кой-какие недоделки ещё остались и не хватает кой-каких машин, которые вот-вот прибудут.
Доволен он и тем, что ему удалось довести строительство до конца, не ограбив при этом двух акционеров из Вестеролена. Он не кровопийца какой-нибудь, напротив, он доброжелательный и отзывчивый человек, а для Иверсена, хозяина невода, и для Людера Мильде и впрямь было бы ужасно, если б этим беднягам пришлось расстаться со своими коровами. Правда, дойди дело до крайности, Август не побоялся бы их пристрелить, а потому, отыскав недостающие средства в других местах, он оказал им, можно сказать, большую услугу.
Август бредёт к Каролусу. Он не прочь покалякать о том о сём с этим престарелым рыцарем, хотя его жена Ане Мария давно уже не та, какой была прежде. Она заполучила своих приёмышей и вполне этим удовольствовалась. Просто удивительно, до чего изменилась столь мужелюбивая и лихая женщина. Верно, всю свою жизнь она тосковала оттого, что нет у неё детей. Она явилась на свет, чтобы стать матерью, а жизнь её обманула.
Ане Мария сидит и читает газету, которую недавно начала выписывать. Муж её тоже чем-то занят, но кивает Августу и приглашает садиться.
– Не стой в дверях, сдаётся мне, стульев у нас хватает.
– Да уж, – льстит ему Август, – стульев здесь хватает не только на двоих. Бог вам в помощь!
Каролус сидит и играет с мальчиками в разные игры. Его это занимает не меньше, чем самих ребятишек, он потихоньку впадает в детство, хотя ему навряд ли больше шестидесяти. С лукавой улыбкой Каролус прячет грифель в своих тяжёлых руках, но мальчики уже изучили все его фокусы и уловки и находят то, что он спрятал; все трое весело смеются, вытирают доску и затевают новую игру. Так они уже играют довольно долго.
– Пора кончать! – говорит Ане Мария. Она складывает газету и обращается к Августу: – Ну, Август, какие новости ты нам принёс?
– Чтоб не врать, никаких! – И тут же добавляет: – Вообще-то в море видели косяк сельди.
– Ах, если бы на самом деле так!
– Я и не сомневаюсь, что он придёт. После недавнего шторма сельдь пошла между Гренландией и Норвегией и должна в конце концов зайти к нам в фьорд.
– Да перестаньте же вы играть! – нетерпеливо говорит Ане Мария. Ей не по душе, что мальчишки не обращают на неё внимания, обычно они держатся за её подол.
– Это что ещё такое? – спрашивает Каролус. – Я что, не имею права поиграть с детьми?
Она снова обращается к Августу:
– Ты, значит, достроил свою фабрику и привёз всё, что к ней полагается? Солидное такое здание получилось.
– Да, есть на что посмотреть.
– Наверно, скоро про неё напишут в газете. Я как раз смотрела, нет ли чего.
– Да, – соглашается Август, – газета пишет и про более незначительные вещи.
– Ах, Август, Август, как это ты всё умеешь и всё тебе удаётся!
Раньше, когда, бывало, Ане Мария так говорила, это кое что да значило, и она сопровождала свои слова нежным взглядом. Теперь же она говорит только по необходимости, а вдобавок смотрит на Августа открыто и прямо, без малейших признаков нежности. Нет, она уже давно стала не такой, как раньше. Но чёрт его подери, если её и теперь нельзя пробудить к прежней жизни!
– Пошли, мальчики, помогите мне, – сказала она, поднимаясь со стула. – Нам надо сварить кофе.
Пришлось Каролусу прервать эту идиотскую игру и отпустить детей.
– Так что ты сказал? – спросил он у Августа. – Что, показалась сельдь?
– Да вот, говорят, – отвечает Август и встаёт, собираясь уйти. – Это всё, что я слышал.
– Ну, не так уж позарез нам нужна сельдь, я ж совсем недавно купил её на Сенье.
– И запирал у Фуглё, – напоминает Август. – Но если придёт сельдь, она понадобится и для фабрики тоже, а вот это нам нужно позарез. Будет сельдь, будут и заработок, и деньги, и работа для всех.
– А что ты стоишь? Уж не хочешь ли ты уйти? Выпей с нами кофе! Да, заработки – это для многих хорошо, особенно для бедняков, у которых каждый шиллинг на счету. Но что до меня, то я не могу взвалить на себя больше дел, чем у меня есть. И чего ты так спешишь? Вернись и сядь, – говорит он стоящему в дверях Августу.
Август проходит на кухню, без церемоний открыв дверь. Ане Мария поднимает глаза, сразу догадывается, зачем он пришёл, отступает назад и тихо спрашивает:
– Чего тебе здесь надо?
– Сама догадайся.
– Мальчишки вышли принести дров и сейчас вернутся, – говорит она.
– Не вернутся! – Он ничего не видит и не слышит, он обхватил Ане Марию, хочет бросить на кучу хвороста, но встречает сопротивление.
Ане Мария говорит самым решительным тоном:
– А ну, убирайся отсюда! – На него это не действует, и она с силой толкает его к стене. Но поскольку именно в эту минуту возвращаются мальчики и глядят на них во все глаза, им обоим приходится рассмеяться и сделать вид, будто они так шутят.
– Чёрт подери, до чего ж ты сильная! – говорит Август.
– Да не жалуюсь! – отвечает Ане Мария. – А вы молодцы, ребятки, что принесли так много дров, больше не надо, теперь можно сварить кофе, – говорит она и водружает котелок на треногу. Возможно, ей жалко Августа, гостя, который стоит у дверей и собирается уходить, о, Ане Мария вполне понимает, что творится у него на душе, она сочувственно улыбается и снова качает головой. – Поздно уже нам с тобой, – говорит она, – не надо выставлять себя на посмешище.
Август:
– А осенью, выходит, было ещё не поздно?
– Осенью? А где ты, спрашивается, был осенью? В отъезде. Оно и хорошо, потому что у меня появились другие заботы. Дело в том, что мы с тобой больше не годовалые телята. Наше время прошло. А теперь вернись в комнату и выпей с нами кофе. Кофе весьма полезен для людей в нашем возрасте.
Ну что тут оставалось делать? Он и пошёл вслед за ней, но по пути успел шепнуть:
– Ничего, я ещё с тобой совладаю.
– Даже и не пытайся! – отвечала она.
Впрочем, он и сам понимал, что она для него потеряна. Ане Мария сгорбилась и потому ходила теперь, задрав голову. Она была женщиной, которая осмелилась не торопиться с помощью человеку, увязавшему в болоте, и человек этот ушёл на дно. И она же приняла приговор, вынесенный судом и людьми.
Воротясь в комнату, мальчики рассказали, что мать боролась с Августом на кухне и одержала победу.
– Да, я видел, – сказал Каролус, – и ей удалось снова затащить Августа в горницу.
Он был доволен, что Август вернулся, и завёл с ним разговор о том, как он закупал сельдь на Сенье:
– Господи помилуй, две четырёхвёсельных лодки, сперва одна, потом другая, и обе полны доверху, отборная сельдь, сельдь первого сорта, и плевать, во что это мне обошлось!
Разговоры, пересуды, но Август слушал, не забывая при этом о своём. Вообще-то он пришёл, чтобы опять просить Каролуса о помощи, маленькая интерлюдия на кухне была всего лишь дурацкой выходкой, чтобы потешить себя, и не имела ни малейшего отношения к делам.
Он получил даже несколько чашек кофе и в придачу – долгий разговор, он кивает на всё, что ни скажет Каролус, и проявляет большое уважение, Каролус со своей стороны не может отказаться от такого внимательного слушателя.
– Чего это ты сидишь на табуретке? Сядь в кресло! – говорит он, и Август пересаживается в единственное кресло и всё слушает, слушает...
Наконец он тоже берёт слово.
Дело обстоит так, что до сих пор Каролус был главным помощником при строительстве фабрики. Если вдруг снова понадобится его поддержка, можно ли надеяться, что он обратится в банк ради нескольких норвежских крон и эре? Всего лишь до тех пор, когда акционеры полностью внесут свой капитал.
– А за цемент разве ещё не уплачено? – спрашивает Ане Мария.
Откуда она это взяла? Да давным-давно уплачено. У него затруднения с некоторыми мелочами, которых пока недостаёт: ну, двери там и окна, машины, мешки и бочки под муку, лебёдка, канат. Короче говоря, сущая малость, но без чего всё же нельзя обойтись. Так вот, не пожелает ли Каролус замолвить одно-единственное слово?
Каролус задумывается, потом отвечает: «Да». Он готов это сделать. Фабрика – настолько важное дело для бедняков, настолько необходимое, что он даже и не подумает говорить «нет».
Ане Мария:
– Смотри, Каролус, не наобещай слишком много.
Каролус, с достоинством:
– Думаю, что это я ещё смогу потянуть.
Ане Мария спрашивает:
– А Поулине на днях тебя, случайно, не предостерегала?
Каролус, растерянно:
– А ты откуда знаешь?
– Она и мне про это сказала.
Её слова заставляют Каролуса задуматься.
– Значит, тебе она тоже сказала? – спрашивает он с оскорблённым видом. – Уж и не знаю, зачем она это сделала. Незачем Поулине трезвонить об этом на весь Поллен.
Вмешивается Август:
– Поулине, она вообще с каждым днём глупеет. Послушали бы вы, как она говорит мне, что я рано или поздно попаду в богадельню и что у меня не хватит денег на собственные похороны.
– Но у Поулине все деньги и все записи, – говорит Ане Мария, – она знает, как обстоят дела у каждого из нас.
– Я тоже это знаю. Я и сам сижу в банке и каждый раз ставлю свою подпись, – говорит Каролус. – Словом, будет так, как я сказал: я помогу тебе, Август, раз ты нуждаешься в помощи.
Август благодарит, он знал это с самого начала, потому что людей, подобных Каролусу, в Поллене вообще нет. И подобных Ане Марии – он, не таясь, это скажет: она была именно тем человеком, который с первых же дней понял, сколько денег может принести строительство.
– Деньги, – тихо говорит она, – деньги приходят и уходят.
Каролус на это:
– У нас по сю пору есть всё, что нам нужно.
Август громко хохочет:
– Да уж!
У него легко и радостно на душе. Он добился всего, чего хотел, а теперь вот пьёт кофе, размахивает руками и называет мальчиков принцами. Прежде чем он уходит, его фантазия переносится на другую сторону земного шара и одаряет слушателей удивительным приключением.
Поулине снова даёт Августу понять, что недовольна его поведением, она ворчит, что его вечно где-то носит, и вроде бы слегка ревнует. Она может, к примеру, сказать такое: «Не пойму, чего это ты слоняешься по чужим комнатам и закоулкам?» Услышав в ответ, что он ходит встречаться и разговаривать с людьми, она могла фыркнуть и произнести: «Не иначе ты встречаешься с людьми вроде Теодоровой Рагны!»
Вот и теперь она спрашивает у него:
– Почему ты никак не съездишь в Норвежский банк и не поменяешь свои бумажки на деньги?
Август, в ответ:
– Разве время сейчас уезжать, если я жду, когда доставят машины?
Но вообще-то Август и сам был настроен довольно мрачно и чувствовал себя не слишком хорошо. Когда миновали две недели, он увидел, что с завода ему вообще не ответили, и счёл необходимым отправить ещё одну телеграмму.
– Я прихвачу её, когда завтра пойду в церковь, – сказала Поулине, взяла телеграмму и снова утаила.
Пока Август поджидал оборудование, он вынашивал множество планов, собирался, например, возродить идею номеров на домах в Поллене. До сих пор номер был лишь на большом доме Каролуса, причём номер один, но разве великолепные дома Роландсена и Габриэльсена не должны были соответственно получить номера два и три? И следующие номера – на маленьких домишках, которые тянулись до самых лодочных сараев. Смущал его только номер на доме Йоакима, старосты, ведь там располагались и банк, и лавка, и почта, и ещё много всякого, но, поскольку номер один уже был выдан, Йоакиму пришлось довольствоваться буквой «А». В любом другом городе улицы имели название, а дома номер, и зачастую даже не номер, а букву. Оставалось подыскать подходящего человека, чтобы изготовить номера, всего бы лучше это сделал сам Йоаким, но обращаться к нему конечно же не имело смысла. Йоаким плохо воспринимал новшества в своём родном Поллене.
Так прошла ещё неделя, а от машиностроительного завода по-прежнему ни звука. Что за чертовщина?! Август бродил по селению и проверял свои ёлочки, смотрел, пережили они зиму или нет. Перед каждым домом он напускал на себя важность; чтоб жители могли видеть его из окон, он становился на колени, втыкал в землю деревянный метр и вообще делал вид, будто он что-то смыслит в этом деле. И впрямь в маленьких растеньицах теплилась жизнь, в этих крохотулечках, просто удивительно; они стояли в земле словно какое-то чудо из тёплых стран, словно проявление любви к человеку здесь, на севере. Убедившись, что ёлочки и впрямь живы, он вдруг растрогался. «Господи, какое диво дивное!» – бормотал наш моряк. В нём, должно быть, проснулись воспоминания детства, сладость, преклонение... Боже милостивый, с одной стороны, промышленность, бездушные предметы, с другой...
Полленцы прибежали к нему и попросили разрешения посадить картофель на его огороженном участке.
И речи быть не может!
Тогда они начали причитать, что вот, мол, нет у них ни пяди земли, ни клочка, чтобы посадить на нём шесть картофелин, как же им теперь жить-то, они такие бедные, а дома у них плачут малые детишки...
Нет и нет, на этом куске земли он хочет сам кое-что посадить, такое, чего они раньше и не видели.
Пропащее дело, говорили они, была у них возле дома земля, чтобы сажать картошку, а тут Август посадил осенью свои ёлки, вот земли у них совсем и не осталось, и теперь их одолела нужда...
– Подождите, пока заработает фабрика, – отвечал Август, – будете получать деньги и купите картошки, сколько вам понадобится!
И он ушёл, вот так взял и ушёл. Просто сил не хватало слушать все их причитания. Когда попрошайкам на островах Фиджи говоришь «нет», они сразу уходят. А как ведут себя в этом случае полленцы? Цепляются словно репьи.
И они пришли снова, они были унижены, они терпели нужду. Полленцы теперь понимали, как худо им придётся осенью, когда картофель, привезённый с юга, уже съедят, а у них у самих ничего не будет посажено. Так нельзя ли каждому из них посадить хоть по полведра на его земле? С Божьей помощью это принесёт осенью пять вёдер, если урожай будет сам-десят, и, мол, хорошо бы получить его к осени...
Август не решился больше мешкать с ответом, такие люди способны в один прекрасный день прибегнуть к насилию, как то было зимой; он вызвал Родерика и попросил его обработать участок. Землю перекапывали, удобряли, проводили бороздки, разглаживали граблями, взяли у Йоакима взаймы решето, всё, готово. Какой у нас день? Четверг. «Тогда подождём», – сказал он Родерику. В пятницу он тоже не хотел. Настала суббота, под праздник, день особенный, вдобавок тепло, первый раз по-летнему тепло, моросящий дождик.
Август стоит с двумя фунтиками в руках, в одном – какие-то семена, в другом – древесная зола. Он старательно перемешивает семена и золу и говорит Родерику:
– Я буду сеять, а ты – насыпать сверху землю. Сними шапку! Ни с кем не разговаривай, если кто пройдёт мимо, и не отвечай никому.
Сказав это, он и сам снимает шапку и начинает сеять.
Родерик – парень неглупый, он сознаёт, что здесь совершается своего рода священнодействие, и сыплет землю во имя Отца, Сына и Святого Духа.
Разумеется, от жителей не укрылось, что вон там два человека ходят с обнажённой головой и что-то сеют на Августовом участке. Народ собирается, глазеет. Приходит Теодор, подтягиваются люди из домов победнее. «Вы чего тут делаете?» – спрашивает Теодор и не получает ответа. Приходят другие, тоже спрашивают и тоже не получают ответа. Люди начинают перешёптываться между собой: «Что это за зерно такое? Тёмное совсем. Похоже на лебеду». – «Вы чего сеете?» – снова спрашивает Теодор. «Да помолчи ты!» – говорят ему люди. Поди знай, может, Август ходит под дождём с непокрытой головой и сеет таинственный порошок, скажем, такое зерно, которое потом накормит весь Поллен. Может, оно за три дня вызреет. Август – человек не такой, как все, и, если он что-то сеет и при этом молчит, значит, у него есть свои причины. Некоторые завидовали Родерику, которого назначили сыпать землю и при этом не раскрывать рта. «Нельзя мне войти и поглядеть?» – спрашивает Теодор, этот любопытствующий попугай. Как может посторонний человек думать, что ему дозволено заходить на участок в такую минуту? С него ещё станется не снять шапку, с этого дурня, впрочем, ограда из колючей проволоки не давала ему сделать это.
Зрители не уходили до тех пор, пока эти двое не надели шапки и не начали разговаривать. Но Август и тут ничего им не объяснил, он просто сказал, что, когда придёт срок, они сами увидят, какие ростки повылезут из земли. «А когда же он придёт?» – спросил Теодор. Ох уж этот Теодор, ни малейшего чувства торжественности. Возможно, они совершали некую церемонию с освящённым зерном, но Теодор конечно же ничего не понял...
– Ну всё, – сказал Август Родерику, и оба сеятеля пошли прочь от зрителей, прочь от толпы зевак, которая так и осталась стоять на прежнем месте.






