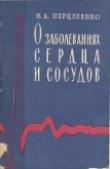Текст книги "Заблуждения сердца и ума"
Автор книги: Клод Кребийон-сын
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
Не буду рассказывать, как я провел ту ночь. Нет на свете человека, настолько несчастного, чтобы совсем не знать любви. Следовательно, всякий может представить себе, что я чувствовал. Если бы сердце мое было одержимо тщеславием, я мог бы спать спокойно. Госпожа де Сенанж старалась понравиться мне, госпожа де Люрсе больше не пугала отсрочками. Я мог гордиться этими победами, особенно первой; госпожа де Сенанж уже не поражала общество своими прелестями, но еще была на виду, изумляя его все новыми авантюрами. Однако мне мало льстило внимание этих двух дам – ходячей добродетели и беззастенчивой кокетки; а та единственная, что могла наполнить счастьем мое сердце, отказывала мне в своей благосклонности. Чем объяснить уныние Гортензии и ее холодное ко мне пренебрежение, как не тайной страстью? Первоначальные подозрения относительно Жермейля возродились в моем сердце. Чем больше я думал о нем, тем больше крепла во мне уверенность, что он мой счастливый соперник. Я вспоминал тысячи подробностей, которые раньше ускользали от меня, а теперь неопровержимо свидетельствовали о связывавшей их взаимной любви.
На другой день я стал раздумывать, говорить ли госпоже де Мелькур, что я познакомился с госпожой де Тевиль. Я боялся, что матушка запретит это знакомство из-за их давнего взаимного нерасположения. Я был уверен, что ослушаюсь ее и не хотел идти на риск. Но не рассказать ей об этой встрече было еще опаснее: она все равно вскоре узнала бы все, и мое желание скрыть правду насторожило бы ее еще больше. Поэтому я решил, что и во имя моей любви и во имя сыновнего долга самое разумное – ничего не скрывать. Итак, я вошел к матушке и стал рассказывать, как провел вчерашний день, и между прочим упомянул, что познакомился с госпожой де Тевиль. Имя это я произнес с трудом, но оно не произвело на матушку того впечатления, какого я опасался. Она только сухо заметила, что не знала о приезде госпожи де Тевиль в Париж.
– Госпожа де Люрсе знает, что вы не очень ее любите, – сказал я, – и поэтому, вероятно, не уведомила вас.
– Она смело могла сообщить мне, что госпожа де Тевиль в Париже, – ответила матушка. – Мы не дружим, но это совсем не означает, что мы враждуем.
– Так вы не будете недовольны мною, если я стану бывать у нее? – спросил я.
– Напротив, – ответила она, – это весьма достойная дама, и общение с ней принесет вам только пользу. Но, – добавила она, – мне говорили, что ее дочь очень хороша. Вы видели ее? Она вам понравилась?
Я смутился, не зная, как ответить на этот простой вопрос, и хотел было сказать, что сам не знаю. Но после короткого замешательства я сказал то, что подсказала мне любовь.
– Видел ли я ее? Понравилась ли она мне? – воскликнул я. – Ах, сударыня, вы были бы очарованы. Ее лицо, манеры, ум – все прекрасно, все пленяет. Какие чудесные глаза! Нежные, мечтательные… Если бы вы видели ее улыбку!
– Как видно, она вас обворожила, – заметила она, – и вы гораздо охотнее дружили бы с ней, чем я с ее матерью.
Только тут я понял, что допустил ошибку.
– Сударыня, – ответил я с жаром, который тщетно старался скрыть, – я описал ее такой, потому что такой увидел и, может быть, даже не сумел передать, как она хороша; охотно признаюсь, она не вызывает во мне неприязни.
– Я вовсе не хочу, – сказала матушка, – чтобы вы питали к ней неприязнь; но, мне кажется, ее красота произвела на вас чересчур сильное впечатление.
– Ах, сударыня, – сказал я со вздохом, – ведь это неважно, раз я не люблю и меня не любят!
– Дитя мое, – возразила она, – вас не интересовали бы ее чувства, если бы вы не были уже влюблены.
– Неужели, сударыня, вы допускаете, – воскликнул я, – что она могла внушить мне любовь с первого же взгляда?
– Она красива, а вы молоды, – возразила матушка, – в вашем возрасте можно опасаться именно такой молниеносной любви; чем меньше у вас опыта, тем легче вы отдаетесь чувству.
– А вы считаете, матушка, – спросил я, – что полюбить ее – такое уж несчастье для меня?
– Да, – ответила она сухо, – эта страсть не даст вам счастья.
– Но может быть, – возразил я, – она не отвергнет меня, и опасения мои напрасны?
– Это было бы очень скверно, – ответила матушка, – ибо расположение сделало бы вас еще более достойным сожаления. Я рада поставить вас в известность, что у меня есть планы относительно вас и что мадемуазель де Тевиль в эти планы не входит. Она не из тех, чьим сердцем позволительно играть, а всерьез влюбляться, повторяю, я вам не советую. Надеюсь, с вами еще можно обсуждать этот вопрос хладнокровно, и сердце ваше не настолько увлечено, чтобы мои слова причинили вам слишком жестокую боль.
– Сударыня, – сказал я (стараясь изо всех сил скрыть свою горечь), – я только ответил на ваш вопрос о мадемуазель де Тевиль. Я нахожу, что она хороша собой, это верно, но ведь мы, как мне кажется, не влюбляемся во всех, кого находим красивыми. Я смотрел на нее без волнения и могу видеть ее и впредь, не опасаясь за свое сердце. Но вы, матушка, вольны мне приказывать во всем, и если вы находите это нужным, я откажусь от дальнейших встреч с нею.
Мой рассудительный тон успокоил госпожу де Мелькур; впрочем, она так любила меня, что мне нетрудно было ее обмануть.
– Нет, любезный сын, – ответила она, – вы можете встречаться с ней. Какова бы ни была цель этого знакомства, руководит ли вами любовь или другие чувства, я ни в коем случае не должна и не хочу вас принуждать. Мои пожелания не погасят вашу страсть, если она уже существует; если же нет, то я не настолько безрассудна, чтобы разжечь ее своим запретом.
Этот разговор слишком взволновал меня, и, чтобы положить ему конец, я распрощался с матушкой и отправился к госпоже де Люрсе: мы должны были ехать к Гортензии.
Я размышлял о препятствиях, грозивших моей любви, и чем меньше оставалось у меня надежд, тем прочнее она укоренялась в моем сердце. У меня был соперник, и соперник счастливый, который уже владел сердцем возлюбленной. Моя мать при первом же слове решительно высказалась против моего счастья; наконец, я ехал к женщине, чью любовь или прихоть – а ведь и то и другое одинаково опасно – я вынужден был отвергнуть; и все-таки ничто не могло меня остановить. Поглощенный мыслями о Гортензии, я вошел к госпоже де Люрсе, совершенно забыв о вчерашних событиях; узнав о ее былой слабости к господину де Пранзи, я окончательно в ней разочаровался.
Хотя она грозила принять меры против моих дерзких притязаний, я застал ее одну. Она встретила меня, как близкого человека, с которым все решено: прием ее был ласков и дружелюбен. Мое неожиданное равнодушие и бесчувственность озадачили ее. Почтительные поклоны, сдержанный тон, угрюмый вид – и вот благодарность за все, что она для меня сделала, за все, что собиралась сделать! Как примирить этот холод с прежними порывами страсти? Она считала, что вправе упрекнуть меня, но уже не смела. Она смотрела на меня с удивлением и напрасно искала в моих глазах огонь, которого ждала. Оцепенелый, скованный, как никогда, стоял я перед ней, чувствуя себя не вздыхателем, ждущим милостей, а любовником, уже тяготящимся ими. Войдя, я сказал ей несколько банальных слов на том светском жаргоне, который неуместен между людьми, любящими друг друга. Обиженная неподобающим обращением, какого вовсе от меня не заслужила, госпожа де Люрсе сразу вспомнила о госпоже де Сенанж и приписала внезапную перемену во мне новому увлечению. Эта мысль, не совсем лишенная оснований, больно поразила М. У нее на глазах женщина безнравственная, немолодая, некрасивая, в один день отняла то, над чем она трудилась целых три месяца, и когда? Накануне окончательной победы! В час, когда она уже была совсем уверена в моей любви, когда она преодолела все колебания, рассеяла все сковывавшие меня ложные представления!
Несмотря на ее молчание, я сразу заметил, что она недовольна и расстроена, но не находил нужных слов. Мысли о Гортензии и разговор с матушкой занимали меня целиком и не оставляли места для жалости, хотя я видел, какие страдания причиняю госпоже де Люрсе. Однако, не находя смысла в этом затянувшемся пребывании вдвоем, я решился и заговорил.
– Сударыня, – спросил я, – ведь мы, кажется, собирались вместе ехать к госпоже де Тевиль?
– Да, сударь – сухо ответила она, – я вас ждала; и даже беспокоилась, не позабыли ли вы, что я должна вас туда отвезти?
– О нет, – возразил я, – я не страдаю такой нелепой рассеянностью.
– И все-таки, – сказала она, – боюсь, у вас теперь есть повод быть рассеянным, и вы способны забыть все, кроме госпожи де Сенанж.
Меня упрекали в том, что я не способен забыть о госпоже де Сенанж, а между тем мысли мои были так далеки от нее, что только в эту минуту я вспомнил о своем обещании доставить ей куплеты. Ревность госпожи де Люрсе была мне весьма удобна. Маркиза не должна была обнаружить, кто истинный предмет моей любви, и я с радостью увидел, что она на ложном пути. Обрадовавшись ее заблуждению, я невольно улыбнулся, а ей стало досадно, что я так спокойно выслушал ее упрек.
– Нечего сказать, вы сделали прекрасный выбор, – продолжала она, видя, что я не отвечаю, – лучшего дебюта нельзя и пожелать; все это весьма достойно и делает вам честь.
– Не понимаю, сударыня, – сказал я холодно, – о чем вы говорите.
– Не понимаете! – насмешливо воскликнула она. – Странно! Хотя вы не блещете догадливостью, я не сомневаюсь, что вы отлично все поняли; впрочем, если вы решили быть скрытным сегодня, надо было лучше подготовиться вчера и не открывать всему свету своих сердечных тайн. Да и вообще госпожа де Сенанж вовсе не требует такой уж глубокой тайны, ее тщеславие жаждет всенародного триумфа, и вы окажете ей плохую услугу, если пожелаете хранить ваше увлечение в секрете.
– Вы меня подружили с госпожой де Сенанж более, чем мне бы этого хотелось, сударыня, – сказал я; – я совсем не думаю, что она почтила меня особым вниманием.
– Не думаете! – воскликнула она. – Я очень ценю вашу скромность; но вчера я не заметила в вашем поведении ничего подобного; и по тому, как вы отвечали на ее любезности, видно было, что вы вполне проникли в ее намерения и готовы пойти им навстречу.
– Я, право, не знаю, – ответил я, – каковы ее намерения; отвечая на ее любезные слова, я совсем не предполагал, что навлеку на себя ваши упреки.
– Что до этого, – с живостью ответила она, – то я никак не могу делать вам упреки; только любовь дает на это право; но дружба обязана предостеречь, и если вы видите с моей стороны нечто большее, чем простую дружбу, то вы заблуждаетесь. Кроме того, позвольте вам заметить, что учтивость вовсе не требует кокетничать и строить глазки.
– Право, сударыня, – воскликнул я, – я не знаю, что значит строить глазки; наверно, вы это знаете; госпожа де Сенанж расположена ко мне, но я не заметил с ее стороны желания понравиться, которое вы ей приписываете. Если оно в самом деле существует, то это ее тайна, мне об этом ничего не известно. Я отвечал, когда она ко мне обращалась, но разговор наш касался общих тем, и только самый беззастенчивый фат мог бы усмотреть в них какой-то скрытый смысл. Вы сами знаете, что мы секретных разговоров не вели.
– Даже и без секретных разговоров, – перебила она меня, – можно о многом договориться; условились же вы о свидании.
– Я просто обещал отнести ей куплеты, которые она хотела прочесть, – возразил я. – Не понимаю, в каком смысле это можно назвать свиданием.
– Если это еще не свидание, – перебила она, – то наверняка превратится в него. Разве не проще было прислать к вам человека за этими куплетами? И зачем вообще было говорить, что они у вас есть?
– Я сделал для нее то же, что сделал бы для всякой другой, – сказал я. – Господин де Версак помимо моего желания навязал мне эту обязанность. Если бы не он, я сегодня был бы избавлен от визита к госпоже де Сенанж, и вам не за что было бы меня бранить.
– Бранить? – повторила она, пожав плечами. – Это слово, по-моему, совсем не к месту. О нет, сударь, я и не думаю бранить вас. Я уже сказала вам, повторяю еще раз и, можете поверить: я говорю без всякой запальчивости. Какое мне дело, влюбились вы или не влюбились в госпожу де Сенанж? Вы вольны позорить себя, сколько вздумается.
– Позорить себя? – воскликнул я. – Что вы под этим подразумеваете?
– Ваши интимности с госпожой де Сенанж, ничего больше, – ответила она. – Люди всегда разделяют бесчестие тех, с кем связывают себя; дурной выбор говорит о дурном вкусе; остановить свое внимание на госпоже де Сенанж – значит признать публична, что вы недостойны ничего лучшего, и непоправимо уронить себя в глазах общества. Да, сударь, поймите, увлечение проходит, а грязный след недостойной связи остается навеки. А теперь мы можем ехать, если вам угодно, – закончила она, поднявшись с места, – я все сказала.
Я предложил ей руку. Она шла, не глядя на меня, но я видел, что лицо ее выражает жестокую досаду. В самом деле, что могло быть для нее обиднее, чем этот разговор? Мог ли я отвергать ее упреки более холодным и оскорбительным образом? Так ли оправдываются влюбленные? Она была достаточно умна, слишком опытна и, главное, слишком пылко любила, чтобы не почувствовать всю жестокость моего поведения. Никогда еще она не выказывала мне столько нежности и никогда еще я не отвечал ей таким обидным безразличием. Ведь она укоряла меня за равнодушие, мы были одни, и я посмел не упасть к ее ногам! Я не воспользовался случаем, который обещал мне полное счастье! Я позволил ей уйти! Нет, так мог поступить лишь тот, кто не понимает истинную цену размолвки между влюбленными.
Не знаю, пронеслись ли в ее голове все эти мысли, но она села в карету с самым хмурым видом; видно было, что размышления ее не из приятных. Я сел рядом так уверенно, будто имел все права на ее благоволение. Конечно, я видел, что она разгневана, но нисколько не старался загладить свою вину. Я целиком отдался новому замыслу: я решил при посредничестве госпожи де Люрсе помирить матушку с госпожой де Тевиль, и, ничуть не заботясь о выборе более подходящего момента, заговорил с ней об этом.
– Моя матушка знает, что госпожа де Тевиль в Париже, что я ее видел у вас и что сегодня вы везете меня к ней.
Госпожа де Люрсе не ответила мне.
– Не странно ли, сударыня, что вы, близкая приятельница их обеих, ничего не предпринимали для их сближения, тем более что госпожа де Мелькур, мне кажется, ничего не имеет против этого?
– Не думаю, – ответила она, – чтобы госпожа де Тевиль отказалась от примирения. Я и сама уже не раз об этом думала; надеюсь, мне это удастся; обе они друг друга уважают.
– Я ручаюсь, – продолжал я, – что моя матушка не питает злых чувств к госпоже де Тевиль; непонятно, что их отдалило друг от друга?
– Разница во вкусах, – ответила госпожа де Люрсе. – Мы охотнее общаемся с теми, кто нам нравится, чем с теми, кого мы уважаем. Госпожа де Тевиль очень добродетельна, но далеко не мила в обращении. Все время ощущаешь жесткую прямолинейность ее характера. Надо близко знать ее, чтобы полюбить, ибо достоинства ее натуры скрыты под наружной суровостью: она отталкивает от себя даже тех, кто хотел бы поближе сойтись с ней. Госпожа де Мелькур, напротив, любезна, добра и хотя не менее добродетельна, но более мягка с людьми; ей трудно было сносить повелительный тон своей кузины; не испытывая взаимной вражды, они перестали встречаться.
– Вероятно, так оно и есть, – сказал я, – но думаю, если бы госпожа де Тевиль не уехала так надолго в провинцию, эта неприязнь давно бы рассеялась.
– Пожалуй, их отношения даже нельзя назвать неприязнью; разъединяющее их отчуждение не достигает степени неприязни, его совсем нетрудно побороть.
– Осмелюсь ли я просить вас, сударыня, посодействовать их сближению? – сказал я. – Мне кажется, это просто необходимо сделать; ведь обе они в дружеских отношениях с вами, могут нечаянно встретиться у вас, и, может быть, им это будет неприятно.
– Если бы даже и так, – заметила она, – обе они слишком благовоспитанные и светские женщины, чтобы не сдержать проявления недобрых чувств, как бы жгучи они ни были. Я считаю, напротив, что было бы хорошо, если бы они случайно встретились у меня. Заранее готовить их торжественное примирение значило бы обречь его на неудачу; но не беспокойтесь, я хорошо знаю их обеих и думаю, что самое лучшее – просто дать им возможность возобновить отношения.
Не успела она договорить, как карета остановилась у дома госпожи де Тевиль. Мысли о предстоящей встрече с Гортензией так волновали меня, что я совсем перестал скрывать свое пренебрежение к госпоже де Люрсе. Эта непостижимая перемена привела ее в глубокое уныние. Я слышал, как она вздыхала в карете. Каждое слово давалось ей с трудом, она говорила дрожащим и сдавленным от гнева или, может быть, от огорчения голосом; она не скрывала своих чувств; я их заметил, но делал вид, будто я тут ни при чем. Ее состояние, конечно, льстило моему тщеславию; это было новое для меня зрелище, оно меня забавляло, но ничуть не трогало и даже казалось не таким уж лестным, когда я вспоминал, что когда-то те же самые чувства вызывал в ней господин де Пранзи и еще многие не известные мне господа, вереница коих представлялась мне весьма длинной. Презрение мое к ней не имело границ. Мы вместе вошли в гостиную госпожи де Тевиль. Кроме нее самой и Гортензии, там не было никого. Гортензия, несмотря на пышный наряд, казалась унылой, но меланхолия только увеличивала ее очарование. Она читала какую-то книгу и отложила ее, когда мы вошли. Госпожа де Тевиль встретила меня как нельзя более приветливо, но Гортензия была так же задумчива и сдержанна, как накануне. В сущности, ее холодность была вполне естественна: ведь она едва меня знала, и если бы я не был влюблен, то не нашел бы в ее поведении ничего, внушающего тревогу. Но сейчас для меня все было поводом для сомнений, все пугало. Я желал, чтобы она дорожила любовью, о которой по справедливости не могла даже подозревать; но мне казалось, что она не могла не заметить, какое впечатление произвела на меня; один мой смущенный вид и взгляды, которые я обращал к ней, должны были открыть ей мои истинные чувства; словом, я считал, что она поняла бы меня, если бы сама любила.
Беседа наша недолго была общей. Скоро я смог завести отдельный разговор с Гортензией. Книга, которую она отложила, лежала на столе.
– Мы помешали вам читать, – сказал я, – как жаль! Тем более, что вы читали эту книгу, как мне показалось, с большим интересом.
– Это история человека, который был несчастлив в любви, – сказала она.
– Вероятно, он не был любим? – заметил я.
– Нет, он был любим, – ответила она.
– Почему же вы считаете его несчастным? – спросил я.
– Неужели вы думаете, – спросила она, – что для счастья достаточно быть любимым? Даже взаимная любовь может стать большим несчастьем, если наталкивается на непреодолимые препятствия.
– А я думаю, – ответил я, – что хотя в этом случае любовники терпят жестокие муки, но уверенность во взаимной любви помогает им переносить все беды. Один взгляд любимой – и ты уже забыл о страданиях. Какие сладкие надежды пробуждает он в сердце! Какие сулит радости!
– Но подумайте, – возразила она, – каково влюбленным, когда все противится их счастью!
– Конечно, они страдают, – ответил я, – но они любят друг друга; препятствия только укрепляют в их сердцах чувство, которым они оба дорожат. А те, кто их разлучает, лишь усиливают их любовь. Вот им удалось улучить минутку для свиданья – сколько радости! Вот они смогли поговорить – какое счастье поделиться самыми заветными своими мыслями! Им мешают зоркие глаза ревнивца или соглядатая? Все равно они найдут способ обменяться взглядом, доказать свою любовь, вложить ее в самые, казалось бы, безразличные поступки, в самые невинные слова.
– Может быть, вы и правы, – сказала она, – но за одну минутку счастья, о котором вы говорите, они платят долгими днями тревоги и страха; а как часто к тревоге за далекого друга примешивается сомнение в его верности! Как сохранить веру в его постоянство, когда его нет рядом? Ведь он может утомиться длительной борьбой, станет искать развлечений, потом привыкнет и привяжется к другой и забудет прежнюю любовь.
– Потерять любимого – такое несчастье может случиться не только из-за разлуки и нового увлечения, – сказал я, – и самые счастливые влюбленные, которым ничто не препятствует, могут изменить друг другу.
– Как трудно сохранить любимого! – заметила она. – Я не устаю удивляться, как женщины не боятся отдать свое сердце.
– То же самое можем сказать и мы, – ответил я. – Не думаю, чтобы женское сердце было более постоянно в любви, чем наше.
– А я могла бы без труда доказать обратное, – сказала она с улыбкой, – но предпочитаю оставить вас в приятном заблуждении. Не стоит вас опровергать; ваше мнение даже лестно для женщин.
– А я устроен иначе, – возразил я, – и был бы счастлив, если бы сумел разубедить вас.
– Это было бы не так легко сделать, – сказала она, чуть покраснев.
– Увы, я слишком хорошо это знаю, – воскликнул я, – и совсем не надеюсь на такое счастье.
– Но если бы вы даже опровергли мое мнение, – сказала она, смутившись, – все это слишком немного значит для вас; не понимаю, на что вам разуверять меня? Впрочем, я твердо держусь своего убеждения и, боюсь, никогда не смогу от него отказаться.
– Вы не сохраните его навсегда, поверьте!
– Ваше предсказание не пугает меня, – сказала она, рассмеявшись; – я очень упряма; и если от твердости во мнениях зависит все счастье моей жизни, ничто не сможет меня поколебать.
– У меня тоже есть все основания страшиться неверности, – сказал я, – но я не так тверд, как вы; и если бы даже я был во сто крат тверже, все равно – одного вашего взгляда было бы достаточно, чтобы я забыл все свои предубеждения.
Увлеченный своей любовью, я уже готов был до конца открыться мадемуазель де Тевиль, но в эту минуту госпожа де Люрсе, закончив чтение какого-то письма, показанного ей госпожой де Тевиль, подошла к нам. Я уже не мог сказать Гортензии, как я ее люблю, но по крайней мере был доволен тем, что она угадала мои чувства и не выразила неудовольствия. Оба мы были взволнованы, и хотя она ничем меня не обнадежила, но я все же не замечал былого отвращения ко мне.
– Мне показалось, – сказала госпожа де Люрсе, – что вы спорили?
– Не совсем так, – ответила Гортензия, улыбаясь, – но мы действительно разошлись во мнениях.
– По вашей вине! – сказал я. – Ведь я предлагал отличное разрешение нашего спора.
– О чем же вы спорили? – спросила госпожа де Люрсе.
– Все о пустяках, сударыня; – сказала она, – господин де Мелькур хотел внушить мне мысль, с которой я никогда не соглашусь.
– Если он хочет внушить вам одну из своих мыслей, вы правы, что не соглашаетесь, – сказала госпожа де Люрсе довольно ядовито. – У него весьма своеобразные взгляды; ни у кого другого таких не бывает, и именно поэтому он их высказывает с особенным удовольствием.
– Пусть я упрям, сударыня, – ответил я, – но в этом споре я уступил кузине; она вам сама скажет, как охотно я сдался.
– Вот в этом я не совсем уверена, – заметила Гортензия.
– И правильно, – подхватила госпожа де Люрсе, – он только с виду простодушен, а на самом деле большой притворщик.
Я сразу понял, что госпожа де Люрсе воспользовалась случаем продолжить нашу ссору; но хотя мне было неприятно, что в присутствии Гортензии меня обвиняют в притворстве, я предпочел промолчать и лишить маркизу удовольствия вынудить меня к объяснениям; кроме того, я не сомневался, что если Гортензия привыкнет беседовать со мной, то сама убедится в моей искренности. Мое молчание рассердило госпожу де Люрсе. Она бросила на меня гневный взгляд, но мне было теперь все равно, что она обо мне думает. Я был весь во власти новой любви и думал лишь о том, как добиться успеха. Я так же быстро убедил себя в расположении Гортензии, как прежде в ее неприязни, и был готов поверить, что она меня полюбит. Да что! Я уже почти не сомневался, что она любит. Отдавшись сладким мечтам, коими я питал свою любовь, я уже забыл и о ее нерасположении, которое так недавно считал непреодолимым, и о сопернике, из-за которого еще вчера так жестоко страдал. Едва я успел перемолвиться с ней несколькими словами, как мне уже показалось, что она разделяет мои чувства. Я смотрел на нее, и она не избегала моего взгляда. Уныние, проистекавшее, как я думал, от разлуки с любимым, я приписывал теперь томной меланхолии, присущей нежному сердцу, – ведь такая же меланхолия переполняла и мое сердце с тех пор, как оно встретило возлюбленную.
Эти счастливые мечты убаюкивали меня недолго. Доложили о приходе Жермейля. Увидя его, я задрожал; на его лице отразилось удивление, когда он заметил меня, и это еще усугубило мою ревность. Он держал себя вполне непринужденно; чрезвычайная приветливость госпожи де Тевиль, радостная улыбка Гортензии – все подтверждало мои подозрения, все терзало мне душу. «Боже! – в ярости твердил я себе, – и я мог вообразить, что буду любим! Я позволил себе забыть, что один Жермейль ей нравится! Я же знал, что они любят друг друга… Как можно было не подумать об этом!»
Чем радужней были мои надежды, тем ужаснее поразил меня удар, нанесенный Жермейлем. При каждом взгляде на него меня сотрясали приступы ярости, которую я с трудом подавлял. Я заставил себя поклониться, но был не в силах ответить на любезные слова, с которыми он ко мне обратился. Он сразу подошел к мадемуазель де Тевиль с видом ласковым и почтительным и стал говорить ей что-то с тем любезным оживлением, с каким обращаются к женщине, которой хотят нравиться. В глазах его выражалась спокойная радость; мне показалось, в них можно было прочесть и любовь, но любовь умиротворенную, не знающую сомнений в том, что ее разделяют. Он наговорил множество милых и тонких любезностей, и я содрогнулся, когда представил себе, что он говорит, когда остается с ней наедине; в его речах чувствовалась живая и нежная близость; так говорить можно лишь со страстно любимой женщиной; я мог бы так держать себя только с Гортензией. Он смотрел на нее нежно, как мне бы хотелось, чтобы она смотрела на меня. И она тоже улыбалась ему и слушала его приветливо, торопилась отвечать, и ничуть не старалась скрыть, что ей приятно его общество. Это жестокое зрелище растерзало мне сердце. Я твердил себе, что больше не люблю мадемуазель де Тевиль, но чувствовал, что с каждой минутой моя любовь к ней возрастает. Когда ее прелестные глаза, полные ласки и огня, останавливались на Жермейле, когда ее нежные губы улыбались ему, я, трепеща от радости, невольно поддавался ее очарованию. Мне трудно было допустить мысль, что другой владеет сердцем, за которое я готов был отдать все на свете, и что только благодаря присутствию соперника мне посчастливилось видеть ее такой прекрасной. Но как только этот порыв самозабвения проходил, я становился поистине достоин жалости; сердце мое болело от ярости и горя, и взгляд мой делался мрачен. Не находя себе места, я бродил по комнате, полный любви и отчаянья, и не решался подойти к ним и вступить в разговор. Жермейль не раз заговаривал со мной, но я отвечал так неохотно и так скупо, что он в конце концов оставил меня в покое. А мадемуазель де Тевиль, судя по всему, если и понимала мои чувства, то не лишала теперь себя жестокого удовольствия мучить меня. Она то и дело шептала что-то Жермейлю на ухо, фамильярно наклонялась к нему; все эти мелочи, сами по себе ничего не значащие, казались мне полными тайного смысла, и я приходил в отчаяние.
Эти противоречивые чувства, непривычные для меня, совершенно истощили мои силы. Меня охватила такая тоска, что я не в силах был скрывать ее. Госпожа де Люрсе заметила, что я внезапно побледнел и изменился в лице, и спросила, не болен ли я. Услышав этот вопрос, мадемуазель де Тевиль поспешно подошла ко мне и, когда я ответил госпоже де Люрсе, что и вправду чувствую себя не совсем хорошо, она предложила мне выпить минеральной воды, похвалив ее лечебное действие.
– Ах, мадемуазель, – сказал я со вздохом, – боюсь, вода мне не поможет; моя болезнь совсем иного рода.
Она ничего не ответила. Но мне показалось, что ее взволновало мое состояние: эта мысль и поспешность, с какой она кинулась мне на помощь, доставила мне минутную радость. Я пристально посмотрел ей в глаза, но мой внимательный взгляд, должно быть, смутил ее; она опустила ресницы, покраснела и отошла. Я снова помрачнел; я досадовал, что вообще говорил с ней, я боялся, что сказал слишком много или что нежность в моем взгляде могла открыть ей истинный смысл моих слов.
Госпожа де Люрсе, не знавшая моих сердечных тайн, думала только о нанесенной ей обиде и объясняла себе мое состояние тем, что я скучаю по госпоже де Сенанж. Эта страсть, на ее взгляд столь же поспешная, сколь нелепая, сильно тревожила ее. Видя, с какой быстротой я влюбился в госпожу де Сенанж и как неудержимо растет наша взаимная симпатия, госпожа де Люрсе опасалась, что уже не сможет воспрепятствовать нашему сближению. Она не сомневалась, что в тот же вечер у меня будет свидание с госпожой де Сенанж, и тогда она потеряет меня безвозвратно. Особенно опасен, с ее точки зрения, был Версак, который не упустит случая вовлечь меня в любовную связь – не столько из дружбы к госпоже де Сенанж или ко мне, сколько из желания повредить госпоже де Люрсе и отнять у нее мое сердце. Беда была неминуема, спасение едва ли возможно. Она слишком долго медлила, и из-за этого потеряла власть надо мной, а удержать меня обещанием своих милостей уже не могла, ибо я перестал их добиваться. Не зная, как и о чем со мной говорить, чтобы не оттолкнуть еще больше, она пока вообще не решалась ничего сказать. Язык любви властен только над тем, кто любит, и становится смешным, когда не находит отклика. Но все-таки нежность была единственным способом вернуть меня; ведь она убедилась, что иронические и презрительные выпады не производят на меня никакого впечатления.
Она подошла и села подле меня. Госпожа де Тевиль писала письмо, и никто не мешал госпоже де Люрсе поговорить со мной. Некоторое время она молча смотрела на меня и, видя, что я по-прежнему грустен и задумчив, сказала почти шепотом:
– Опомнитесь! Что подумает хозяйка дома, если вы будете сидеть с такой миной?
– Пусть думает, что ей угодно, – ответил я уныло.
– Глядя на вас, – сказала она еще тише, – каждый скажет, что вас привели сюда насильно. Что-то вам не понравилось? Ах нет, – добавила она со вздохом, – зачем спрашивать о том, что я и так слишком хорошо знаю. Вам неприятно мое присутствие; интерес, который я проявляю к вам, становится для вас непереносимым. Вы молчите. Значит, я права?