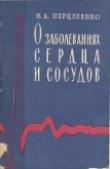Текст книги "Заблуждения сердца и ума"
Автор книги: Клод Кребийон-сын
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц)
Клод Кребийон-сын
Заблуждения сердца и ума
ГОСПОДИНУ КРЕБИЙОНУ, ЧЛЕНУ ФРАНЦУЗСКОЙ АКАДЕМИИ[1]1
Кребийон-отец был избран во Французскую Академию в 1731 г.
[Закрыть]
Милостивый государь,
Вероятно, мне бы следовало повременить с публичными выражениями своей преданности и посвятить Вам труд более достойный Вас; уповаю, однако, что по доброте своей Вы будете судить не умение мое, но усердие. Хотя меня привязывают к Вам самые тесные узы крови, мы еще теснее связаны, если осмелюсь так выразиться, нежной и искренней дружбой. И зачем бояться этих смелых слов? Разве отец ждет от сына одного лишь уважения? Разве одним уважением возможно заплатить отцу сыновний долг? И может ли быть неприятно отцу, что в сердце его детей родственная любовь, внушенная самой природой, подкрепляется чувством живейшей благодарности? А для меня, единственного предмета Вашей нежности и заботы, Вы всю жизнь были самым лучшим другом, добрым утешителем, верной опорой, и я не боюсь, что эти звания, так справедливо заслуженные, могут хоть в чем-нибудь умалить мое к Вам сыновнее уважение. Более того: отнять их у Вас мог бы лишь тот, кто не заслужил Вашей доброты. И если публика когда-нибудь почтет своим вниманием мой скромный талант, если потомки, говоря о Вас, вспомнят и о моем существовании, я буду обязан этой честью Вашим великодушным заботам о моем воспитании и своей с младых лет взлелеянной мечте быть таким, чтобы Вы могли, не стыдясь, называть меня своим сыном.
Примите, милостивый государь, уверения в совершенном почтении Вашего покорного слуги и преданного сына.
Кребийон
ПРЕДИСЛОВИЕ
Предисловия пишут обыкновенно с целью заранее расположить к себе читателя. Но я слишком презираю подобные ухищрения, чтобы к ним прибегать. Единственное назначение этих строк – объяснить смысл предлагаемых Мемуаров, а он остается одним и тем же, как ни рассматривать сии Записки: считать ли их плодом воображения или описанием событий истинных.
Человек, берущийся за перо, может преследовать лишь две цели: пользу или забаву. Мало кому из писателей удается совместить одно с другим. Если они учат нас, то не хотят или не умеют позабавить. Те же, кто пишет забавно, не обладают даром, позволяющим учить. И оттого первые слишком сухи, а вторые фривольны.
Роман, нередко презираемый – и не без основания – людьми мыслящими, мог бы стать самым поучительным из литературных жанров, если бы авторы умели правильно им пользоваться: не начиняли бы его непостижимыми и надуманными совпадениями и небывалыми героями, чьи характеры и приключения неправдоподобны, а сделали бы роман, подобно комедии, правдивой картиной жизни, порицая людские пороки и высмеивая то, что достойно осмеяния.
Конечно, тогда читатель уже не найдет в них необычайных злоключений, способных увлечь воображение и растерзать сердце; переведутся герои, которые попадают в плен к туркам, едва сев на корабль; никто больше не будет похищать из сераля султаншу, беспримерной хитростью обманув бдительность евнухов; не станет внезапных кончин, и количество подземелий значительно уменьшится. Искусно задуманный сюжет будут излагать в согласии с правдоподобием, не погрешая против здравого смысла и логики. Выражения чувств не будут чрезмерными; человек увидит, наконец, человека таким, каков он есть. Читателя перестанут ослеплять, зато начнут учить.
Я готов признать, что многие читатели, не имеющие вкуса к простоте, будут недовольны, если роман очистят от мишурных ребячеств, столь дорогих их сердцу; однако, на мой взгляд, это отнюдь не причина, чтобы отказываться от реформы романа. Каждый век – да что век? – каждый год несет с собой новую, собственную манеру. Немало авторов, стремящихся поспеть за модой, пали жертвой своего трусливого раболепия перед вкусами публики и канули в небытие вместе с модой, за которой гнались. Одна лишь правда пребывает неизменно; и если злой умысел восстанет против нее и даже сумеет на время затмить ее сияние, то уничтожить ее он не может. Писатель, боящийся не угодить своему веку, едва ли его переживет.
Правда, что романы, описывающие людей такими, какие они есть, не только слишком просты, но подвержены многим превратностям. Бывают на свете такие сообразительные читатели, которые полагают всю прелесть чтения в том, чтобы обнаружить прототипы, и одобряют книгу лишь тогда, когда находят в ней – или думают, что находят, – какую-нибудь насмешку над тем или иным лицом, да еще спешат сообщить всем и вся о своем злонамеренном открытии. Кто знает, может быть, эти слишком тонкие умы, от чьей проницательности не ускользает ничто, даже скрытое самой густой вуалью, настолько трезво судят о собственных качествах, что боятся, как бы смешные черточки, подмеченные в книге, не приписали им самим, и потому торопятся показать пальцем на кого-нибудь другого? А между тем из-за них автор терпит порой нарекания за пасквиль, якобы написанный на лиц, к которым он в действительности питает уважение или с которыми вовсе не знаком; молва объявляет его злым и опасным человеком, тогда как на деле зол и опасен его читатель.
Как бы то ни было, ничто не должно и не может – так я думаю – помешать автору черпать характеры и портреты своих персонажей в действительной жизни. Поиски прототипов скоро прекращаются: либо это занятие надоедает, либо пресловутое сходство так натянуто, что злостная выдумка отпадает сама собой. И то сказать, в чем не найдешь при желании коварной карикатуры? Самая невероятная фантастическая история, как и самый глубокий трактат о морали, могут дать для этого повод; лишь книги об отвлеченных научных предметах, насколько мне известно, не порождали подобных подозрений.
Допустим, автор выводит в романе светского фата или даму, желающую прослыть добродетельной: это вовсе не значит, что он писал с господина такого-то или госпожи такой-то; но если этот господин – светский фат, а эта госпожа играет в ходячую добродетель, то персонажи романа, естественно, в чем-то с ними схожи: если бы в них не было сходства ни с кем, это значило бы, что роман не удался. Сколько ни уличай друг друга, сколько ни злись на автора, вывод один: нельзя быть порочным или презренным и оставаться вполне безнаказанным. Обычно выдуманное сходство живых лиц с персонажами книги так зыбко, что на одной улице восклицают: «Ах, да ведь это вылитая маркиза!», а на другой улице вы услышите: «Но как верно схвачена наша графиня!», тогда как при дворе будут уверять, что в героине романа все узнали третью даму, – и столь же ошибочно, как двух первых.
Я так подробно остановился на этом предмете потому, что книга моя – это история, взятая из частной жизни. Она повествует об ошибках и покаянных мыслях человека с громким именем, и, возможно, это обстоятельство вызовет соблазн увидеть в портретах персонажей и событиях их жизни тех или иных ныне здравствующих лиц. Это может случиться тем легче, что в книге выведены нравы нынешнего общества, действие происходит в Париже, читателю нет надобности пускаться в странствие по фантастическим и далеким землям; ничто здесь не прячется под пышными варварскими именами. О портретах похвальных ничего не буду говорить: добродетельная женщина, рассудительный мужчина – существа разумные, которые никогда ни на кого не похожи.
В Записках моих перед вами предстанет человек, мужчина, какими все бывают в ранней юности: сначала простодушный и чистый сердцем, не знающий света, в котором ему предстоит жить. Первая и вторая части посвящены этой поре неведения и первой любви. В последующих частях он превращается в человека светского, полного ложных представлений и недостойных предрассудков, к чему приходит не сам по себе, а под влиянием лиц, сознательно желавших развратить его сердце и ум. Наконец, в последних частях он вновь станет самим собой, воскрешенный для добрых чувств достойной женщиной. Таков сюжет «Заблуждений сердца и ума». Автор отнюдь не стремился показать своего героя погрязшим в пороках и страстях; здесь надо всем властвует любовь; и если порой к ней примешиваются другие чувства, то они почти всегда порождены любовью.
Автор не обещает быть безупречно аккуратным в выпуске этой книги; публику на этот счет столько раз обманывали, что ей не следовало бы верить на слово ни авторам, ни издателям; однако читатели могут быть уверены, что если первая часть им понравится, то вскоре и без проволочек за ней последуют и все остальные.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Я вступил в свет семнадцатилетним юношей, обладая всем, что требуется, дабы не остаться незамеченным. От отца я унаследовал прекрасное имя, блеск которого он приумножил личными заслугами; со стороны матери меня ожидало большое состояние. Овдовев в том возрасте, когда женщине молодой, красивой и богатой нетрудно заключить новый брачный союз, матушка моя из любви ко мне отказалась от супружеских радостей, чтобы дать мне надлежащее воспитание и по мере сил возместить все то, что я утратил со смертью моего отца.
Редкая женщина способна взлелеять подобный замысел; еще меньше таких, что в силах исполнить его. Но госпожа де Мелькур, как мне рассказывали, не была кокеткой и в молодые годы; на склоне же лет – я сам тому свидетель – и вовсе не помышляла о сердечных делах и потому меньше ощущала тяжесть взятой на себя заботы, чем любая другая женщина ее круга, которая решилась бы на подобное испытание.
Вопреки обычаю, меня воспитывали в строгости. От природы я не был склонен преуменьшать свои достоинства, а в таких случаях нетрудно их переоценить. Если матушке не удалось искоренить во мне самодовольства, то, во всяком случае, она приучила меня сдерживать его проявления. Правда, впоследствии это не помешало мне стать изрядным фатом, но без матушкиных стараний я стал бы им намного раньше и бесповоротно.
В ту пору, когда началась моя светская жизнь, я ни о чем не помышлял, кроме удовольствий. Время было мирное[2]2
В отличие от царствования Людовика XIV, время Регентства (1715 – 1723) и первые годы правления Людовика XV были относительно спокойными.
[Закрыть], и я всецело предался опасной праздности. Светские люди моего круга и возраста обычно ничем не заняты; к тому же обманчивая легкость светского тона, свобода нравов, пример окружающих – все влекло меня к погоне за наслаждениями: я был одарен пылкими страстями или, вернее сказать, пылким воображением, которое мог смутить и самый малый соблазн.
Среди суеты и блеска, слепивших меня со всех сторон, я страдал от сердечной пустоты; я жаждал блаженства, имея о нем понятие самое смутное, и долго не понимал, какие именно наслаждения мне нужны. Напрасно старался я рассеять в светских забавах томившее меня уныние. Только в общении с женщинами я находил некоторую отраду. Не сознавая еще, какая неодолимая сила влечет меня к ним, я неустанно искал их общества и не мог не почувствовать в скором времени, что только женщины способны дать мне то счастье, то сердечное упоение, которое нельзя сравнить ни с чем иным; да и годы мои усиливали это расположение к нежным порывам и делали меня еще более уязвимым для женских чар: словом, я хотел найти себе подругу и узнать любовь во что бы то ни стало.
Это оказалось нелегким делом: ни одной я не отдавал предпочтения и в то же время ни одна не оставляла меня равнодушным; я не пытался остановить на ком-нибудь свой выбор, да, собственно, и не мог этого сделать: влечение к одной через мгновение забылось перед чарами другой.
Как часто мы увлекаемся не той женщиной, которая пленяет нас, а той, которую мы надеемся быстрее пленить! Я был подвержен этой слабости не менее всякого другого; мне хотелось любить, но я еще не любил. Я мог бы влюбиться по-настоящему – или считал бы себя влюбленным – лишь в ту, которая легче других пошла бы мне навстречу. Но в один и тот же день мне случалось ловить то там, то здесь благосклонный взгляд, и уже к вечеру меня одолевали тягостные колебания, ибо я не знал, на ком остановить свой выбор; но если бы даже я выбрал, как объясниться с той, что мне понравилась?
Я был так наивен, что боялся объяснением в любви оскорбить свою избранницу. К тому же я считал вполне возможным, что меня вообще не станут слушать, а такого рода небрежение казалось мне самым постыдным, какое только может выпасть на долю мужчины. Терзаемый подобными мыслями, я сверх того страдал неодолимой робостью, которая помешала бы мне поймать удобный случай, даже если бы дама сама хотела мне помочь явными знаками расположения. Скорее всего, моя почтительность достигла бы тех пределов, когда она превращается в прямое оскорбление для женщин и делает мужчину смешным.
Из всего этого нетрудно понять, что представление мое о женщинах было насквозь ложным; в те времена их образ мыслей был таков, что скрывать от них свою любовь было куда опаснее, чем давать понять любыми средствами, сколь неотразимое впечатление они производят. Любовь, в давние времена робкая, почтительная и нежная, сделалась столь нескромной и доступной, что бояться признания мог только такой неопытный юнец, каким был тогда я.
То, что и мужчины и женщины называли любовью, было какими-то совсем особыми отношениями, в которые они вступали часто даже без всякой нежности друг к другу, неизменно отдавая предпочтение удобству, а не влечению, корысти, а не наслаждению, пороку, а не чувству.
Достаточно было три раза сказать женщине, что она мила – и больше ничего не требовалось: с первого раза она верила, после второго – благодарила, после третьего обычно следовала награда.
Иной раз мужчине вообще не надо было ничего говорить; более того – хотя в наш чопорный век это может показаться невероятным – порой от него и не ждали никаких слов.
Мужчина вполне мог понравиться, вовсе не будучи влюбленным; случалось, от него не требовали даже быть любезным.
Первый взгляд решал все дело; зато и связь редко длилась до завтрашнего вечера. И, быть может, самая молниеносная разлука опережала отвращение.
Стараясь облегчить себе общение, мы отказались от условностей: но и так оно представлялось слишком затруднительным; и тогда мы упразднили благопристойность.
Если верить воспоминаниям о старинных нравах, женщины когда-то считали более лестным для себя уважение, нежели любовное чувство; и, быть может, они этим много выигрывали; в самом деле, хотя признание следовало не так быстро, зато любовь была куда глубже и постоянней.
В те времена женщины полагали, что не должны сдаваться ни за что, и действительно долго противились страсти. Моим же современницам даже в голову не приходило, что от мужчины можно защищаться, и они уступали сразу, при первом же натиске.
Из слов моих, разумеется, не следует, что все они были одинаково уступчивы. Мне довелось знавать женщин, которые после целых двух недель ухаживания все еще колебались, а иногда и месяца не хватало, чтобы добиться полной победы над ними. Правда, подобные примеры были весьма редки и не распространялись на остальных. Но я не ошибусь, если скажу, что столь суровых дам многие укоряли в ханжестве.
С той поры нравы неузнаваемо изменились; не удивлюсь, если то, что я здесь рассказал, сочтут выдумкой и басней. Нам трудно поверить, что пороки и добродетели, исчезнувшие в наше время, могли когда-то существовать; и все же я говорю чистую правду и ничуть не преувеличиваю.
Я совсем не знал, как завязываются любовные связи в высшем кругу; вопреки тому, что происходило каждодневно у меня на глазах, я полагал, что только выдающийся человек может надеяться на успех у женщин; хотя втайне я был довольно высокого мнения о себе, я считал себя недостойным женской любви; думаю, если бы я даже лучше знал и понимал женскую натуру, я все равно оставался бы все таким же застенчивым и робким. Пример других и уроки чужой жизни мало значат для молодого человека; он учится лишь на собственном опыте.
Что же мне было делать? Открыться в своих затруднениях госпоже де Мелькур и просить ее совета? Об этом не могло быть и речи; а среди молодых людей, с которыми я постоянно встречался, ни один не был искушенней меня, или, во всяком случае, опыт их ничем не мог бы мне помочь. Целых полгода я пребывал в сем недоумении; возможно, оно продолжалось бы и дольше, если бы одна дама, занимавшая мои мысли более других, сама не пожелала взяться за мое воспитание.
С маркизой де Люрсе (так ее звали) я встречался почти ежедневно, то у нее, то у моей матушки, которую связывала с ней близкая дружба. Маркиза знала меня уже много лет. Она не упускала случая похвалить мой ум и мою наружность, я давно с нею освоился, привык бывать в ее обществе, успел к ней привязаться и чувствовал себя с нею много свободней, чем с любой другой особой ее пола. Эти чувства, порожденные давним знакомством, незаметно перешли в желание нравиться; я видел ее чаще других, и потому желание то крепло во мне все больше. Не подумайте, однако, что я надеялся завоевать ее благосклонность с большей легкостью, чем любовь других женщин. О, я был весьма далек от столь утешительных мыслей; успех казался мне недостижимым, и я не раз позволял иным надеждам увлечь себя; но после подобных измен, длившихся не более двух дней, я вновь обращал к ней свои мечты, еще более нежные и робкие, чем прежде.
Хотя я прилагал все усилия, чтобы скрыть свои чувства, маркиза меня разгадала: моя крайняя почтительность, возраставшая день ото дня, мое смущение при всяком разговоре с нею – смущение иное, уже не то, какое я выказывал в детстве, – мои взгляды, более выразительные, чем сам я мог подозревать, старания быть во всем приятным, частые визиты и, может быть, более всего остального – собственное ее желание завладеть моими чувствами навели маркизу на мысль, что я тайно влюблен в нее. Но репутация ее в свете была такова, что ей не следовало торопить события и идти на неосторожный шаг, который мог бы поставить ее в ложное положение.
Некогда она слыла кокеткой и даже ветреницей; любовная связь, наделавшая шуму и бросившая на нее тень, навсегда отвратила госпожу де Люрсе от удовольствий большого света. Сохранив пылкость чувств, но став осторожней, она поняла, наконец, что женщин губят не столько любовные увлечения, сколько неумение беречь себя и свое доброе имя и что счастье возлюбленного ничуть не менее глубоко и не менее сладостно, если никто о нем не знает. Несмотря на усвоенный госпожой де Люрсе тон, строгий и добродетельный, в ее благонравии продолжали упорно сомневаться, и я, возможно, был единственным, кто верил в ее неприступность. Я вступил в светское общество много лет спустя после того, как заглохли ходившие о ней слухи; неудивительно, что они до меня не дошли. Да если бы кто и вздумал очернить эту даму в моих глазах, вряд ли он успел бы в этом намерении: я не допускал и мысли о том, что она способна оступиться; это было ей известно и обязывало ее к еще большей сдержанности: если бы ей и пришлось сдаться, она желала совершить это со всей благопристойностью, какой я был вправе от нее ожидать.
И внешность, и возраст маркизы поддерживали ее в сих намерениях. Это была женщина красивая, обладавшая той величественной красотой, которая даже и без умышленно строгих манер внушала бы почтение. Одеваясь без кокетства, она отнюдь не пренебрегала своей наружностью, и хотя я говорю, что она вовсе не желала нравиться, все же она старалась всегда выглядеть так, чтобы смотреть на нее было приятно, и потому прилагала все усилия, чтобы туалет ее восполнял прелести, утрачиваемые женщиной, когда ей уже почти сорок. Впрочем, утратила она не так уж много. Если не считать свежести красок, которая свойственна лишь самой первой юности и часто увядает раньше времени из-за стремления женщин сделать ее еще ослепительней, госпоже де Люрсе пока не приходилось сожалеть о былом. Она была высока ростом, прекрасно сложена, и, если принять во внимание ее притворное небрежение своей наружностью, немногие дамы могли бы поспорить с ней красотой. Выражение ее лица и глаз было намеренно строгим, но, когда она переставала следить за собой, в них сияли оживление и нежность.
Маркиза де Люрсе обладала умом живым, но не поверхностным; ей не чужда была осмотрительность и даже скрытность. Она была приятной собеседницей, говорила изящно и охотно; но, выражая весьма тонкие мысли, никогда не впадала в вычурность. Она хорошо изучила женщин, а также и мужчин и знала тайные пружины, коим повинуются и те и другие. Она умела терпеливо ждать часа мести или наслаждения, если не могла вкусить их сию минуту. Короче, при своей преувеличенной добродетели, она умела быть приятной в обществе, не требовала, чтобы люди были безгрешны, и оправдание человеческих слабостей видела в искренности чувств – мысль банальная, которую беспрестанно твердят три четверти женщин и которая бесповоротно губит в общем мнении тех из них, кто роняет столь возвышенные принципы своим поведением.
Побеседовав со мною несколько раз о любви, она узнала мой характер и поняла, почему я не решаюсь признаться в своих чувствах. Она утвердилась в мысли, что сможет привлечь мое сердце и упрочить мою любовь лишь в том случае, если сумеет как можно дольше скрывать от меня свою сердечную склонность; чем глубже было мое уважение к ней, тем неуместней был бы с ее стороны всякий слишком поспешный шаг. Жизнь научила ее, что, как пылко ни рвется мужчина к цели, победа не должна достаться ему легко, и женщины, слишком поспешно уступившие, часто вынуждены потом раскаиваться в своей уступчивости.
Я еще многого не знал, в том числе и того, что возвышенные рассуждения о любви – не более чем излюбленный предмет светской болтовни. Когда дамы говорили на эту тему, в речах их было столько убеждения, они так тонко разбирались в том, что достойно, а что недостойно, так гордо презирали женщин, погрешивших против идеала… Мог ли я предположить, что, исповедуя столь высокие принципы, они так редко следуют им в жизни?
Госпожа де Люрсе была этому пороку подвержена более других: ей так хотелось забыть роковые ошибки своей молодости, что она считала их стертыми в памяти людей и, зарекшись вновь полюбить, считала свое сердце недоступным для страсти и требовала от мужчины, который посмел бы претендовать на ее внимание, столь редких качеств, ждала любви столь возвышенной и необычайной, что я трепетал от страха, когда у меня появлялась мысль посвятить себя этой даме.
Но вот маркиза, весьма довольная тем мнением о себе, которое успела мне внушить, рассудила, наконец, что пришло время поманить меня надеждой и дать мне понять – самым, впрочем, благопристойным образом – что я и есть тот счастливый смертный, кого избрало ее сердце. От разговоров только любезных и дружеских она перешла к более недвусмысленным и интимным; бросала на меня нежные взоры и советовала, когда мы с ней оставались наедине, держать себя непринужденней. Этими уловками она достигла того, что я влюбился в нее еще сильнее, да и она прониклась столь нежными чувствами ко мне, что сама, вероятно, была не рада моей почтительности.
Она оказалась в не меньшем затруднении, чем я. Надо было побудить меня перешагнуть через неверие в себя, в котором она одна была повинна, излечить меня от слишком высокого мнения о ее добродетели, которое сама же мне внушила; и то и другое – задачи весьма нелегкие; решать их следовало хитро и тонко. По мне не было видно, что я сам посмею объясниться в любви; открыться первой было невозможно; мало того, маркизе полагалось принять мое признание со всей строгостью, если бы ей посчастливилось побудить меня на столь дерзкий поступок.
Куда проще иметь дело с более опытными мужчинами; одного туманного намека, одного взгляда, одного жеста достаточно и даже слишком много: он уже знает все, что желал знать; а если ей что-нибудь не понравится в его поведении, она ничем не связана: поощрение ее было так неуловимо, так недоказуемо, что она может все отрицать.
Госпожа де Люрсе отнюдь не располагала сими удобствами в своей игре со мной; напротив, она уже не раз убеждалась, что с каждой ее попыткой открыть мне глаза я становлюсь все глупее, а быть откровенной она не решалась, боясь меня напугать и даже потерять совсем. Оба мы втайне вздыхали и хотя чувствовали согласно, но это не делало нас счастливее. В сем нелепом положении мы находились уже по меньшей мере месяца два, когда, наконец, госпожа де Люрсе, будучи уже не в силах более мириться со своими напрасными и непонятными муками и глупым благоговением, какое я к ней питал, решила избавиться от первых, излечив меня от второго.
Умело направленный разговор часто помогает сделать самое щекотливое признание; свободный, как бы непреднамеренный ход беседы дает случай объясниться; вы перескакиваете с одной темы на другую, пока не доберетесь до заветного предмета и не найдете для него подходящий момент в беседе. В светском обществе очень любят рассуждать о любви, ибо сия материя, интересная и сама по себе, нерасторжимо связана со злоречием и почти всегда составляет его подоплеку.
Я с жадностью упивался разговорами о сердечных делах; порой я искал в этих беседах новых познаний, порой – удовольствия открыть кому-нибудь волнение моих чувств; короче, всякий раз, оказавшись в светском кружке, я наводил разговор на любовь и связанные с нею ощущения и переживания; такое направление моих мыслей весьма устраивало госпожу де Люрсе, и она решилась, наконец, обратить его в свою пользу.
Однажды вечером, когда у госпожи де Мелькур был большой съезд гостей, а госпожа де Люрсе, как и я, отказались от партии в карты, мы очутились наедине, друг подле друга. Это уединение повергло меня в трепет, хотя я давно уже мечтал о чем-нибудь подобном. Вдали от нее я не видел никаких препятствий своему стремлению открыться ей в любви; но стоило представиться удобному случаю, как от одной этой мысли меня бросало в дрожь. Правда, кроме нас в гостиной собралось много народу; но это ничуть меня не ободряло: рядом никого не было, никто на нас не глядел и не мог прийти мне на выручку. Эти страшные мысли привели меня в замешательство. Целых четверть часа я сидел рядом с госпожой де Люрсе и не вымолвил ни слова; она тоже хранила молчание, и если и желала заговорить, то не знала, с чего начать.
Но некая комедия, которую в то время с большим успехом играли на театре, послужила маркизе поводом прервать молчание. Она спросила, видел ли я этот спектакль; я ответил, что да.
– Интрига, как мне кажется, не блещет новизной; но многие подробности очень хороши: пьеса написана в благородной манере, чувства героев трактованы своеобразно. Вы не согласны со мной?
– Не могу похвалиться, что я знаток театра, – ответил я. – Пьеса мне понравилась; но я не берусь судить о ее красотах и недостатках.
– Можно не быть знатоком театра и все же иметь свое суждение о той или иной частности. К ним, например, относятся выведенные в пьесе чувства; в этом мы не ошибемся, ибо судья тут не разум, а сердце. Интересные сюжеты одинаково волнуют и малообразованного и самого просвещенного человека. На мой взгляд, в пьесе этой есть места, написанные весьма искусно: особенно понравилось мне одно объяснение в любви – по-моему, оно тонко и изящно; это одно из лучших мест в комедии.
– Меня оно тоже поразило, – заметил я, – и я за него особенно благодарен автору: подобные положения представляются мне очень щекотливыми; из них трудно найти правильный выход.
– А мне кажется, что никакой особенной заслуги тут нет, – возразила она; – объяснение в любви – нечто такое, что делается каждый день и без всяких затруднений; если подобная ситуация на сцене может нравиться, то не существом дела, а новизной трактовки.
– Не могу согласиться с вами, сударыня, – отвечал я; – по-моему, признаться в любви совсем не легко.
– Нет сомнения, – сказала она, – что женщине действительно трудно решиться на признание; при самой пылкой любви тысячи соображений удерживают ее от подобного шага; но мужчине… Надеюсь, вы согласитесь, что мужчина в таком положении не рискует решительно ничем.
– Простите, сударыня, – возразил я, – я как раз считаю, что рискует. Мне кажется, нет ничего унизительнее для мужчины, чем объясниться в любви.
– Право, – воскликнула она, – даже жаль, что эта мысль так нелепа! Она могла бы иметь успех благодаря своей новизне! Как! Мужчине унизительно объясниться в любви?
– Конечно, – ответил я, – если он не уверен, что любим.
– А как же, – возразила она, – прикажете ему узнать, что он любим? Лишь признание мужчины дает женщине право ответить взаимностью. Разве она может – как бы ни было затронуто ее сердце – заговорить первая? Ведь этим она уронит себя в ваших же глазах; более того, она может услышать отказ.
– Очень немногим женщинам, – ответил я, – угрожает такая опасность.
– Она угрожает каждой, – возразила она, – кто позволит себе сделать первый шаг; и сами вы разлюбите даже горячо любимую женщину, если она поможет вам одержать слишком легкую победу.
– Это нелогично, – заметил я; – мне кажется, мы должны чувствовать благодарность к той, кто избавляет нас от лишних тревог.
– Разумеется, – прервала она меня, – но мысли эти не согласуются с правдой жизни. Сейчас вы порицаете мужское тщеславие, но сами поступили бы как все мужчины, если бы любящая вас женщина решилась предупредить ненужные сомнения.
– Ах! Нет, сударыня, я был бы ей бесконечно благодарен, и радость быть избавленным от сомнений лишь увеличила бы мою любовь!
– Если это действительно так, значит, вы составили себе весьма устрашающее представление о такой простой вещи, как объяснение в любви. Что в нем такого ужасного? Вы боитесь, что вас не станут слушать? Это маловероятно; вы стесняетесь сказать, что влюблены? Но почему?
– Все так, сударыня, – сказал я. – Но чего стоит выговорить слова любви, особенно мне; ведь я знаю, что не сумею объясниться изящно.
– Самое изящное объяснение, – ответила она, – не всегда бывает самым трогательным. Остроумие приятно в кавалере, оно забавляет, но не оно убеждает наше сердце; смущение, неумение найти нужные слова, дрожащий голос – вот что для нас опасно.
– Ах, сударыня, – воскликнул я, – уверены ли вы, что эти доказательства любви, которые мне тоже кажутся неоспоримыми, всегда и всех убеждают?
– Нет, – ответила она. – Затруднения, о которых вы говорите, иногда происходят не от любви, а от глупости, и благодарить тут не за что; к тому же мужчины хитры и способны изобразить притворное смятение и страсть, тогда как одушевлены лишь мимолетными желаниями, и потому им не всегда можно верить. Бывает и так, что в нас влюбится совсем не тот, кого избрало наше сердце, и потому, что бы он ни говорил, его речи нисколько нас не трогают.
– Вот видите, сударыня, – ответил я, – выходит, я вовсе не заблуждаюсь, когда страшусь отказа; пожалуй, уж лучше страдать от неуверенности, чем решиться на объяснение и узнать, что тебя не любят.