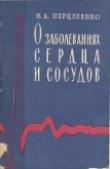Текст книги "Заблуждения сердца и ума"
Автор книги: Клод Кребийон-сын
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
Госпожа де Люрсе, вероятно, еще долго повторяла бы все эти печальные истины, но, заметив, что я подавлен и едва удерживаюсь от слез, решила подбодрить меня и продолжать в менее горестном тоне.
– Конечно, – добавила она ласково, – я не верю, что вы способны на такие дурные поступки; нет, разумеется, нет. Но, повторяю еще раз, я боюсь вашего возраста еще больше, чем своего. К тому же вы не сумеете любить меня так, как бы я хотела.
– О, нет, сударыня, – сказал я, – ваша воля всегда будет для меня законом.
– Не знаю, – возразила она с улыбкой, – можно ли вам верить. Многие думают, что потеря сдержанности и уважения будто бы может служить доказательством любви. Это глубочайшее заблуждение. Разумеется, влюбленный вправе ожидать награды за свою преданность. Как ни страшно женщине заходить слишком далеко, но когда она убедилась, что истинно любима, ее сопротивлению приходит конец.
– Когда же я буду настолько счастлив, сударыня, что сумею вас убедить? – спросил я.
– Когда? – сказала она, смеясь. – Вы сами видите, я уже наполовину убеждена. Я позволяю вам говорить о любви и сама уже почти признаюсь, что люблю вас. Видите, как я вам доверяю. Я осталась с вами наедине, даже сама помогла вам в этом. Все это, кажется мне, весьма явные свидетельства расположения, и если вы правильно их понимаете, у вас нет оснований жаловаться.
– Это верно, сударыня, – сказал я в великом смущении, – но…
– Но, Мелькур, – прервала она меня, – вы должны понять, что сегодняшний мой поступок был очень и очень рискованным, и нужно быть о вас весьма высокого мнения, чтобы на это решиться.
– Очень рискованным? – переспросил я.
– Да, – повторила она, – очень рискованным. В сущности, если бы люди узнали, что вы здесь с моего согласия, что мы с вами устроили это свидание умышленно, а вовсе не случайно, что бы они подумали, и с полным правом? И все же вы сами видите: они бы ошиблись. Нельзя вести себя почтительнее, чем вы; и это лучший способ добиться всего, Мелькур, – добавила она с силой, – я вижу: вы так хотите быть любимым, ваша неловкость и неопытность – они так ясно говорят о чистоте души и так лестны для меня!
Я почувствовал, что должен отблагодарить ее за ласковые речи; охваченный восторгом, я упал к ногам госпожи де Люрсе.
– О, небо! – воскликнул я, – так, значит, вы любите, вы сами мне это говорите!
– Да, Мелькур, – отвечала она с улыбкой, протягивая мне руку, – да, я вам это говорю и не скрываю своей нежности. Вы довольны? – Вместо ответа я схватил ее руку и страстно сжал.
Мой смелый жест смутил госпожу де Люрсе; она покраснела, вздохнула; я тоже. Некоторое время мы оба молчали. На миг я оторвал губы от ее руки, чтобы заглянуть ей в глаза. Их выражение взволновало меня; ничего подобного я в них еще не видел. Взгляд ее был так полон чувства, так трогателен, в нем было столько любви, что я, уже не опасаясь навлечь на себя гнев, стал снова целовать ее руку.
– Что же, – сказала она, наконец, – не пора ли вам встать с колен? Что значат эти безумства? Встаньте, я так хочу.
– О, сударыня, – воскликнул я, – неужели я имел несчастье рассердить вас?
– Ах, разве я вас упрекаю? – сказала она ослабевшим голосом. – Нет, я ничуть не сержусь. Но сядьте же на свое место. Или нет, еще лучше – уходите. Я слышу, подъехала ваша карета, и я не хочу, чтобы она долго стояла у подъезда. Завтра мы можем увидеться. Если я соберусь куда-нибудь ехать, то только к вечеру. Прощайте, – повторила она и рассмеялась, потому что я все еще держал ее за руку, – я требую, чтобы вы ушли. Вы чересчур настойчивы, это начинает меня пугать.
Я пытался найти себе оправдание. Я не хотел подчиниться этому требованию: приказывая мне уйти, она в то же время давала почувствовать, что вовсе не ждет беспрекословного повиновения. Я сказал, что моей кареты еще нет, что маркизе просто почудилось.
– Пусть так, – сказала она, – но я не хочу, чтобы вы дольше здесь оставались. Разве мы не все сказали друг другу?
– По-моему, нет, – ответил я со вздохом. – И если я иногда молчу подле вас, это не значит, что мне нечего сказать, а только что мне трудно выразить все, что я чувствую.
– Это застенчивость, – сказала она, опять опускаясь на софу, – от которой вас необходимо излечить. Надо знать разницу между почтительностью и робостью. Первая заслуживает похвалы, вторая – смешна. Возьмем такой пример: мы одни, вы говорите, что любите меня, я отвечаю тем же, ничто нам не мешает, но чем больше свободы я даю вашим желаниям, тем благороднее с вашей стороны не употреблять ее во зло. Пожалуй, вы единственный человек на свете, кто способен вести себя столь безупречно. И если обычно я питаю отвращение к вольностям, то сегодня оно пропало, его больше нет. Я счастлива: наконец я встретила душу, родственную моей. Ведь все это значит, что ваша скромность, достойная всяческой похвалы, основана на уважении; если бы причиной ее была только застенчивость, вы бы уже преодолели ее, ибо я сама сделала все, чтобы ее рассеять. Но вы молчите?
– Увы! сударыня, я чувствую, что вы правы, а я желал бы совсем другого!
Считаю нелишним заметить, что, когда она расположилась на софе, я снова устроился на полу у ее ног; она позволила мне опереться локтями на ее колени; одной рукой она перебирала мои волосы, а другую я пожимал или целовал – этот существенный выбор был всецело предоставлен мне.
– Ах, если бы я была уверена, что вы способны хранить верность и тайну! – вздохнула она, понизив голос.
Я не сумел ответить, как бы следовало: я так плохо сознавал, что она сказала, так смутно понимал истинное значение этих слов, что не придумал ничего лучшего, как только поклясться ей в вечной верности. Огонь, пылавший в ее глазах, был бы понят всяким другим на моем месте; ее волнение, дрожащий голос, прерывистое дыханье – все говорило внятно и красноречиво о моей полной победе. Но я оставался глух и слеп. Я даже думал, что она так доверчиво отдается мне во власть только потому, что полагается на мою порядочность, и малейшая вольность с моей стороны навсегда оттолкнет ее от меня; мне казалось, что она из тех женщин, чье сопротивление нельзя сломить, и которые сдаются лишь тогда, когда сами того захотят. Словом, мое заблуждение было так велико, что оно оказалось сильнее моих желаний и даже сильнее тайных стремлений самой госпожи де Люрсе, готовой подарить мне полное счастье. Чем больше она имела оснований упрекнуть себя в излишней прямоте, тем сильнее, надо думать, сердила ее моя непонятливость. Вскоре она впала в мрачное раздумье, а я, вероятно, до самого утра мучил бы ее своими заверениями в любви и, главное, в почтении, если бы, в досаде на смешное положение, в которое я ее ставлю, она не потребовала вновь, и весьма настойчиво, чтобы я ушел. Обладая здравым умом, она поняла, что сейчас от меня ничего больше не приходится ждать. Я проявил некоторую строптивость и не хотел повиноваться, но ничего не достиг, и мы расстались: она, надо полагать, все больше и больше дивилась, что можно быть таким дураком, а я покинул ее в убеждении, что нужно по крайней мере еще шесть таких свиданий, чтобы только начать догадываться, как все это понимать. Прощаясь, она смотрела на меня, как мне показалось, весьма холодно, и я испугался, не позволил ли себе лишнее.
Когда я пришел в себя и оправился от смущения, все происшедшее в тот вечер представилось мне совсем в ином свете. Вспоминая речи и поступки госпожи де Люрсе, я все явнее понимал, что почтительность моя была далеко не так уместна, как мне казалось, и что если второе свидание пройдет так же, как первое, то она едва ли назначит третье, несмотря на все свои возвышенные чувства. Правду сказать, я и теперь не думал, что, проявив настойчивость, мог бы одержать полную победу; но мне казалось, что по крайней мере я подготовил бы ее. Впрочем, маркиза сама была виновата. Разве я знал, что женщины в подобных обстоятельствах толкуют о своей добродетели вовсе не в надежде уберечь ее, а скорее с целью набить цену? Чему послужили все ухищрения госпожи де Люрсе? Ведь ясно было, что я приму их на веру, даже если они будут еще во сто раз грубее. Женщины могут прибегать к ним лишь тогда, когда имеют дело с более искушенными вздыхателями. «Уважение ко мне!» Не очень-то подходящие слова для интимного свидания! Особенно свидания с тем, кто не понимает, насколько они неуместны в подобные минуты, и не знает, что добродетель не назначает свиданий. Предаваясь горьким раздумьям о постигшей меня неудаче и давая себе слово быть решительнее в следующий раз, я вдруг опять вспомнил о моей незнакомке. Но она уже не была мне так дорога; мысль о наслаждениях, которые сулила мне любовь госпожи де Люрсе, связавшие меня с нею узы, самая недоступность для меня сближения с юной красавицей (чтобы оправдать себя в собственных глазах, я изрядно преуменьшал свои шансы), наконец, ее безразличие ко мне во время давешней встречи в Тюильри – все отдаляло меня от нее. Я сознавал, что легко принес бы ей в жертву госпожу де Люрсе, если бы знал твердо, что добьюсь ее внимания – но не иначе, как ценой полной уверенности. Я не мог не признать, что при встрече со мной она отвела взгляд; более того, что на лице ее выразилось презрение, как при виде чего-то неприятного. Я еще раз мысленно перебрал все достоинства своей наружности, хорошенько продумал все преимущества, на какие мог твердо рассчитывать, сопоставил все это с плачевным их действием на мою незнакомку и пришел к выводу, что если я ей не понравился, то виноват в этом либо Жермейль, восстановивший ее против меня, либо ее тайное отвращение к красивым лицам. Прежде я, кажется, не был столь высокого мнения о своей внешности, но госпожа де Люрсе с ее пылкой страстью внушила мне преувеличенное представление о моей особе. Мог ли я допустить, что столь разборчивая женщина ошибается и что на деле я совсем не так хорош? Разве можно нравиться ей, не обладая редкими качествами? Однако, хотя незнакомка не проявляла никакого интереса ко мне, сам я продолжал интересоваться ею. Свое сердечное беспокойство я приписывал остаткам того неизгладимого впечатления, которое она произвела на меня в день нашей первой встречи в театре, и старался бороться с ним, рисуя себе прелести госпожи де Люрсе и картины ожидавшего меня счастья.
На следующий день я предполагал отправиться к ней, а перед тем был у госпожи де Мелькур, как вдруг доложили, что граф де Версак просит его принять. Матушка не скрыла некоторого недовольства этим визитом. Действительно, как я знал, из людей своего круга она меньше всех жаловала Версака, главным образом потому, что считала его влияние вредным для меня. Поэтому он очень редко бывал у нее. Вероятно, он чувствовал ее тайную неприязнь и со своей стороны тоже избегал ее общества. Матушка даже прямо запрещала мне встречаться с ним. Мы ездили в разные дома; при дворе, где Версак блистал постоянно, я появлялся очень редко, и мы с ним были едва знакомы.
Версак, о котором мне придется еще немало говорить в этих мемуарах, принадлежал к самой высшей знати Франции и при этом соединял преимущества приятного ума с обольстительной внешностью. Женщины были от него без ума, а он постоянно их обманывал и высмеивал; тщеславный, властолюбивый, ветреный, он был на редкость дерзким повесой, пленяя женщин, может быть, именно своими пороками. Он тем больше нравился своим жертвам, чем безжалостнее их терзал. Как бы то ни было, именно женщины ввели его в моду, едва он вступил в свет. Уже десять лет Версак был покорителем самых недоступных сердец, кумиром кокеток, опаснейшим соперником для других мужчин. Если ему и случалось потерпеть неудачу, он умел представить дело в ином свете, давая понять, что сумел добиться расположения, – и заставлял себе верить. Отвергнувшая его дама все равно значилась в числе его жертв. Он изобрел какую-то особенную манеру говорить, некий светский жаргон, который в его устах звучал как нельзя более естественно. Он был остер, речь всегда пленяла: он либо высказывал оригинальные мысли, либо сообщал новый блеск тому, что слышал от других; он придавал очарование новизны даже тому, что пересказывал с чужих слов, и никто не мог сравниться с ним, повторяя придуманные им остроты. Он сам был творцом неповторимого очарования своей личности – и физической и духовной, – очарования, которого никто не мог ни присвоить себе, ни даже определить. А между тем мало было мужчин, которые не пытались бы ему подражать, и все они при этом делались весьма противными. По-видимому, эта очаровательная наглость была особым даром природы, принадлежавшим ему одному. Никто не мог соперничать с ним, – и сам я, в дальнейшем столь блистательно следовавший по его стопам и сумевший поделить с ним внимание королевского двора и Парижа, – даже я долго пребывал в числе неловких и незадачливых подражателей, которые, не обладая обаянием Версака, копировали его недостатки, прибавляя их к своим собственным. Одетый роскошно, неизменный образец вкуса и изящества, он оставался вельможей даже тогда, когда откровенно рисовался своими успехами в обществе.
Версак, со всеми своими пороками и достоинствами, всегда мне нравился. Оказавшись с ним в одном обществе, я присматривался к его манерам и пытался подражать ослепительному великолепию, которым так восхищался. Госпожа де Мелькур, превыше всего ценившая простоту и безыскусственность, находила нелепым светское позерство. Заметив, что я восхищаюсь Версаком, она встревожилась. Именно по этой причине, больше чем из простой неприязни к такого рода людям, она с трудом выносила его присутствие; но светские приличия, обязательные для людей высшего круга и соблюдаемые с неукоснительной точностью, принуждали матушку сдерживать себя.
Версак вошел эффектно, как всегда, поклонился госпоже де Мелькур довольно развязно, мне и того развязнее; поговорил о том о сем, потом вдруг принялся так язвительно злословить о самых разных людях, что матушка моя не утерпела и спросила, чем перед ним провинилась вселенная, что он так безжалостно ее изничтожает.
– Помилуйте, сударыня, – ответил он, – спросите лучше, чем я провинился перед вселенной, что она так безжалостно изничтожает меня. Я со всех сторон терплю нападки, упреки, обвинения, так что впору просто плакать. На меня клевещут, выискивают, над чем бы поиздеваться; можно подумать, у других нет недостатков; но я, видите ли, не имею права их замечать. Кстати, вы встречали в последнее время милую графиню?
Госпожа де Мелькур ответила, что давно ее не видела.
– Представьте себе, она больше нигде не появляется, – продолжал он, – я глубоко расстроен, я просто безутешен.
– Может быть, она предалась благочестию? – предположила моя матушка.
– Вполне вероятно, – сказал он, – рано или поздно ей этого не миновать. Она понесла прискорбную утрату: лишилась юного маркиза, который учинил ей самую непростительную измену, какую запомнит человечество. Правда, ее бросают не первый раз, и можно было ожидать, что она, как всегда, быстро утешится, – ведь к утратам постепенно привыкаешь. Но есть одно обстоятельство, из-за которого разрыв с маркизом являет собой нечто не совсем обыкновенное.
– И что же это за обстоятельство? – спросила госпожа де Мелькур.
– Дело в том, что… – начал он, – но, право же, трудно поверить, что так просчиталась столь дальновидная, столь здравомыслящая дама!.. Оказалось, что у нее нет никого в резерве! Чтобы как-нибудь восстановить свое доброе имя, она пытается убедить нас, что тут замешаны возвышенные чувства. Но нет светской женщины, которой от этого не стало бы еще противнее… И хуже всего то, что изменник приводит в исполнение черный замысел: оставить освободившееся место пустым. Он расписывает несчастную даму такими убийственными красками, что отпугивает самых храбрых претендентов; и вот прошла уже добрая неделя, а утешителя нет и нет. Согласитесь, что это весьма прискорбная новость!
– И все это, конечно, выдумка от слова до слова, – ответила моя матушка.
– Как выдумка? – вскричал Версак. – Да это общеизвестно. Неужели вы полагаете, что я способен возвести поклеп, и на кого? На графиню, к которой питаю самое искреннее уважение, которую высоко ценю… То, что я рассказал, так же достоверно, как и то, что графиня, как, впрочем, и божественная де Люрсе, всю жизнь отчаянно белила щеки.
Дрожь пробежала по моему телу, когда я услышал столь насмешливые речи о женщине, которую высоко чтил, и, как мне казалось, вполне заслуженно.
– И это тоже клевета, – возразила госпожа де Мелькур, – никогда госпожа де Люрсе не белила щеки.
– Разумеется! – парировал Версак. – Никогда не белилась и никогда не имела любовников.
«Любовников! Любовники у госпожи де Люрсе!» – чуть не вскрикнул я.
– Скажите еще, что о ней вообще никому ничего не известно. Да разве мы не знаем, – продолжал Версак, – что уже лет пятьдесят госпожа де Люрсе щедро дарит людям свое сердце? Это началось задолго до того, как она вышла за этого беднягу Люрсе, между прочим – самого глупого маркиза Франции. Всему свету известно, что в один прекрасный день он застал ее с Д…, назавтра с другим, два дня спустя – с третьим, и наконец, наскучив привычными сюрпризами, которым не предвиделось конца, он умер, чтобы не видеть повторения сей неприятности. А разве не у нас на глазах было положено начало недосягаемой добродетели, которая сопутствует этой даме и поныне? И разве добродетель помешала ей дать первоначальное воспитание Такому-то и Такому-то (и он назвал имен пять или шесть), да и сам я, собственной персоной, в свое время не отказался воспользоваться ее уроками; и не исключено, что сейчас она намерена позаботиться о просвещении вот этого молодого человека, – закончил он, указывая на меня.
При этих словах я так покраснел, что, взгляни он на меня, он сразу бы заметил, что попал не в бровь, а в глаз.
– Или она полагает, – продолжал он, – что, прячась за спиной своего Платона, в котором ничего не смыслит и которому вовсе не следует, она будет безнаказанно назначать мужчинам свидания и морочить нам голову своей добродетелью, словно нас так же легко одурачить, как иных наивных юношей, не знающих ни числа, ни характера ее похождений и воображающих, что служат некоей беспорочной богине и покоряют сердце, не знавшее любви!
Эта меткая характеристика моих отношений с госпожой де Люрсе окончательно развеяла все сомнения насчет справедливости язвительных речей Версака. Я со стыдом понял, что был обманут. И, еще не зная как, я твердо решил наказать маркизу за то, что она старалась возвеличить себя в моих глазах. Если бы я строже судил себя самого, то признал бы, что попал в ловушку по собственной вине и что хитрости, к каким прибегла госпожа де Люрсе, свойственны всем женщинам вообще, – словом, что в ее поступках не больше коварства, чем в моих – глупости. Но такая мысль была либо слишком обидна для меня, либо выше моего разумения. «Как! – говорил я сам себе, – уверять, что я первый, кого она полюбила! Так недостойно злоупотреблять моей доверчивостью!» Между тем как я предавался сим неприятным мыслям, госпожа де Мелькур отвергла нападки Версака на госпожу де Люрсе и спросила, почему он так зло высмеивает ее, тогда как все считают их добрыми друзьями?
– Я делаю это исключительно в интересах справедливости, – ответил он. – Я не переношу лицемерных женщин, которые позволяют себе любые вольности, а сами без конца обвиняют в распутстве других, да еще твердят на все лады о своей добродетели, пытаясь обмануть весь свет. Я во сто раз больше уважаю женщин, распутничающих открыто; в них, по крайней мере, одним пороком меньше. И кроме того, должен вам сказать, что эта Люрсе сыграла со мной весьма злую шутку, злее и придумать трудно. Вы знаете госпожу де…? Очаровательное создание, достойное того, чтобы им заняться! Я представился, был принят, меня выслушивали благосклонно – словом, я чувствовал, что был убедителен. И что же? Является эта особа, и на сцену сейчас же выступают опасения, угрызения, сомнения; она внушает молодой женщине, что та губит себя, что я изменник, болтун и бог знает что еще. Словом, напустила такого дурацкого страху, что мы поссорились на целых три дня, и только сегодня я был возвращен из опалы. Скажите сами, разве такое прощают?
Рассказав еще несколько историй про госпожу де Люрсе, чтобы получше разжечь мое негодование против нее, он ушел. Госпожа де Мелькур заметила сильное впечатление, произведенное на меня речами Версака; не подозревая истинной причины этого, она пыталась переубедить меня, но ничего не достигла, и я отправился к госпоже де Люрсе с намерением отплатить ей самыми оскорбительными знаками презрения за нелепое понятие о ее добродетели, которое она сумела мне внушить.